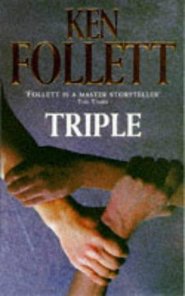По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мир без конца
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Доброе утро, мама.
Петранилла поцеловала сына в лоб.
– Ты похудел. – От материнской опеки было никуда не деться. – Тебе хватает еды?
– Соленой рыбы и каши у нас в достатке.
– Чем ты озабочен? – Она всегда видела сына насквозь.
Годвин рассказал матери о «Книге Тимофея».
– Хочу зачитать братии главу на общем собрании.
– Думаешь, остальные тебя поддержат?
– Теодорик и молодые монахи – несомненно. Многие из них недовольны тем, что постоянно видят вокруг себя женщин. Ведь они уходили от мира в мужское сообщество.
Мать одобрительно кивнула.
– Это выведет тебя в вожаки. Великолепно.
– Кроме того, меня ценят за горячие камни.
– Какие камни?
– Я ввел новые правила на зиму. В студеные ночи перед утреней каждому выдают горячий, завернутый в тряпку камень. Теперь никто не обморозится.
– Очень умно. Но все же убедись в поддержке, прежде чем выступать.
– Конечно. Знаешь, это все в духе того, чему нас учили в Оксфорде.
– А именно?
– Человек слаб, нельзя полагаться на собственный разум. Мы не можем надеяться понять сей мир, нам суждено лишь изумленно взирать на творение Божье. Истинное знание приходит лишь в откровении. Мы не должны подвергать сомнениям принятую догму.
Петранилла смотрела недоверчиво, как и прочие миряне, которым ученые люди пытались объяснить высокую философию.
– В это вот верят епископы и кардиналы?
– Да. Парижский университет запретил труды Аристотеля и Фомы Аквинского как раз потому, что они основаны не столько на вере, сколько на разуме.
– А такие рассуждения помогут тебе войти в милость к вышестоящим?
Лишь это мать и заботило. Она хотела, чтобы ее сын стал приором, затем епископом, архиепископом, даже кардиналом. Годвин хотел того же, но надеялся, что не столь циничен в своих устремлениях.
– Уверен.
– Хорошо. Но я не за тем к тебе пришла. Твоего дядю Эдмунда постиг тяжелый удар. Флорентийцы грозятся перебраться в Ширинг.
Годвин потрясенно ахнул:
– Дядя же разорится.
Впрочем, он пока не понимал, зачем мать пришла с этим известием к нему.
– Эдмунд надеется, что они останутся, если мы благоустроим шерстяную ярмарку, и прежде всего если снесем старый мост и построим новый, шире прежнего.
– Дай угадаю – дядя Антоний отказал?
– Да, но Эдмунд не сдается.
– Хочешь, чтобы я поговорил с Антонием?
Петранилла покачала головой:
– Его ты не переубедишь. Но если речь об этом зайдет на вашем общем собрании, ты должен поддержать новый мост.
– Пойти против дяди Антония?
– Всякий раз, когда старики будут отвергать дельные предложения, в тебе должны видеть вожака тех, кто ратует за новизну.
Годвин восхищенно улыбнулся.
– Мама, откуда ты столько знаешь про политику?
– Я тебе объясню. – Петранилла отвернулась и уставилась на большую розетку на восточном торце, перенесясь мыслями в прошлое. – Когда мой отец начал торговать с флорентийцами, видные горожане Кингсбриджа решили, что он выскочка. Они задирали носы перед ним и его родными и делали все, чтобы помешать ему осуществить его затею. Моя мать к тому времени умерла, я была подростком, и отец выбрал меня в наперсницы. – Ее лицо, обычно бесстрастное, словно застывшее, исказили горечь и обида; глаза сощурились, губы искривились, щеки горели от перенесенного некогда стыда. – Он понял, что не избавится от пренебрежительного отношения, если не подомнет под себя приходскую гильдию. И вот как мы решили действовать. – Петранилла перевела дыхание, будто вновь собирала силы для длительной войны. – Мы ссорили вожаков между собою, натравливали одну партию на другую, заключали союзы, затем их разрывали, беспощадно топили противников и использовали сторонников, покуда они были нам удобны, а потом бросали. Потребовалось десять лет, но в конце концов отец стал олдерменом гильдии и самым богатым человеком города.
Мать уже рассказывала Годвину о деде, но никогда еще не была столь откровенной.
– Так ты ему помогала, как Керис помогает Эдмунду?
Петранилла криво усмехнулась:
– Верно. Вот только когда Эдмунд перенял дело, мы уже стали видными горожанами. Мы с отцом поднялись на гору, а брату просто осталось спуститься по противоположному склону.
Их беседу прервал Филемон, вошедший в собор из внутреннего дворика. Высокий, с костлявой шеей, вышагивавший птичьей походкой, он нес метлу: в обязанности двадцатидвухлетнего служки входила уборка. Филемон казался взволнованным.
– Я искал тебя, брат Годвин.
Петранилла сделала вид, что не замечает его нетерпения.
– Здравствуй, Филемон. Разве тебя еще не сделали монахом?
– Не могу внести необходимое пожертвование, мистрис Петранилла. Я ведь из скромной семьи.
– Но ради благочестивых послушников аббатство не раз отказывалось от пожертвований. А ты служишь уже много лет, платят тебе или нет.
– Брат Годвин предлагал меня постричь, но некоторые старшие братья были против.
Петранилла поцеловала сына в лоб.
– Ты похудел. – От материнской опеки было никуда не деться. – Тебе хватает еды?
– Соленой рыбы и каши у нас в достатке.
– Чем ты озабочен? – Она всегда видела сына насквозь.
Годвин рассказал матери о «Книге Тимофея».
– Хочу зачитать братии главу на общем собрании.
– Думаешь, остальные тебя поддержат?
– Теодорик и молодые монахи – несомненно. Многие из них недовольны тем, что постоянно видят вокруг себя женщин. Ведь они уходили от мира в мужское сообщество.
Мать одобрительно кивнула.
– Это выведет тебя в вожаки. Великолепно.
– Кроме того, меня ценят за горячие камни.
– Какие камни?
– Я ввел новые правила на зиму. В студеные ночи перед утреней каждому выдают горячий, завернутый в тряпку камень. Теперь никто не обморозится.
– Очень умно. Но все же убедись в поддержке, прежде чем выступать.
– Конечно. Знаешь, это все в духе того, чему нас учили в Оксфорде.
– А именно?
– Человек слаб, нельзя полагаться на собственный разум. Мы не можем надеяться понять сей мир, нам суждено лишь изумленно взирать на творение Божье. Истинное знание приходит лишь в откровении. Мы не должны подвергать сомнениям принятую догму.
Петранилла смотрела недоверчиво, как и прочие миряне, которым ученые люди пытались объяснить высокую философию.
– В это вот верят епископы и кардиналы?
– Да. Парижский университет запретил труды Аристотеля и Фомы Аквинского как раз потому, что они основаны не столько на вере, сколько на разуме.
– А такие рассуждения помогут тебе войти в милость к вышестоящим?
Лишь это мать и заботило. Она хотела, чтобы ее сын стал приором, затем епископом, архиепископом, даже кардиналом. Годвин хотел того же, но надеялся, что не столь циничен в своих устремлениях.
– Уверен.
– Хорошо. Но я не за тем к тебе пришла. Твоего дядю Эдмунда постиг тяжелый удар. Флорентийцы грозятся перебраться в Ширинг.
Годвин потрясенно ахнул:
– Дядя же разорится.
Впрочем, он пока не понимал, зачем мать пришла с этим известием к нему.
– Эдмунд надеется, что они останутся, если мы благоустроим шерстяную ярмарку, и прежде всего если снесем старый мост и построим новый, шире прежнего.
– Дай угадаю – дядя Антоний отказал?
– Да, но Эдмунд не сдается.
– Хочешь, чтобы я поговорил с Антонием?
Петранилла покачала головой:
– Его ты не переубедишь. Но если речь об этом зайдет на вашем общем собрании, ты должен поддержать новый мост.
– Пойти против дяди Антония?
– Всякий раз, когда старики будут отвергать дельные предложения, в тебе должны видеть вожака тех, кто ратует за новизну.
Годвин восхищенно улыбнулся.
– Мама, откуда ты столько знаешь про политику?
– Я тебе объясню. – Петранилла отвернулась и уставилась на большую розетку на восточном торце, перенесясь мыслями в прошлое. – Когда мой отец начал торговать с флорентийцами, видные горожане Кингсбриджа решили, что он выскочка. Они задирали носы перед ним и его родными и делали все, чтобы помешать ему осуществить его затею. Моя мать к тому времени умерла, я была подростком, и отец выбрал меня в наперсницы. – Ее лицо, обычно бесстрастное, словно застывшее, исказили горечь и обида; глаза сощурились, губы искривились, щеки горели от перенесенного некогда стыда. – Он понял, что не избавится от пренебрежительного отношения, если не подомнет под себя приходскую гильдию. И вот как мы решили действовать. – Петранилла перевела дыхание, будто вновь собирала силы для длительной войны. – Мы ссорили вожаков между собою, натравливали одну партию на другую, заключали союзы, затем их разрывали, беспощадно топили противников и использовали сторонников, покуда они были нам удобны, а потом бросали. Потребовалось десять лет, но в конце концов отец стал олдерменом гильдии и самым богатым человеком города.
Мать уже рассказывала Годвину о деде, но никогда еще не была столь откровенной.
– Так ты ему помогала, как Керис помогает Эдмунду?
Петранилла криво усмехнулась:
– Верно. Вот только когда Эдмунд перенял дело, мы уже стали видными горожанами. Мы с отцом поднялись на гору, а брату просто осталось спуститься по противоположному склону.
Их беседу прервал Филемон, вошедший в собор из внутреннего дворика. Высокий, с костлявой шеей, вышагивавший птичьей походкой, он нес метлу: в обязанности двадцатидвухлетнего служки входила уборка. Филемон казался взволнованным.
– Я искал тебя, брат Годвин.
Петранилла сделала вид, что не замечает его нетерпения.
– Здравствуй, Филемон. Разве тебя еще не сделали монахом?
– Не могу внести необходимое пожертвование, мистрис Петранилла. Я ведь из скромной семьи.
– Но ради благочестивых послушников аббатство не раз отказывалось от пожертвований. А ты служишь уже много лет, платят тебе или нет.
– Брат Годвин предлагал меня постричь, но некоторые старшие братья были против.