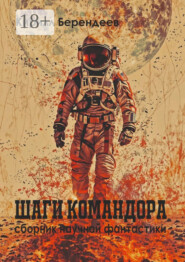По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дневник Луция Констанция Вирида – вольноотпущенника, пережившего страну, богов и людей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сотник был бледен, но держался достойно, как и подобает его новому званию. Рассказывать начал сухо, не вдаваясь в детали. По его словам выходило, что главный враг Рима, Аларих, ныне упокоился с миром. Едва Арминий произнес это, как курион шумно выдохнул, а Клементий осенил себя крестом. Я же пододвинул ближе листы, на которых записывал слова центуриона.
После захвата Рима, готы с большой добычей разделились. Малая часть отправилась к Равенне, не то пугать императора, не то сдерживать его вылазки. Остальные двинулись на юг Италии, к Неаполю, грабя города и села. Но главного, чего искал Аларих, ни в Тускане, ни южнее не находил. Войску требовался провиант, а и без того обнищавшие италийские города предоставить ничего не могли. Тогда он намерился отправиться в Сицилию, а уже оттуда в Африку. Но его постигла та же неудача, что и приснопамятного Спартака: флот разметала буря. Аларих попытался вернуться, точно Ганнибал, понимая, в какую ловушку он угодил. Равенну держать в осаде он не мог, а взять наскоком тем паче. Потому, снова уподобясь карфагенянину, грабил юг полуострова, вымещая не ней свою злобу, пока внезапно не умер. Детей у Алариха не осталось, а его сменщик, Атаульф, понимая шаткость своего положения, начал переговоры с Гонорием. Император щедро наградил вождя золотом и оружием, но главное, пшеницей, в которой войска особенно сильно нуждались. Атаульф же пообещал августу очистить от разбойников и мятежников Италию, а после расправиться с Константином-узурпатором, уже несколько лет державшим Галлию и Иберию под своей властью.
«Узурпатор, тот самый, что захватил Британию пять лет назад?», – спросил курион, до которого, видно, доходили слухи о мятежах в этой дальней провинции. Арминий кивнул, пояснив, что и сам мало знает о том, что происходит так далеко. Впрочем, слухи о мятежах на острове изредка просачивались и в нашу глушь, мы слышали, будто сами римские легионы восстали, провозгласив собственного императора, к ним присоединились прибывшие из-за Германского океана варвары. После все они присягнули некоему солдату Константину, ставшему императором. После его власть признали в Галлии и Иберии, префекты провинций бежали, войска приветствовали самозванца, а местные жители и варвары, набегам которых подвергалась Галлия не один десяток лет, вливались в его войско. Гонорий не раз пытался осадить мятежника, но войск и влияния у него не хватало, потому приходилось терпеть. И только теперь у августа появилась возможность поквитаться с самозванцем.
«Атаульф согласился изгнать Константина или убить его взамен на обещание создать на освобожденных землях государство готов. Теперь готы, узнав об этом, направляются в его армию», – произнес, наконец, Арминий. Наступило долгое молчание.
«Иными словами, империя отдает захваченные земли тому, кто их все равно приберет к рукам, – кусая губы, произнес Евсевий. – Но это… это же глупость какая-то. Какая разница, кто там правит? Если только… только из желания отомстить…».
«Именно так показалось и мне», – кратко ответил Арминий, выдохнув.
Я спросил у центуриона, что готы в гарнизоне думают о собственном государстве. На что сотник презрительно фыркнул:
«Рим наша родина», – ответил он, после чего, вдруг заторопившись, покинул нас, оставшихся смотреть ему вслед в явной растерянности.
Седьмой день перед идами мая (9 мая)
Курион не избавился от своего болезненного желания уплатить мыт. После завершения сева, он решил съездить, если не в столицу диоцеза, то хоть в соседний город, спросить жителей, поговорить с куриалами, коли те, как у нас, еще не разбежались. Евсевия долго отговаривали, пусть дороги и находятся под защитой гуннов, но в лесах бесчинствуют разбойники, да и готские отряды, вроде виденного недавно, тоже могут принести беду – кто знает, что на уме у северян? Тем более, когда они идут сражаться за свою обретаемую родину.
Евсевий слушал, но не слышал. Уже в самом начале мая он отправился в путь, в котором сопровождать его взялся Арминий с отрядом в десять человек; я хотел увязаться вслед, но Евсевий решительно возразил, заметив, что на мне будет лежать большая, чем обычно, ответственность, о чем писцу и счетоводу в одном лице следует помнить.
Вернулся он уже через четыре дня, усталый и какой-то всклокоченный, что немудрено, последний раз в соседний город курион выбирался четыре года назад, после памятного многим наводнения. Хотя его рассказ, тоже мной занесенный на бумагу (негласно мы стали вести летопись событий города, прерванную во времена Юлиана), показался весьма примечательным.
Евсевий пробыл всего день у соседей, узнав главное – те тоже не платили налоги и не собираются их отдавать, ежели мытари прибудут. Урожай в этом году обещался невеликий, надо экономить. Впрочем, если прибудет воинство…
Узнав о поселенцах-гуннах, тамошний голова пожалел Евсевия, это как заноза под кожей, пока не гниет, не напоминает. У соседей такой не имелось, а вот численность гарнизона позволяла и бахвалиться своей независимостью, хотя некоторые готы собирались уходить на большую войну. Этому обещанию можно поверить – у императора не останется иного выхода. Кем он будет воевать с огромным готским воинством? Гуннами? А согласятся ли те снова вступать в кровопролитье за чужие устремления? Да, гунны часто бивали готов, они сильнее на поле брани и умнее в переговорах, но за чванство Гонория никто сражаться не станет.
Пересказывая все это, курион не мог не заметить еще одной разницы меж нашими поселениями.
«У них даже фонтаны сохранились, один большой, теперь именуемый „Слава Посейдона“, в самом центре города. У них горожане богаче и живут, ни на кого не оглядываясь. И еще, – он наклонился ко мне, велев ничего больше не писать: – У них не верят больше в божественную троицу, даже в сына-пророка, как когда-то раньше».
«А в кого же тогда?», – спросил я. Евсевий хмыкнул.
«В серп, естественно», – ответил он.
Шестой день перед календами июля (26 июня)
Начало лета выдалось скверным, дожди зарядили с конца мая и почти не прекращались. Урожай гнил на корню, огурцы не успевали вырасти, желтея и чернея, яблоки червивели зелеными. Да и пшеница вся полегла под тяжелыми ливнями. Отец Клементий служил обедни с утра до ночи, но пользы от них не виделось. И без Септимия складывалось ощущение, будто небеса нас прокляли. Может, старания попа этому поспособствовали.
Септимий, конечно, не остался безучастен. Но его не просто слушали, к нему присоединялись. Люди смотрели на небо, на духоту, дни стояли очень жаркими, а бездвижные тучи то и дело проливались дождем. Никто не мог понять, откуда берется столько влаги. Пеняли на чуждых богов и переставая им молиться, пытались найти спасение в богах прежних, чуть не написал старых.
Признаться, я сам, прежде почитавший себя человеком разумным, начал вдаваться в религиозный мистицизм, порой заставал себя за безучастной молитвой то Сатурну, то Минерве, когда гложущие воспоминания воскрешали образ Энея. А то и Салюте, когда размышлял о превратностях собственной судьбы. Я не знал, как правильно им молиться, ибо не был обучен, но старался, надеясь, что чистотой и прилежанием заслужу благосклонность.
Иногда прерывался, напоминая, что никогда прежде не верил столь отчаянно даже в великого бога времени, с чего бы теперь служить ему. Но тотчас обрывал себя и старательно доводил молитву до конца, столь бы странной она ни казалось.
Хельга снова стала чаще бывать у гуннов, больше того, осмелилась задавать вопросы шаману, который против обыкновения охотно ей отвечал. Больше того, даже приглашал за запретную черту. Этим варварам даже продолжавшееся столь долго и яростно ненастье казалось, шло на пользу только, трава выросла на пастбищах почти в человеческий рост, их животные блаженствовали, набирая вес на глазах. Гунны радовались, снисходительно поглядывая не загибающихся землепашцев. Как тут ни вспомнить первопричину вражды Каина к Авелю, но только зеркально отраженную в нашем времени и месте. Даже болезни обходили гуннов стороной. Неудивительно, что они привечали Хельгу, ибо в ней рассчитывали найти то слабое звено перед ними, через которое мы поддадимся и признаем их власть.
Если они на это рассчитывают, конечно.
Восьмой день перед идами сентября (6 сентября)
Скверное дело, урожая мы почти не собрали. Большая часть пшеницы сгнила на корню, она полегла еще в июне, а когда пришло время жатвы, ее колосья уже или осыпались или их погрызли мыши, мелкие бестии, немыслимо расплодившиеся за жаркое, влажное лето. Видимо и они, а не только насекомые, самозарождаются от гнили, как писал мудрец Аристотель.
Но хуже мышей и гнили оказалось римское нашествие. Поистине, мы на себе испытали все то, к чему принуждали многих варваров: грабежи, поборы и жестокость, невзирая на то положение, в котором они находились. Конечно, история показывала, что подпав под влияние Рима, варвары оказывались облагодетельствованы законами, которые позднее почитали за высшую справедливость, и культурой, впитываемой с наслаждением; взять хотя бы наших готов, которые, за малым исключением, с искренним и неподдельным уважением говорили о статусе римского гражданина, что получили их отцы и деды и который с гордостью носили они, частенько упрекая собратьев с севера, не понимающих или не стремящихся к новому положению. Вспомнить того же Видигойю и его поступок, лишний раз доказывающий, насколько он оставался римлянином до последнего вздоха, не в пример многим тем, кто получил это звание по праву принадлежности к италикам. Но я говорю о первом, часто не слишком благоприятном впечатлении от могущества Рима, от силы его, пока еще лишенной славы и величия.
Так и прибывшие от префекта две центурии устроили у нас светопреставление. Арминий не мог не открыть ворота одетым в черное, ровно воронье, конникам, пусть и в тяжелом вооружении: это были свои, хоть и повели они себя, ровно чужие. От ворот командир прибывших в богатых, но потрепанных дорогой одеждах приказал отворять амбары – налоги будут браться и за прошлый год и вперед за нынешний. Вышедший вперед курион возмутился было, но его тотчас отогнали спешившиеся всадники – теперь они могли наводить порядок, пока Арминий, ошарашено наблюдая за ними, не спустился со стены. Римляне вели себя, точно дикари – хватали все, что видели, не обращая внимания на просьбы центуриона вести себя подобающе. Знатный всадник, приведший воинство, наконец, не выдержал, но прикрикнул на начальника гарнизона. Тот довольно учтиво спросил, с чего такая спешка и потребность, не внося в списки, изымать едва ли не все. Да и согласовали ли эту операцию с диоцезом, ведь именно оттуда приезжают сборщики налогов. На что получил лаконичный ответ:
«Приказ префекта Рима взять дополнительные единовременные сборы с провинций. Город необходимо возродить лучше прежнего, а еще там люди голодают. Нам срочно требуется провизия и скот, чего тут непонятного?»
Курион попросил разрешения ознакомится с новыми поборами, всадник просто пнул его. Солдаты восприняли это как сигнал, начали избивать всех встречных. Досталось и мне, я получил поперек спины мечом, спасибо, хоть плашмя. Арминий дольше терпеть не стал, крикнул своих. Через минуту разгорелась нешуточное сражение, в котором явный перевес не сыграл роли, скорее, отчаянная решимость защитить крохи, тяжелым трудом нажитые. Воинство всадника потеряло двоих убитыми и нескольких ранеными, ранив троих наших, в том числе Арминия, по счастью, несильно, в плечо.
Тут только прибывшие утихомирились. Всадник приказал забирать уже награбленное и убираться восвояси; под свист наших воинов, римляне покинули город и уехали.
Только Арминий молчал. Когда разбойники убыли, он долго хмурился, наконец, не выдержав, произнес:
«Знаю, сам римлян. Они вернутся – последнее забрать и отомстить. Не у союзников же забирать, еще воевать передумают. Проще своих раздеть донага, авось смолчат».
Слышавших это передернуло, я не стал исключением. Об этой особенности Рима все мы были наслышаны еще с историй Тацита. Да и по себе прекрасно знали, сами радовались, когда от разорения соседних народов в нашем городе проводились гуляния и отменялись налоги. Впрочем, это случалось очень давно, не на моей памяти. В ту пору, когда Рим еще мог за себя постоять. Даже не вспомнить, при каком императоре это было.
Календы октября (1 октября)
В ходе разора, учиненного римскими мытарями, пострадали и гунны, когда сборщики отъехали от города, им на глаза попались богатые стада варваров. Недолго думая, те забрали, сколько смогли увести, не знаю, знали ли они, у кого угоняют или нет. Через несколько дней гуннский шаман куда-то запропал. Объяснить нам смогла только Хельга, которая и заметила его отсутствие, еще бы, теперь это ее главный собеседник. Мы бы и вовсе не узнали, пропади он хоть на год, настолько гунны жили своим уставом, а мы старательно обходили их стороной. Хельга рассказала, что гунны потеряли много лошадей и коров, а потому не могли перед долгой зимой оставаться без мяса и молока – шаман уехал просить своих о помощи. И через некоторое время он вернулся, видимо, не с пустыми руками. Хельга пояснила, что богатые союзники выдали семьям своих военачальников столько, сколько те просили, от щедрот. Нам оставалось только дивиться и завидовать.
Для многих горожан налет мытарей оказался последней каплей в долгой их череде, падавших на нас весь этот проклятый год. Уже не только Септимий, но и многие другие требовали перестать молиться чужим богам, вспомнить о своих, вернуться к истокам былого могущества и жить, как прежде. Курион проговорился насчет соседей, теперь стали кивать и на них. А те как раз совершили ответный визит, к нам прибыл куриал тамошних мастеров, посмотреть на наше житье, предложить обмен товарами и оказать помощь, когда увидел, что сотворили римляне. Их городок не подвергся подобному разорению по простой причине – сборщикам префекта попросту не открыли ворота. Когда Евсевий услышал о помощи, у него на глаза слезы навернулись, мы уж совсем запамятовали об этом стародавнем римском обычае. Как и о богах, прибывший куриал настоятельно советовал вернуться к ним, от иудейской семейки хорошего не жди, так и сказал.
Когда он уехал, в церковь продолжали ходить, разве самые упорные, числом не больше десятка. Напрасно Клементий тряс колокол, горожане мессы старательно избегали. А в один из святых и постных дней попросту избили его, стоило тому пообещать проклясть вероотступников. Две недели Клементий не показывался на людях, а потом заявил, что удручен происходящим, уповает на милость божью, да что там, всей святой троицы, и надеется, что за месяц, который он положил городу, народ одумается, вернется к истинным богам, забыв нечестивые обряды, и тогда только поп сможет простить обидчиков, которых, вообще-то, всегда и следует прощать терпеливым христианам, но тут ведь не его честь задета, но божья.
Ему надавали еще. В ответ Клементий клятвенно пообещал проклясть город самой страшной карой – а пока укрылся в причте, надежно запершись в нем, чтоб точно никто не достал. Видимо, очень уезжать не хотелось. Да и непонятно, куда бы он делся – не романизированные готы поклонялись своим богам, гунны и подавно, а до столицы диоцеза, если там еще верят в христианскую троицу, еще надо добраться.
Календы ноября (1 ноября)
Как и обещал, Клементий покинул город, как раз перед одним из важнейших празднеств правоверных – Днем всех святых. Собирался он долго, все откладывал, но его старательно подгоняли, давая понять, что более в услугах попа не нуждаются. Трудно сказать, куда он наметил путь, да и двинулся бы куда-то вовсе, кабы не визит монахов, двигавшихся из дикой, глухой к христианам Паннонии в благословенную Италию, может, даже в Рим, если все прежние напасти оставили Вечный город. На этот счет мы сами ничего сказать не могли, но слухи до монахов доходили самые разные, и что теперь его защищают христианизированные готы и что те же самые, но только не верующие в единую троицу варвары его снова разорили, и еще много-много самого удивительного, о чем незамедлительно поведали бы городу, не отпади он предусмотрительно от лона церкви. Посему докладывали они обо всем этом Клементию, да так усердно, что он и предложил им заночевать, а после уговорил остаться еще ненадолго, ибо слушателей у него не осталось вовсе. Горожане за последние недели щедро изрисовали церковь фаллосами и перевернутыми крестами, изгоняя поповское семейство; невзирая на это монахи остановились в причте, где и пробыли почти неделю. Видимо, уговаривая Клементия присоединиться в их походе в Италию, невероятно далекую даже для давшего обет подвижничества священнослужителя. Теперь подвигаться ему и пристало.
Напоследок Клементий объявил, что уходит, чем сорвал долгие, продолжительные аплодисменты, видимо, первые в его жизни. Сообщил, на всякий случай, куда направляется, а еще то, что с ним уйдет истинный бог и его жена-церковь. Ему снова поаплодировали, а после я зачем-то вылез, подзуживая, спросил, чего ж это он такой праведный, истинный христианин, а на стене причта у него Сатурнов серп висит. Клементий даже побледнел от злости, распалившись, выдал все, что думает о мирянах, а после пояснил, что это не Сатурна, но истинно православной церкви символ, полумесяц, и просьба больше их не сметь и путать. Наконец, собрался и уехал.
Теперь курион приказал горожанам думать и решать, что делать с освободившимся божьим домом.
Пятый день перед календами декабря (27 ноября)
Урожай собран, он поистине был бы смехотворен, не окажись мы перед угрозой голода. Спасибо, соседи пообещали помочь, нам уже привезли три воза провизии, главное, пшеницы и немного мяса, за что наши мастеровые пообещали отработать для подателей, где и как только возможно. Тамошний курион только рукой махнул, свои люди, как-нибудь да сочтемся. Вскоре и он сам обещал прибыть с долгом благодетеля присмотреть за нашими делами.
А Евсевий, раз уж у жителей стало времени побольше, собрал эдакую агору, в лучших традициях Перикла и Фемистокла, стал спрашивать, что делать с храмом. Народ откликнулся, горожане, едва не всем числом, прибыли на форум перед бывшей церковью, из которой Клементий предусмотрительно вынес все самое ценное, поглядывая на здание, принялись выкрикивать. Галдеж поднялся невообразимый, небеса вздрогнули. Стало понятно, что так мы ничего не нарешаем, Евсевий, поворошив для верности Тацита, ибо чего только в «Анналах» ни сыщешь, велел записываться в ораторы и готовить урны и шарики для голосования. Подобного у нас давно не проводилось, народ отвык от таких мероприятий и теперь постигал позабытую науку с большой охотой. Потому неудивительно, что в ораторы записалась чуть не половина сограждан. Тем более, не странно, что среди них оказались и матроны, доселе такого права лишенные. Под нажимом невестки куриона, тоже Марии, тоже крещеной, правом голоса Евсевий на время одарил и женщин. Правда, выступать решились всего две, понятно, кто первая, но вот вторая удивила всех. В ораторы записалась и Хельга. Когда ее начали спрашивать, чего она задумала, супруга сотника старательно молчала, либо просила подождать до самого момента ее выступления. Интриговала. Но многие догадались, куда она будет клонить.
Для начала, не сговариваясь, согласились, что вести заседания будет курион, куда ж без него? – а записывать речи и решения тот, кто всегда этим и занимался, то есть, я. После, так же по определению решили использовать церковь для нужд старых богов, отказавшись от христианства.
Теперь предстояло выбрать главного бога в храм. Евсевий хотел предложить Юпитера, ибо ему предназначался храм изначально, но на куриона неожиданно зашикали, так громовержец оказался в общем списке. А решение о том, кому горожане станут поклоняться, будет принято на общем голосовании, самым римским из всех возможных способов общения с богами.
Всякий здравомыслящий человек после этого обходил бы наш городок десятой дорогой, но тогда нам было не до здравомыслия. Вопрос виделся необычайно серьезным, и решить его полагалось именно так и никак иначе. Ораторы долго выстраивались в очередь, никто не хотел говорить первым, но все последним, потому тянули жребий. После принялись говорить.