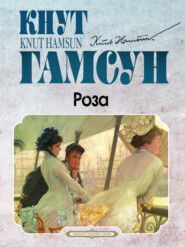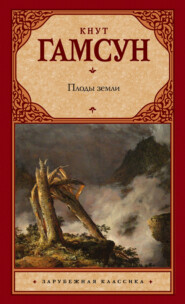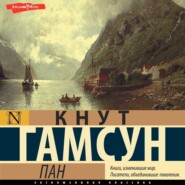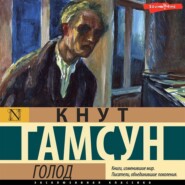По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дети времени (Дети века)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Телеграфист Бардсен был замечательный человек. Он сидел и играл на почерневшей звонкой виолончели, когда вошел поручик.
Тогда он встал и поклонился. Когда он услышал, зачем поручик пришел, он ответил:
– Непременно, господин поручик, если вы этого желаете.
Это была не ирония, а вежливость, как будто бы поручик по-прежнему был важной персоной в Сегельфоссе.
Поручик был совершенно так же вежлив и сказал, что он был очень благодарен.
Когда поручик вышел, телеграфист подошел к полке с занавеской, выпил несколько глотков прямо из горлышка и опять взялся за виолончель. Его широкие плечи так и ходили во время игры.
Дни протекали. Поручик старел и старел, однако, держался гордо. Но какое горе заставляло седеть волосы господина Хольменгро, у которого не случилось никакого несчастья? Это было странно. Хлопоты похорон не могли утомить его так, а смерть фру Адельгейд не касалась его, она была не его жена.
Феликс уехал. Феликс не хотел ничему учиться, объяснял отец, поэтому он должен был вернуться к своим родным в Мексику. Жаль было смотреть, как господин Хольменгро седел от огорчения. По правде говоря, никому в Сегельфоссе не было сладко жить. Даже Давердана ходила с опущенной головой и начинала скучать. Даже Давердана со своей юностью и рыжими волосами. Она стояла один раз у колодца за постройками. И тут же стоял почему-то господин Хольменгро, и Давердана плакала.
Экономка иомфру Сальвезен подошла к ним и видела это.
«Что же это, свет, что ли, перевернулся?» – подумала она. Потом вдруг сообразила: «А как легко могло бы случиться, что и я стояла бы перед господином Хольменгро и плакала!»
Да, всем жилось несладко. У Пера-лавочника сделался удар. У того самого Пера-лавочника, который постоянно взвешивался и боялся похудеть. У него одна сторона тела отнялась, и окружной врач Мус объявил, что следующий удар убьет его окончательно. Да, так сказал окружной врач Мус. Перу-лавочнику казалось тоже, что свет перевернулся. Он ничего не мог понять. Одна половина его тела, которая лежала тут же на его кровати, умерла? Он всю жизнь работал и не мог представить себе жизнь без работы. Он был, так сказать, в полном расцвете сил; он никогда не умел так хорошо считать, как теперь. Он никогда не торговал так хорошо шелковыми платками, машинными чулками, висячими лампами с подвесками… Неужели это конец? Никому не нужно было самому работать по вечерам. Все можно было купить у Пералавочника! Он продавал готовые грабли, топорища, жженый и молотый кофе в красивой упаковке, продавал масло в жестянках из Америки. В старину приходилось самому резать табак – Пер-лавочник и этому помог. Он продавал готовый резаный табак. А сапоги? Приходил, бывало, Нильс-сапожник в усадьбу и на весь год нашивал сапог на всю семью. И сам дубил кожу, и сам смолил нитки, и чего он только не делал, этот Нильс-сапожник? Теперь Пер-лавочник торговал городскими сапогами; они были тонки, как сукно, и блестели как зеркало.
Поэтому нельзя сказать, что Пер-лавочник не делает ничего. Он работал все время и вот вдруг слег в постель. Впрочем, он продолжал вести свою торговлю через жену и детей. Он властно распоряжался ей в своей постели, и дело не стояло.
Когда он был здоров, он умел внушить к себе почтение. Он и теперь поступал так же. Когда ему нужно было кого-нибудь, он стучал палкой в пол. Он приглашал доктора, приглашал знахарей и знахарок, он пил рыбий жир и оподельдок, накладывал холодные компрессы – это было, впрочем, хуже всего – и вот, наконец, он постучал палкой и приказал позвать пастора, – не поможет ли это?
– Со мной случилась неприятность, хуже которой на свете нет.
Пастор Лассен утешал его тем, что одна половина у него осталась здоровой и что он остался жив.
– Жив? Не-ет. Видите вот эту палку? Я столько же жив, сколько она.
Чтобы смягчить его, пастор Лассен говорил ему о Христе и его страданиях, что была его болезнь в сравнении с этим! Он должен был благодарить Бога за здоровую половину.
– Да что вы все время говорите о здоровой половине? – рассердился больной. – Я вам скажу, что и она у меня теперь не вполне здорова.
И Пер из Буа указал на недостатки своей здоровой половины.
– А посмотрите на это?
И он взял онемевшую руку и швырнул ее об стену, чтобы пастор убедился в том, что она ничего не чувствует.
– Вот об этой-то половине я и говорю. Вот она лежит тут, а если бы я не видел ее, я не знал бы, что она у меня есть. Какой толк в ней? Даром только хлеб ест.
Он поднял неподвижную руку, дергал ее, вертел.
– Это называется рукой? Тьфу! Прости мое согрешение! И он опять бросил ее об стену.
Пастор Лассен опять утешал его и чтобы доставить ему удовольствие, называл его Иенсен.
– Видите ли, милейший Иенсен, вы не можете жаловаться, чтобы вам не везло в жизни. Вам всегда везло. Надо потерпеть теперь немного. У всех бывают неприятности.
Больной терпеливо повернулся и спросил:
– Нет, вы, кажется, не можете мне помочь? Неужели вы не знаете никакого средства? Вы, пасторы, знаете то, что мы, простые смертные, не знаем.
– Конечно, конечно, – ответил пастор, – средство есть.
И он решил исповедать Пера-лавочника, в действительности и просто для того, чтобы узнать, что это был за человек в глубине души.
Он встал, тщательно запер дверь и вернулся к больному. Пер-лавочник думал, что это приготовление к какому-нибудь таинственному заклинанию и терпеливо ждал. Пастор пристально смотрел ему в глаза.
– Я спрашиваю вас, Иенсен, как духовник, не согрешили ли вы когда-нибудь этой больной рукой?
Пер-лавочник смотрел на него разинув рот.
– Согрешил? Рукой?
– Может быть, вы обвесили или обмеряли кого-нибудь. Я спрашиваю вас, Иенсен, как духовник.
Рот Пера-лавочника закрылся сам собой, напряженное ожидание перешло в ярость, он схватил палку.
– Обвешивал! Обмеривал! – закричал он.– Что? Так вот зачем ты пришел? Убирайся домой и говори там речи своему отцу и своим людям. Ты, кажется, с ума сошел!
Он так разозлился на духовника и господина Лассена, что называл его Ларсом и говорил ему ты. Пастор ушел. Но больной крикнул ему вслед.
– Кланяйся отцу, да скажи ему, чтоб он долги свои платил!
Пастор Лассен вошел в комнату родителей и устроил им небольшую сцену.
– Что же будет с Даверданой? Сколько времени она станет все откладывать свою свадьбу? А ты что сам будешь делать, скажи пожалуйста? Все так и будешь сидеть на этом участке и отдалживаться всем и каждому? Пер-лавочник требует деньги!
– Ты должен устроить это сам! – продолжал он. У меня нет денег, чтобы помочь тебе, иначе я тебе все отдал бы. Но все, что я зарабатываю, идет на книги и учение. Ищи выхода сам.
– Да, конечно, – сказал отец.– Но это не так просто. Где же я возьму денег? Поручик не хочет продавать мне участок. Приходится оставаться арендатором.
– Ты его спрашивал?
– Я спрашивал господина Хольменгро. Молание. Сын раздумывал.
– Это Хольменгро вряд ли сделает. Во всяком случае, я не хочу, чтобы вы портили мне карьеру здесь.
– Конечно, ты не хочешь этого. Чего это ты не хочешь, чтобы мы портили?
– Моей карьеры.
– Конечно, конечно. Я пойду сегодня же к Хольменгро и поговорю с ним.
Поручик перестал ездить верхом на свою утреннюю прогулку. Он ходит теперь пешком. Это удивляет всех, кроме него самого. Ведь лошади по-прежнему стоят у него в конюшне, а лопарь Петер ездит на них каждый день для того, чтобы они не застаивались. Отчего поручику не ездить лучше самому?