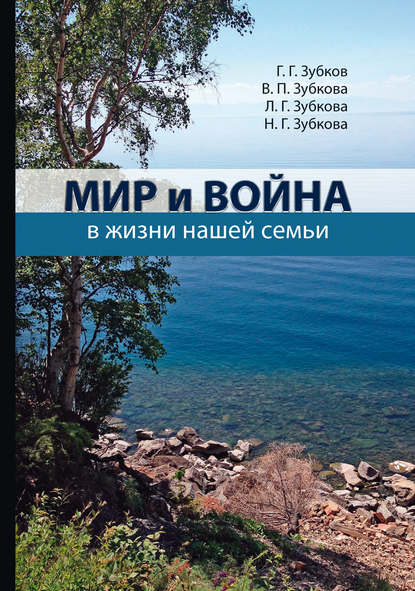По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мир и война в жизни нашей семьи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Прошли мы, наверное, с час, начало смеркаться. Вошли мы в большой лес. Стало еще темнее. С темнотой приходит страх. Вспомнилось мне, как мы сегодня ночью испугались креста. Как только я это вспомнила, мне иногда стало казаться, что за деревьями кто-то стоит. Но я уж знаю, что мне это только кажется. И потому внушаю себе: нечего бояться. Когда Надежда меня догнала, прошу ее, чтобы она уж не отставала. И говорю, давай пойдем побыстрее. Слыша сзади шаги Надежды и дыхание двух коров, я перестала бояться. Но взгляд напряженный, смотрю всё время вперед на дорогу. Прошли мы так немного плотной кучкой, как мне показалось, что впереди что-то сверкает, а уж совсем стемнело. Сперва я подумала, что, может, это огоньки из деревни сквозь лес просвечивают. Стала шире смотреть и влево, и вправо. Сверкает только впереди на дороге.
Я уже не спускаю глаз с этих светящихся точек, и эти точки тоже не двигаются. И тут я вспомнила, что утром мимо базара прошли два человека в сапогах с высокими голенищами. С ружьями – наверное, охотники. И упомянули что-то о волках. Как только я вспомнила это, я сразу поняла, что это сверкают глаза волков. Я так испугалась! С детства вошло в мою голову, что самое страшное – это волки. Ещё когда нянька мне рассказывала сказку о Красной Шапочке и Сером Волке. Да и отец мне перед этим читал, как один человек ехал зимой на лошади и еле-еле ускакал от стаи волков. Знала, что волки нападают на людей. Как только мне пришло всё это в голову, я остановилась и говорю Надежде:
– Ты видишь?
– Да, вижу. Кто-то лежит на дороге. Я давно уже вижу. Но раз ты идешь, то и я иду. Ничего тебе не говорю.
Я тоже стала различать, что на дороге большая кучка. И глаза стали различать многое. Стоим мы с Надеждой, затаив дыхание, молчим и дрожим. И испытываем тот же страх, что был утром. Глаз не спускаем с глаз волков. Волки тоже никаких звуков не подают, притаились. Наверное, думают, как на нас броситься и на кого первого. Тихо-тихо. Только очень громко стало слышно, как коровы пережевывают жвачку. И от коров пахнет молоком. Мы-то с Надеждой молчим, может быть, волки бы нас и не заметили, может быть, мы и спрятались бы от них. Но коровы-то жуют, молоком-то от них пахнет. Волки-то это всё, небось, чувствуют. Значит, вот-вот набросятся на нас.
Стоим. Замерли, даже шептаться боимся. Не шевелимся. Глаз с волков не спускаем. Вмиг пролетела в голове вся жизнь. Про корову я уж и забыла. Детей мне стало жалко. Как же они вырастут без меня? Страх такой напал на меня, чувствую, что я вся мокрая. Мурашки по телу бегают, волосы встают дыбом. Дрожу. Не помню уж, сколько мы как в оцепенении стояли. Но всему бывает конец. Мы стоим, не падаем. Начинаем приходить в себя. Повернулась я к Надежде. Лица в темноте не видно, но она стоит, тоже оцепеневшая. Я опять поворачиваю голову на глаза волков. Они замерли. Ну когда же они будут на нас прыгать-то, когда же, наконец, конец-то? Молчим. А коровы жуют.
Шепчу:
– Надежда, что же делать-то?
– Не знаю.
– Что ж до утра будем стоять? Давай пойдем.
– Да как только сдвинемся, так они на нас и бросятся.
Я тоже так подумала. Знаю, когда остановишься перед набросившейся на тебя собакой, она тоже остановится и замолчит. Стоит только сдвинуться или того хуже бежать, так тут же собака начинает тебя кусать. Наверное, так и волки будут делать. Мы стоим, держим за поводки коров и не знаем, что делать. Волки тоже все смотрят на нас, не шевелятся и тоже, наверное, что-то думают. Не знаю, сколько бы мы так стояли, устали мы от страха. Не знаю, думают ли что коровы. Наверное, что-то тоже думают. Ведь живые, ведь что-то соображают, едят, пьют, ходят, ложатся и когда их позовешь – подходят, откликаются – мычат. Ласкаются, лижут руки, когда им даешь хлеб. Бьют хвостом, когда больно дергаешь за соски. Ну, наверное, тоже соображают. Не знаю из каких соображений, но вдруг моя Зорька дернула за поводок, пошла вперед. Невольно и я потянулась за ней. Я испугалась при этом пуще прежнего, но все же иду за Зорькой и даже немного начинаю ее подталкивать. А сама в это время всё не спускаю глаз с волков. Надежда тоже сдвинулась и идет за нами с Зорькой. Я иду за Зорькой, как за щитом каким, и про себя говорю: «Ну иди, иди, милая Зорька, не бойся, мы с тобой». Говорю и всё вперед смотрю. Совсем уже подходим близко. Волки не движутся. Зорька моя идет как ни в чем не бывало, хвостом помахивает. Меня им задевает. Как бы говорит: «Не бойся, иди, ничего не будет». Я ее вроде и понимаю. Поглаживаю и не отпускаю от нее рук. Она теплая, живая, и ее тепло переходит ко мне. И всё же как бы я мысленно ни разговаривала с Зорькой, я всё время не спускаю глаз с глаз волков, а они тоже всё время смотрят на меня. Подошли мы совсем близко к волкам. Когда я стала ощущать тепло Зорьки, дрожь у меня стала проходить. Я как-то смелее стала смотреть вперед. А они стоят на месте. Страх у меня стал не такой страшный. Я как-то с ним уже свыклась. И… отвела свои глаза от волков. Стала смотреть на их тело. Думаю, что же они не шевелятся и даже хвостами не машут, разглядываю внимательнее. Подошли совсем близко. Глаза сверкают, а они совсем не движутся и даже ничуть их не слышно, не дышат. Подошли к ним уже вплотную, а они на нас не бросаются, что они не живые, что ли?
Голова Зорьки поравнялась с волками, и я вдруг сразу поняла – какие же это волки, убежали они что ль? Мы ведь и не видели, чтобы они убежали, а глаза оставили. Лежит у дороги рядом с пнем толстое и мягкое, наверное, гнилое бревно. Отошли мы от бревна, оглянулись, а оно опять сверкает.
Ну говорить вам, что мы пережили тогда, не стоит, но когда мы пришли домой, то домашние заметили, что у меня появились седые волосы.
Поседели, наверное, в то время, когда от страха волосы вставали дыбом.
После встречи с «волками» вскоре мы вышли из леса, и показались огоньки деревни.
После этого с нами уже никаких происшествий не было. Шли уже только по-светлому.
Домой пришли на третий день к вечеру. Зорька моим всем понравилась.
Я ее очень полюбила. Страх мой сблизил меня с ней. И она помогла мне перебороть его. Зорька меня тоже очень полюбила. Как только утром я входила в хлев, она мычала и помахивала хвостом. Я ей давала хлеб с солью. И садилась доить. Мы понимали друг друга. Она никогда не прижимала молоко. Она как бы помогала мне доить. Отдавала молоко до капельки. Когда я доила, она помахивала хвостом, но никогда крепко не хлестала, а только слегка касалась моей головы, как бы гладила.
Когда я ходила на полдни, я ее никогда не искала, она всегда подходила ко мне сама, пока я еще доила комолую.
Вечером Зорька домой всегда приходила самая первая. И я всегда встречала ее, угощая куском хлеба с солью.
Вот так я любила свою мечту – Зорьку. На второй год Зорька раздоилась. Кормила я ее хорошо, всегда старалась, если мало корма, всё же ей дать побольше.
И она меня отблагодарила. Стала «ведерницей». Я от нее одной надаивала по целому ведру – 10 литров за один удой. И всё же мы с ней расстались…
На следующий год в Павшине был большой пожар, в селе сгорело четыре дома. И в том числе дом дяди Мити Вуколова. А дядя Митя – это муж тети Паши – младшей сестры мамы. И вот мама с папанькой решили отдать тете Паше на погорелое место одну из трех коров. И выбор пал на Зорьку. Потому что от старых коров – Буренки и комолой – толку было мало.
Жалко было Зорьку, но если помогать, так помогать.
Первое время вечером, когда пригоняли стадо, Зорька всё время приходила к нам. И тетя Паша отводила ее к себе от нас. И даже на полдни Зорька всегда подходила к маме. И маме приходилось ее доить. Она еще очень долго не давалась доить тете Паше.
Мама работала в колхозе. Работала мама в полеводческой бригаде. Она всегда была очень трудолюбива и все работы всегда выполняла очень быстро и качественно.
Из-за плохого слуха мама не принимала участия в разговорах совместно работающих с ней колхозниц. А они, беседуя, конечно, приостанавливали работу, и иногда надолго. Тем временем мама уйдет от товарок далеко вперед.
– Саш! Ты бы отдохнула. Послушала бы о чем говорят-то.
– Да что отдыхать-то. Я ведь не разбираю, о чем вы там говорите-то. А сидеть так я не могу.
В первые годы в колхозе работали неважно. Были годы, когда колхозники деньгами ничего не получали. Как говорят, работали за «палочки», то есть за выработанный трудодень начислялась единица и за эти единицы получали осенью натуроплату (капустой, картошкой и др.).
Семья у нас была большая. И хотя в доме не было просторно, но для того чтобы иметь в доме хоть сколько-то денег на крайне необходимые расходы (на покупку спичек, керосина…), пришлось потесниться и одну каморку сдавать в наем. В разные годы в каморке жили: Николай Петрович – Верин брат, затем Николай из Рахманова – племянник Павла Петровича, мужа Екатерины Петровны, затем Осип.
А в конце войны в половине дома жила даже целая семья – муж и жена с ребенком.
Когда мама работала в колхозе и во время войны, основной доход, можно сказать, был от усадьбы. Вся усадьба – площадью около 20-ти соток – засаживалась картошкой.
Последние годы папаньки
Арест папаньки. Мои хлопоты. Очень тяжело переживала мама арест папаньки и его осуждение. Все заботы о семье легли теперь на одну маму. Папанькино положение она переживала тяжелее, чем он сам. Осознание, что человек осужден несправедливо, подрывало силы мамы. Она предпринимала безуспешные хлопоты, чтобы доказать, что папанька ни в чем не виноват, что он вообще кристально честный человек. Основная его вина, что он доверчив, это его и погубило. Он бесхитростен.
Большую поддержку маме в этот момент оказывали ее близкие и родные. И особенно зятья – Иван Иванович и Иван Феофанович. Был нанят защитник. Некий Брауде.
Деньги он получил не только официальные, но также и сверх того. Но ничего не помогло. Кстати сказать, мне кажется, защитник и не стремился защитить. Помнится, что решение суда было написано очень неграмотно.
Я в то время учился в институте.
Мне было очень тяжело. Я получал стипендию 140 рублей. Это было ничтожно мало. Из них я, конечно, в семью ничего вкладывать не мог. И мама мне тоже ничем не могла помочь. У меня в ту пору не было даже ботинок. Мне приходилось какое-то время ездить в институт в одних галошах.
Со своей стороны я тоже предпринимал попытки как-то помочь папаньке. Я добился приема у прокурора республики Рочинского.
Прокурор на меня накричал.
– Ты что – кулака пришел защищать?
Оказывается, в деле папаньки была справка, по всей вероятности, от сволочного человека – бывшего председателя сельсовета Курделева.
Я пытался возражать и сказал, что отец не кулак. И хлопочу я за своего отца, честного человека, и от отца отказываться не собираюсь.
Я ничего не добился.
Но после этого, то ли по инициативе автора письма, то ли по наущению Курделева, в институт пришло послание от Савиной Нюры – сестры моих товарищей Савиных – Александра и Егора, что у меня отец осужден.
В то время я был комсоргом группы.
В институте дело дошло до того, чтобы меня исключить из состава студентов. Всё же я доказал и меня поддержали товарищи по группе, что отец мой не враг народа, и я буду хлопотать за него. Тем не менее, как говорят ныне, санкции ко мне были приняты: я был отстранен от обязанностей комсорга.
Маме в то время я об этом не говорил. Ей и так было трудно. Тяжело было, но мы жили, перебиваясь, как говорят, с хлеба на воду. Письма от папаньки из заключения шли бодрые. Он учитывал наше положение и писал, что ему там хорошо. Это, конечно, нас успокаивало. Но мы знали, чего же там хорошего?