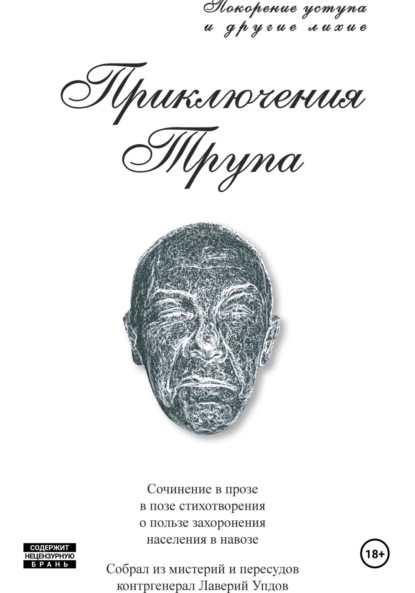По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Приключения трупа
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Добавляли девки, что вначале шагали со спевки, собирали цветы, откопали и гриб, да вдруг сшиб в кусты аромат, дремучий, как туча, испуг, сапог и мат:
– Но просвистал нахал между ног, как под одеждой ветерок: не сыскать и с овчаркой. А жалко! За ним – должок, а не дым из корыта!
Поправляли за прядью прядь – уточняли:
– Вранье! Наш дядя не имел ни подарка, ни корыта!
– А мое? Напрострел изрыто!
Объясняли детали:
– Кабы ромашил ваш маршал с дояркой немытой, по коровьему маршу от бабы накрыли бы простофилю, как солдата в самоволке. А так – что ему, помойному волку? Наши ароматы – нештяк: греют, как лучшие, но – не летучие. Номер – дохлый. Помер пахучий без расплаты, и не в вонючей куче, а в сохлой. Или, скорее, убили в автомобиле!
7
Балуй – не балуй, а выдаст – поцелуй!
Случилось, что на вокзале, где торговали распивочно и на вынос, ошибочно, не любя, поцеловал отъезжающего женатый дед, амбал, живучий и в беде, как земная твердь, а не фифка, тощий и бородатый, как заливная щучья гривка.
Лохматый старикан утверждал, что стакан – мера, и называл себя провожающим офицера на морскую помывку.
Вспоминал, что отправлял, тоскуя, как на смерть, а полагал – к теще на блины да на побывку.
Сели на рельсе, пели от хмеля песни, как умельцы.
Кутили без бормотухи – пили наливку и мус от преданной дедовой жены-старухи:
– Губы полководца на вкус были кислы: не квас, а плешь или мослы канатоходца, что допрежь для смеха едали с голодухи. А доехал едва ли, раз куски поврозь и в мыле сквозь зубы валились, что волоски с башки, известь со стены или с облезлого козла шерсть. И икал, небось, как самосвал на подъем. А честь? Не при нем! Для резвости – не гож. Молодежь пошла: и мерзости не пригубили, и на трезвого не похож!
Упрашивал его дед остаться. И не на танцы, а на обед:
– Для того, чтобы по-нашему, особо, лапти доплести. Да куда там ребятам до мастерства! Не в кости! Ему в пути ни к чему вдругорядь ни дрова колоть, ни полоть у межи, ни рубежи охранять. Хоть власти не пусти, хоть трава не расти. Хоть морошка. А на подножке вагона он да скажи: "Умирать – не лапти ковырять: лягте на лавке и лапки – задрать!»
8
К общему удивлению, и от полковника получали вести: с почтою, оживлением и даже приветом от любовника чужой невесте.
Читали и над конвертом вздыхали, как над паршой:
– Накропал неровно, словно крале: с камуфляжем и большой душой!
Сначала писал, что проезжал город. Намекал, бродяга, на голод, а бумага источала пары икры.
Гадали:
– Не облизали ли осетры?
Потом оповещал, что пристал в другой и здоров, отыскал и кров со столом, и дворец с королевой.
А писал, удалец, как левой ногой иностранец.
Предполагали:
– Не больной ли дрожал палец?
И вдруг – телеграмма с полустанка:
"Аврал! Драма – не пьянка. Хрясь – и нить оборвалась. Фюить! Алкаш подкачал. Без кошелька. Хоронить монеты нету. Пока. Недосуг. Ваш друг.
Наследники – вскачь, за передники и – в плач.
Заказали портрет и букет.
Собрали от тоски на венки и ленты.
Послали аккредитив.
Ждали момента.
Но узнали по радио: жив. Ссадина! И – обругали:
– Рвач! Гадина!
Проверяли в зыбкой надежде:
– Ошибка? Едва ли.
– Прежде или теперь?
Из-за неточной почты не желали потерь.
И вот следом – письмо:
Пообедал. Люби?м. От забот отдыхаю. Весной – красным-красно. Люди – перегной и дым. Но одна – нежна. Хата – с краю. Опять нужна доплата. Ерунда. Будем помирать – тогда и горевать".
Подсчитали сроки строже – и не рады: телеграмму и драму отправляли позже. От мороки зашептали по углам:
– Правды – ни там, ни там.
– По? миру нам, бедноте, без пути пройти присудят в награду за килограмм усилий.
– Померли те люди, что правду любили!
Затем – еще одно письмо:
"Всем, всем, всем. Люблю горячо. Загораю у огня. Ай-лю-лю бедламу. Разъясняю телеграмму. С краю – немножко оплошка. Хоронить – не меня, а монету. А нету – кошелька. А нить – от трусов. Коротка была. Хвала, здоров".
Закричали: