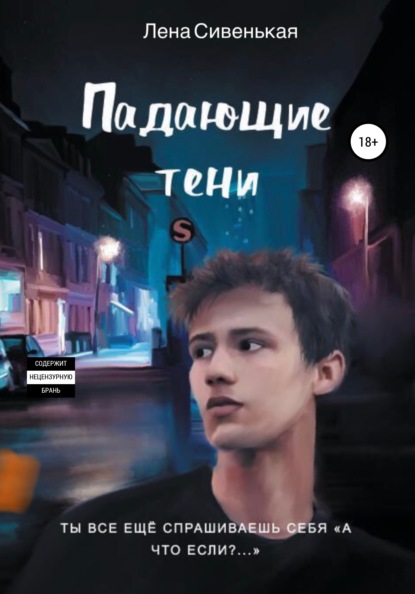По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Падающие тени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Но ведь им всегда нравилась моя откровенность.
Рихи покачал головой:
– Люди все еще хотят откровенности…
– Но не моей, да?
– Чувак, ты застыл в одних и тех же темах. Они просто устали от этого. Я ведь знаю, какой ты и как можешь. Внутри тебя творится такое… – Рихи закатил глаза, – но ты не можешь об этом писать.
Мы снова молчали. Рихи сосредоточенно пил воду.
– Время не стоит на месте, запросы меняются.
Рихи снова говорил горячо, с сочувствием, но оно мне уже не было нужно. Я злился так же, как когда впервые увидел этот сочувствующий взгляд маминой коллеги по работе. Нееет, засуньте его себе в жопу.
– Каждый день появляется много новых исполнителей, – продолжал вещать Рихи – молодых и дерзких, они отвлекают на себя внимание. Взять хотя бы Инненштадт.
Снова этот Инненштадт! Сладкие мордашки и сладкие голоса, аж тошнит! Едва откроешь интернет, на тебя потоком льется этот сладкий сироп. К началу прошлого фестивального сезона их знала уже вся Германия, а сегодня в каждом городе билеты на их концерты раскупаются за часы.
– Мне кажется, им хотелось бы узнать тебя, Винфрид, поближе, – Мюллер откусил кусок хрустящего тоста. – Что, если написать песню о твоей матери?
«Что?!»
– Нет.
– Может, тогда рассказать, что Карла – героиня твоей самой известной песни, какое-то время была еще и твоей учительницей искусств?
– Нееет, – я сжал челюсти так, что в районе ушей что-то больно щелкнуло. Под рёбрами тоскливо заскулило. Мне хотелось запустить в Рихи картошкой и полить сверху пенным пилснером. Он мой друг, но гонцу, принесшему плохие вести, всегда отрубали голову. А идиота, предлагающего всякие глупости, не грех и о стол приложить.
– Ладно, Кох. Давай ещё немного поработаешь над альбомом – я выбью несколько месяцев. Но июнь – это конечный срок. Иначе будет слишком мало времени для капитализации. Так мы все лето прохлопаем.
Кусок авокадо на пшеничном хлебе, смазанном творожным сыром, скрылся в мельнице рта Рихи. Он быстро-быстро шевелил челюстями, стараясь поскорее прикончить тост – и меня заодно. Затем посмотрел на новенькие Эпл Вотч и торопливо махнул официантке, чтобы расплатиться и уйти.
Я всегда был не прочь иметь друзей, но сейчас, когда на меня смотрели столько людей, мог ли я ожидать, что все они – мои друзья? Что они примут все мои переживания? Мое прошлое? Стоило ли мне ожидать, что они примут меня полностью? Таким, каков я есть на самом деле? Ведь я знаю, что стоит мне сделать лишний шаг в сторону – и все отвернутся. «О, чувак, ну это зря, это уже лишнее».
Напоследок Рихи, пытаясь сделать это незаметно, подвинул к моему краю стола демо нашего нового альбома и три конверта с моим именем. Раньше он приносил из офиса кипу писем от поклонниц, где различного уровня пристойности фото сопровождались предложениями встретиться. Теперь же из офиса в основном передавали счета: поклонницы со временем подостыли. Им не нравилось, что я вступил в партию «Зелёных», пою на их годовщинах и митингах и много говорю о беженцах. Рихи прав: им хотелось, чтобы я лишний раз не напоминал, какой мир дерьмовый, чтобы я продолжал посвящать песни женщинам, чьих имен они никогда не узнают, и напускать на себя ещё большую дымку мрачной таинственности. Были времена, когда я действительно хотел рассказать о своих чувствах, своем опыте с женщинами, и погружал слушателей в океан своей рефлексии. Откровенность и сильный голос в сочетании с моим субтильным телосложением заставляли их дышать учащенно. Теперь же то ли океан рефлексии измельчал, то ли мне больше не хотелось говорить это вслух.
– Винни, ты с нами? – Гус кивнул на входную дверь – они с Акселем намеревались поработать сегодня в подвале у Акса, где была небольшая репетиционная комната.
– Сегодня? Я собирался…эээ… – я запнулся – чтобы быть правдоподобным, вранье должны быть мгновенным, – у меня планы.
Нет, не могу: разговоры энергозатратны, а мне нужно многое обдумать.
– Уверен? – Густав не сдается. Я спешно киваю, чтобы Аксель не вздумал подключиться к уговорам. Наконец, они уходят.
Пока я курю возле выхода, единственное, за что может зацепиться глаз – велопарковка: черные и розовые велосипеды, спортивные и городские, с корзиной и без. Мне нравится придумывать, кем может быть владелец, например, вот того кислотно-зеленого велосипеда. Я решил, что им вполне могла бы быть студентка в панковских рваных колготках, тяжелых ботинках и шипованном напульснике. Обычно я не успеваю дождаться владельца велосипеда, который участвует в моей угадайке – докуриваю и уезжаю. Но не сегодня. К велосипеду подошел мужчина в сером офисном костюме, отстегнул велосипедный замок, элегантно перебросил ногу через раму и медленно пошуршал протекторами. Надо же. Не угадал.
Ноги тяжелые, словно к каждой привязано по мешочку с песком. Поэтому так элегантно, как владелец кислотного Фокуса, перебросить ногу через раму мне не удается. И все же Будда остается позади.
Машины мигают фарами, сигналы истошно визжат, а солнце, устав за день не меньше моего, берёт курс на западный Берлин.
…Чертов Рихи. Что можно с этим сделать? Что вообще в таких условиях делают музыканты? Наступить себе на горло и написать то, чего они хотят? О матери?
Я попытался вспомнить ее лицо. Нет. Никак. Слишком долго его нет в моей жизни. Слишком больно далось мне его отсутствие. Я представил, как стою на сцене и распадаюсь на мельчайшие частицы. Щеки обильно лоснятся, как от заживляющей мази, каждый раз, когда бесноватая толпа просит исполнить песню «Про мути».
До чего же чеканутый Рихи и его идеи. Нахмурившись, я немного сбавил скорость, и колёса замедлили суетливое вращение. Нет, нужно придумать что-то более реальное, чем песня про мать.
Кстати, о чем поется в последней песне Инненштадт? Той самой, что играет на всех углах и вскоре будет транслироваться прямиком из головы Томаса в мою. Там что-то про собаку. Я не уверен точно, но кажется, так. Написать про собаку я тоже не могу. У Феликса был чудесный лабрадор. Куда они дели его после похорон? Без понятия. Так много вопросов – а я по-прежнему не знаю на них ответов. Задал бы их вовремя – сэкономил бы на терапевте.
Домой я еду по Котбуссер Дамм. Здесь меньше злобных велосипедистов: тех, кто едет без рук, читает книгу или пристраивается между машинами.
Едва я миновал площадку для пляжного волейбола, как на город хлынул дождь. Через три минуты, впрочем, меня уже обдувало ветром, а к тому моменту, как я подъехал к «Kebab Baba», вся одежда уже была сухой. Потому-то я и не смотрю прогноз погоды. К чему запоминать её сменяющиеся каждые двадцать минут настроения. Это же Берлин.
Внутри кебабной было полно народу. На уличных скамейках люди тоже сидели вплотную. За прилавком – как всегда в это время – был Фатих Кутлу. В 68-ом году, когда ФРГ испытывала острый дефицит рабочих рук, его отец приехал в Берлин работать на стройке. Ему было всего восемнадцать, но к тому времени на родине он уже пережил дефолт, кризис и военный переворот. Фатих родился уже гражданином Германии, но национал-социалистов это мало интересовало. Они частенько портили краской витрину Фатиха, а однажды вечером даже бросили камнем в стекло. Фатих относился ко всему философски, к этим хулиганствам в том числе.
«Когда-нибудь они найдут свое место в жизни и успокоятся», – говаривал он, смачивая тряпку очередной порцией растворителя.
Я люблю с ним болтать. Кебаб от Фатиха я тоже люблю, но если бы его готовил и продавал кто-то другой – с менее добродушным лицом и мыслями – я бы не помогал ему отдраивать краску с витрин.
Фатих машет мне через окно. Я киваю в ответ и отъезжаю от кебабной. В метрах двадцати через дорогу киоск, в котором я регулярно покупаю по три-четыре газеты. Продавец – Штефан Засс, возможно, видевший Гитлера своими глазами – всегда одобрительно кряхтит. Его правнуки не читают газет, поэтому я его идеальный «правнук». Штефан стоит у прилавка с 75-го года. О том, что стена пала и Восточного и Западного Берлина больше нет, он узнал, как всегда, из газет. Вечером 9 ноября мимо его киоска в сторону КПП пронеслись десятки людей. Штефан им не поверил. А наутро прочитал все в газете.
С памятью у мужчины уже особые отношения, но он записал названия «моих» газет и всякий раз подает мне их, не дожидаясь, пока я раскрою рот. Мне неловко за такое внимание. Поэтому в прошлое Рождество я оставил с его стороны прилавка подарок – галстук. Куда бы я ни направлялся, я прохожу мимо его киоска: убедиться, что Штефан Засс в здравии и на своем месте. Когда я в Кельне или – как бывало раньше – в туре, я прошу Фатиха наведаться к Штефану. Так я знаю, что у обоих все в порядке.
Газеты я вычитываю от первой до последней строчки. Иногда попадаются интересные случайные фразы – их можно использовать в песнях. Лучшие я сразу выписываю, а строки с потенциалом подчеркиваю текстовыделителем, чтобы когда-нибудь вернуться к ним. С интернетом такую штуку не проделать, да и шуршать газетной бумагой в поисках нужного выпуска как-то приятнее: успокаивает. Я делаю так последние года три, когда покупка газет стала ерундовой тратой.
Если бы я все еще жил в Кельне, то в еженедельной газете я бы натыкался на статьи о Карле и ее галерее. В Берлине о ней пока ничего не знают, разве только то, что в ее галерее я, Аксель и Густав записывали свой первый альбом. На всю свежую газету была лишь маленькая заметка об открытии сегодня второй ее галереи в Кройцберге. А вот Карла наверняка каждый день натыкается на упоминания обо мне: радио, телевизор, социальные сети. Иногда я думаю, читает ли обо мне мать? Или это только я хочу найти хоть какое-то упоминание о ней в газетах? Иногда мне кажется, что я не перенесу новость о том, что мать совсем меня не искала. А иногда кажется, что не удивлюсь. Если ей не нужен был тринадцатилетний Винфрид, зачем ей двадцативосьмилетний? Лучше пусть не читает. Достаточно того, что читает Карла.
Я припарковал велосипед у фонарного столба и поднял глаза на окна своей квартиры. Иногда я фантазирую, кто там мог жить до меня с Бенджамином. Может быть, тридцатилетняя бухгалтерша, заполночь вползающая в коридор с дубовым паркетом после очередного квартального отчёта. А потом в горячке убивающая своего парня: из-за того, что дебет с кредитом не сошлись. Или: она графический дизайнер, он работает телеведущим, двое сопливых детей. Он изменяет ей с кассиршей из продуктового на углу, вечно пахнущей прогнившим луком. Отношения на троих – как башенка в Дженге: рухнет если не сейчас, то через два хода. Их башенка рухнула через один – чемоданы с мужскими рубашками в парадной, всхлипы в моей ванной.
Так или иначе все выдуманные мною истории заканчиваются расставанием.
Если дела будут совсем плохи, из квартиры придётся съехать. Жаль будет терять компанию моего соседа Бенни – три года он успешно терпит меня и все мои недостатки. Нет, вру. Он даже не замечает их. До того он расслаблен и доволен жизнью.
Большую часть времени Бенджамина не бывает в квартире. И ночует он раз от разу. Но сейчас он здесь. С Бенни у нас обычные приятельские отношения: привет, ну как Кёльн вчера сыграл? У вас сейчас зима в Австралии? Дописал новую песню? Строго говоря, мы ничего не знаем друг о друге, только факты, добытые в ходе неспешного потягивания пива перед монитором. И кажется, нас обоих это устраивает: ближе к тридцати все труднее сближаться с другими людьми. К тому же я из тех, кто долго привыкает к новым вещам, а уж к людям – тем более.
Замок провернулся не с первого раза. Его давно пора поменять, но я все забываю вызвать мастера. Часть квартиры, который пользуется Бенджамин, в конце коридора: спальня, ванная и комната, служащая кабинетом. В моем распоряжении еще одна ванная и две комнаты. Я захожу в квартиру и, стараясь не шуметь, стягиваю кроссовки. В моей половине холодильника закончились продукты, и после встречи с Рихи я должен был купить еды, но это совершенно вылетело из головы. В заднем кармане джинсов завибрировал телефон. Сообщение было от отца: «Велосипед подозрительно щелкает. Сдам в ремонт и похожу несколько дней на работу пешком».
Я набрал ответ: «Ты когда-нибудь свалишься с него и покалечишься. Нужно купить новый, и дело с концом. Если ты выберешь, я хотел бы его тебе подарить». На этом переписка останавливается – как только речь заходит о подарках с моей стороны, отец сразу замолкает или переводит тему. Ему это не нравится, но я хочу подарить ему все, чего он был лишен многие годы, пока экономил на себе и растил нас с Клаусом.
Ответной смс-ки я так и не дождался, поэтому, стащив у Бенджамина кусок холодной пиццы с застывшей жирной коркой, принялся за конверты.
Мне приходили разные письма: четыре года назад, например, от редакции журнала по психологии. После вступительных строк о том, какой я распрекрасный, они заверили меня, что немецкие читатели катастрофически нуждаются в моем опыте существования без матери. Два года назад после моего полуголого видео под песню Бритни Спирс, снятого в шутку для подруги, прилетели недвусмысленные письма от бельевых брендов, предлагающих сняться в рекламе трусов.
Что ж. Сегодня все было куда прозаичнее. Внутреннее содержимое первого конверта извещало о повышении стоимости услуг Hansa Studios[9 - Студия звукозаписи в Берлине.]. Второй конверт был от Карлы – приглашение на открытие её галереи здесь, в Кройцберге. Жирными от пиццы пальцами я вскрыл третий конверт.
«Уважаемый Винфрид Кох!»
Что ж, начало неплохое.