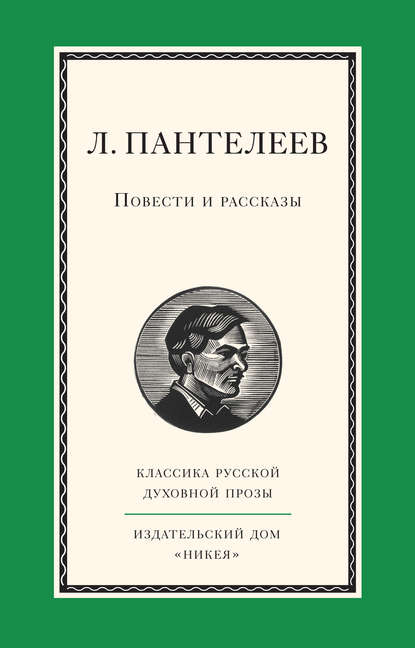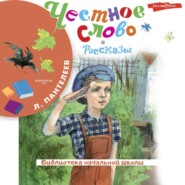По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Повести и рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И стал совершать то, чего много лет не видело и не слышало старое Келомякское лесное кладбище…
А Тамару Григорьевну сожгли в крематории у Донского монастыря. Кто так решил и кто придумал – не знаю. Сама она просить об этом вряд ли могла. Просила она о другом.
Перед выносом из квартиры на Аэропортовской, когда все уже простились с Тусей и вот-вот должны были застучать молотки, меня увлек куда-то в ванную или на кухню Самуил Яковлевич. В руке он держал маленькую, хорошо знакомую мне серебряную иконку. Руки у него дрожали, голос срывался.
– Подскажи, что делать. Вот иконка, с которой она не расставалась до последней минуты. Еще третьего дня она просила меня положить эту икону в гроб. Но ведь гроб сожгут!
Я сказал:
– Если она просила – положи.
– Но ведь сгорит!
– Душа ее не сгорит. Она верила. Ей нужно было это. Положи.
Но он продолжал колебаться. Вернувшись в ту комнату, где стоял гроб, он еще к кому-то обратился за советом. Твардовский, как всегда на похоронах, оживленный, разговорчивый, прежде времени выпивший, крикнул из угла, где стоял с таким же оживленным А. А. Сурковым:
– Положите в гроб икону! Она же была верующая…
Стоявшие у гроба Лида Чуковская и А. И. Любарская возмутились.
– Да прекратите же это наконец! – крикнула Лидия Корнеевна.
В ту минуту мне стало жалко ее. Да, не Тамару Григорьевну и не себя стало жалко, а Лиду Чуковскую.
* * *
Пожалуй, никто из русских поэтов советского времени так ясно и недвусмысленно не заявлял о своем мировоззрении, как это сделано в стихах Николая Алексеевича Заболоцкого. В группе обэриутов, к которой примыкал молодой Заболоцкий, я могу назвать трех верующих. Заболоцкого в этот счет я не включаю. Его юношеский пантеизм, пантеизм «Ночных бесед», волновавший меня когда-то (и волнующий до сих пор), очень далек, однако, от моей религии. Православными, по-церковному религиозными людьми были Хармс, Введенский и Юра Владимиров[21 - Александр Иванович Введенский (1904–1941) – поэт, драматург, детский писатель. Репрессирован в 1941 году и вскоре погиб. Юрий Дмитриевич Владимиров (1908–1931) – поэт, прозаик, детский писатель. Они оба, как и Н. Заболоцкий и Д. Хармс, входили в ОБЭРИУ (Объединение реального искусства).]. Учился в духовной школе, хорошо знал, любил и часто читал на древнееврейском Библию Дойвбер Левин[22 - Дойвбер (Борис Михайлович) Левин (1904–1941) – прозаик, детский писатель, обэриут.].
Но был ли он верующим – поручиться не могу. (Верующих интеллигентных евреев, т. е. иудеев, мне вообще встречать не приходилось. Может быть, исключением был С. М. Алянский[23 - Самуил Миронович Алянский (1891–1974) – основатель издательства «Алконост», в котором выходили книги А. Блока, Анны Ахматовой, А. Белого, в 1929–1932 годах заведовал «Издательством писателей в Ленинграде», а последние тридцать лет своей жизни – художественный редактор Детгиза («Детской литературы»).], венчавшийся в синагоге, что в свое время было с одобрением отмечено в дневнике Блока. Те же верующие евреи, которых я мог бы назвать, познав Бога, стали христианами, приняли Крещение.)
Сказать, что я был близким другом Даниила Ивановича Хармса, я не могу. Меня редко радовали его стихи («взрослые»; детские я принял с восторгом сразу же). В первые годы, пока я к нему не привык, не все нравилось мне в его поведении, кое-что раздражало, казалось наигрышем, позой. В его окружении далеко не все были мне симпатичны. И все-таки нас всегда, едва ли не с первой встречи, тянуло друг к другу. Духовная близость между нами была, мы чувствовали ее оба. Конечно, прежде всего и тут связывала нас наша вера.
Да, все-таки дружба была. В знак этой дружбы мы поменялись как-то и с Даниилом Ивановичем – по его предложению – молитвенниками. Не знаю, какая участь постигла мою, очень старую, старообрядческую книгу. Его, то есть перешедший ко мне, молитвослов пережил разорение блокадных лет, войну, Москву – и до сих пор стоит у меня в шкафу на заветной полке.
– Каким вы представляете Бога? – спросил меня однажды Даниил Иванович. – Стариком Саваофом, каким Его изображают под куполами церквей? С бородой?
– В детстве – да, представлял таким.
– А я и сейчас именно таким. Краснолицым, с белой пушистой бородой.
Один раз мы где-то засиделись, и поздно вечером Даниил Иванович провожал меня. Трамваи еще ходили, но мы шли пешком – из центра на проспект Майорова, где я тогда жил. Проходили мимо церкви Вознесения. Даниил Иванович поднялся на паперть, опустился на колени и стал молиться. Молился долго. Может быть, и мне хотелось последовать его примеру, но я не сделал этого. Не мог. Боялся позы. Молился за его спиной, стоя.
Во многом, что делал и говорил тогда Хармс, мне чудилась поза. Конечно, я часто ошибался. И слишком поздно, увы, понял, что если в его поведении и бывало напускное, то в отношениях со мной этого напускного почти не было. Со мной он был искренен, честен, всегда оставался самим собой.
Ссориться мы с ним не ссорились, но размолвки бывали. Я, например, не понимал, как в одной душе могут уживаться вера и суеверие. А Даниил Иванович был суеверен.
Удивился я, когда Хармс не пришел ни на домашнюю литию, ни на вынос, ни на отпевание в Сергиевскую церковь, ни на Смоленское кладбище – проститься со своим верным другом и учеником Юрочкой Владимировым.
Несколько дней спустя я встретил Даниила Ивановича на Невском и спросил:
– Почему вы не были на похоронах Юры? Хармс очень серьезно, почти надменно ответил:
– Я никогда никого не провожаю.
До сих пор чувствую укол в сердце от этих его слов.
Юрочка Владимиров! Курчавый мальчик, больше похожий на француза, чем на отпрыска старинного русского дворянского рода. Веселый, проказливый, неистощимый на выдумки! Когда к этому розовощекому мальчику успела пристать чахотка, так быстро унесшая его в могилу?
Юра был страстный поклонник спорта, яхтсмен. Не забуду белую петербургскую ночь и прогулку на яхте по небурным водам Маркизовой лужи – от Петровского острова до Лахты. Гостями на яхте мы с Костей Лихтенштейном. А Юрочка стоит на своем капитанском месте, гордо и ловко орудует какими-то веревочками, управляет парусами. Ворот рубахи его расстегнут, на груди поблескивает крестик.
А вот другое воспоминание, о другом обэриуте. Первый день Пасхи. Я в гостях у Даниила Ивановича. Приходит А. И. Введенский, красивый, больше, чем обычно, нарядный. Они христосуются, целуются. Потом Введенский поворачивается ко мне, протягивает руку.
– А почему же ты не христосуешься с Алексеем Ивановичем? – спрашивает Хармс.
– Как?! – поднимает брови Введенский. – Я думал, он комсомолец!..
Так много раз в моей жизни бывало, что якобы случайно встречался я с братьями и сестрами по вере.
Вот Витебский (тогда еще Детскосельский) вокзал. Если не ошибаюсь, тридцатый год. Да, точно, тридцатый: только что застрелился Маяковский.
Я живу «на хлебах» в Детском Селе. Возвращаюсь туда, стою на перроне, жду второго звонка. Подходит Вера Павловна Калицкая, детская писательница, первая жена Александра Грина. Она еще не старая, гораздо моложе моей мамы. Стоим у вагона, разговариваем на разные литературные темы. Вдруг лицо ее освещается радостной улыбкой, и она говорит:
– А мы с вами, оказывается, единомышленники! И показывает глазами мне на шею, где блеснула, по-видимому, цепочка нательного креста.
Недавно я узнал, прочел где-то, что верующим был и сам А. С. Грин. К нему, уже в советские, конечно, годы, пришел сотрудник какой-то газеты или журнала, просил написать статью на тему: «Почему я не верю в Бога». Грин отказывался, отмахивался, а потом рассердился и говорит:
– А почему вы, молодой человек, думаете, что я не верю? Я мог бы написать для вас статью «Почему я верю в Бога». Но ведь – не напечатаете.
Как-то в День ангела нашего отца я зашел в Вознесенский храм поставить свечу и помолиться за упокой души раба Божия Иоанна. У образа Иоанна-Воина – нестройная толпа-очередь. Люди медленно двигаются, поднимаются на две ступеньки, прикладываются к иконе. Стоящий передо мной человек оглянулся, и я узнаю Ивана Петровича Белышева[24 - Иван Петрович Белышев (1894–1942). Умер в Ленинграде, в блокаду.], детского писателя. Встреча неожиданная. Белышев – общественник, кажется, член месткома. Мы киваем друг другу. Он, высокий, наклоняется ко мне и вполголоса спрашивает:
– Самуила Яковлевича давно не видели? Помню, как насмешил мой рассказ об этой встрече Тамару Григорьевну Габбе:
– Нашел место, где спрашивать о Самуиле Яковлевиче!..
Случайно, стороной, узнал я, еще при жизни художника Стерлигова, что этот человек, близкий друг и сподвижник Д. И. Хармса, тоже был верующим. Однажды в гостях у Рахмановых[25 - Леонид Николаевич Рахманов (1908–1988) – прозаик и драматург.] их друзья, пожилая супружеская пара, жаловались, что сына их, молодого художника, «совращает в религию» Стерлигов. Позже я получил письмо от Стерлигова. Он прислал мне фотографии Хармса и спрашивал, не я ли автор этих снимков. Письмо начиналось цитатой из Евангелия.
А Тамару Григорьевну сожгли в крематории у Донского монастыря. Кто так решил и кто придумал – не знаю. Сама она просить об этом вряд ли могла. Просила она о другом.
Перед выносом из квартиры на Аэропортовской, когда все уже простились с Тусей и вот-вот должны были застучать молотки, меня увлек куда-то в ванную или на кухню Самуил Яковлевич. В руке он держал маленькую, хорошо знакомую мне серебряную иконку. Руки у него дрожали, голос срывался.
– Подскажи, что делать. Вот иконка, с которой она не расставалась до последней минуты. Еще третьего дня она просила меня положить эту икону в гроб. Но ведь гроб сожгут!
Я сказал:
– Если она просила – положи.
– Но ведь сгорит!
– Душа ее не сгорит. Она верила. Ей нужно было это. Положи.
Но он продолжал колебаться. Вернувшись в ту комнату, где стоял гроб, он еще к кому-то обратился за советом. Твардовский, как всегда на похоронах, оживленный, разговорчивый, прежде времени выпивший, крикнул из угла, где стоял с таким же оживленным А. А. Сурковым:
– Положите в гроб икону! Она же была верующая…
Стоявшие у гроба Лида Чуковская и А. И. Любарская возмутились.
– Да прекратите же это наконец! – крикнула Лидия Корнеевна.
В ту минуту мне стало жалко ее. Да, не Тамару Григорьевну и не себя стало жалко, а Лиду Чуковскую.
* * *
Пожалуй, никто из русских поэтов советского времени так ясно и недвусмысленно не заявлял о своем мировоззрении, как это сделано в стихах Николая Алексеевича Заболоцкого. В группе обэриутов, к которой примыкал молодой Заболоцкий, я могу назвать трех верующих. Заболоцкого в этот счет я не включаю. Его юношеский пантеизм, пантеизм «Ночных бесед», волновавший меня когда-то (и волнующий до сих пор), очень далек, однако, от моей религии. Православными, по-церковному религиозными людьми были Хармс, Введенский и Юра Владимиров[21 - Александр Иванович Введенский (1904–1941) – поэт, драматург, детский писатель. Репрессирован в 1941 году и вскоре погиб. Юрий Дмитриевич Владимиров (1908–1931) – поэт, прозаик, детский писатель. Они оба, как и Н. Заболоцкий и Д. Хармс, входили в ОБЭРИУ (Объединение реального искусства).]. Учился в духовной школе, хорошо знал, любил и часто читал на древнееврейском Библию Дойвбер Левин[22 - Дойвбер (Борис Михайлович) Левин (1904–1941) – прозаик, детский писатель, обэриут.].
Но был ли он верующим – поручиться не могу. (Верующих интеллигентных евреев, т. е. иудеев, мне вообще встречать не приходилось. Может быть, исключением был С. М. Алянский[23 - Самуил Миронович Алянский (1891–1974) – основатель издательства «Алконост», в котором выходили книги А. Блока, Анны Ахматовой, А. Белого, в 1929–1932 годах заведовал «Издательством писателей в Ленинграде», а последние тридцать лет своей жизни – художественный редактор Детгиза («Детской литературы»).], венчавшийся в синагоге, что в свое время было с одобрением отмечено в дневнике Блока. Те же верующие евреи, которых я мог бы назвать, познав Бога, стали христианами, приняли Крещение.)
Сказать, что я был близким другом Даниила Ивановича Хармса, я не могу. Меня редко радовали его стихи («взрослые»; детские я принял с восторгом сразу же). В первые годы, пока я к нему не привык, не все нравилось мне в его поведении, кое-что раздражало, казалось наигрышем, позой. В его окружении далеко не все были мне симпатичны. И все-таки нас всегда, едва ли не с первой встречи, тянуло друг к другу. Духовная близость между нами была, мы чувствовали ее оба. Конечно, прежде всего и тут связывала нас наша вера.
Да, все-таки дружба была. В знак этой дружбы мы поменялись как-то и с Даниилом Ивановичем – по его предложению – молитвенниками. Не знаю, какая участь постигла мою, очень старую, старообрядческую книгу. Его, то есть перешедший ко мне, молитвослов пережил разорение блокадных лет, войну, Москву – и до сих пор стоит у меня в шкафу на заветной полке.
– Каким вы представляете Бога? – спросил меня однажды Даниил Иванович. – Стариком Саваофом, каким Его изображают под куполами церквей? С бородой?
– В детстве – да, представлял таким.
– А я и сейчас именно таким. Краснолицым, с белой пушистой бородой.
Один раз мы где-то засиделись, и поздно вечером Даниил Иванович провожал меня. Трамваи еще ходили, но мы шли пешком – из центра на проспект Майорова, где я тогда жил. Проходили мимо церкви Вознесения. Даниил Иванович поднялся на паперть, опустился на колени и стал молиться. Молился долго. Может быть, и мне хотелось последовать его примеру, но я не сделал этого. Не мог. Боялся позы. Молился за его спиной, стоя.
Во многом, что делал и говорил тогда Хармс, мне чудилась поза. Конечно, я часто ошибался. И слишком поздно, увы, понял, что если в его поведении и бывало напускное, то в отношениях со мной этого напускного почти не было. Со мной он был искренен, честен, всегда оставался самим собой.
Ссориться мы с ним не ссорились, но размолвки бывали. Я, например, не понимал, как в одной душе могут уживаться вера и суеверие. А Даниил Иванович был суеверен.
Удивился я, когда Хармс не пришел ни на домашнюю литию, ни на вынос, ни на отпевание в Сергиевскую церковь, ни на Смоленское кладбище – проститься со своим верным другом и учеником Юрочкой Владимировым.
Несколько дней спустя я встретил Даниила Ивановича на Невском и спросил:
– Почему вы не были на похоронах Юры? Хармс очень серьезно, почти надменно ответил:
– Я никогда никого не провожаю.
До сих пор чувствую укол в сердце от этих его слов.
Юрочка Владимиров! Курчавый мальчик, больше похожий на француза, чем на отпрыска старинного русского дворянского рода. Веселый, проказливый, неистощимый на выдумки! Когда к этому розовощекому мальчику успела пристать чахотка, так быстро унесшая его в могилу?
Юра был страстный поклонник спорта, яхтсмен. Не забуду белую петербургскую ночь и прогулку на яхте по небурным водам Маркизовой лужи – от Петровского острова до Лахты. Гостями на яхте мы с Костей Лихтенштейном. А Юрочка стоит на своем капитанском месте, гордо и ловко орудует какими-то веревочками, управляет парусами. Ворот рубахи его расстегнут, на груди поблескивает крестик.
А вот другое воспоминание, о другом обэриуте. Первый день Пасхи. Я в гостях у Даниила Ивановича. Приходит А. И. Введенский, красивый, больше, чем обычно, нарядный. Они христосуются, целуются. Потом Введенский поворачивается ко мне, протягивает руку.
– А почему же ты не христосуешься с Алексеем Ивановичем? – спрашивает Хармс.
– Как?! – поднимает брови Введенский. – Я думал, он комсомолец!..
Так много раз в моей жизни бывало, что якобы случайно встречался я с братьями и сестрами по вере.
Вот Витебский (тогда еще Детскосельский) вокзал. Если не ошибаюсь, тридцатый год. Да, точно, тридцатый: только что застрелился Маяковский.
Я живу «на хлебах» в Детском Селе. Возвращаюсь туда, стою на перроне, жду второго звонка. Подходит Вера Павловна Калицкая, детская писательница, первая жена Александра Грина. Она еще не старая, гораздо моложе моей мамы. Стоим у вагона, разговариваем на разные литературные темы. Вдруг лицо ее освещается радостной улыбкой, и она говорит:
– А мы с вами, оказывается, единомышленники! И показывает глазами мне на шею, где блеснула, по-видимому, цепочка нательного креста.
Недавно я узнал, прочел где-то, что верующим был и сам А. С. Грин. К нему, уже в советские, конечно, годы, пришел сотрудник какой-то газеты или журнала, просил написать статью на тему: «Почему я не верю в Бога». Грин отказывался, отмахивался, а потом рассердился и говорит:
– А почему вы, молодой человек, думаете, что я не верю? Я мог бы написать для вас статью «Почему я верю в Бога». Но ведь – не напечатаете.
Как-то в День ангела нашего отца я зашел в Вознесенский храм поставить свечу и помолиться за упокой души раба Божия Иоанна. У образа Иоанна-Воина – нестройная толпа-очередь. Люди медленно двигаются, поднимаются на две ступеньки, прикладываются к иконе. Стоящий передо мной человек оглянулся, и я узнаю Ивана Петровича Белышева[24 - Иван Петрович Белышев (1894–1942). Умер в Ленинграде, в блокаду.], детского писателя. Встреча неожиданная. Белышев – общественник, кажется, член месткома. Мы киваем друг другу. Он, высокий, наклоняется ко мне и вполголоса спрашивает:
– Самуила Яковлевича давно не видели? Помню, как насмешил мой рассказ об этой встрече Тамару Григорьевну Габбе:
– Нашел место, где спрашивать о Самуиле Яковлевиче!..
Случайно, стороной, узнал я, еще при жизни художника Стерлигова, что этот человек, близкий друг и сподвижник Д. И. Хармса, тоже был верующим. Однажды в гостях у Рахмановых[25 - Леонид Николаевич Рахманов (1908–1988) – прозаик и драматург.] их друзья, пожилая супружеская пара, жаловались, что сына их, молодого художника, «совращает в религию» Стерлигов. Позже я получил письмо от Стерлигова. Он прислал мне фотографии Хармса и спрашивал, не я ли автор этих снимков. Письмо начиналось цитатой из Евангелия.