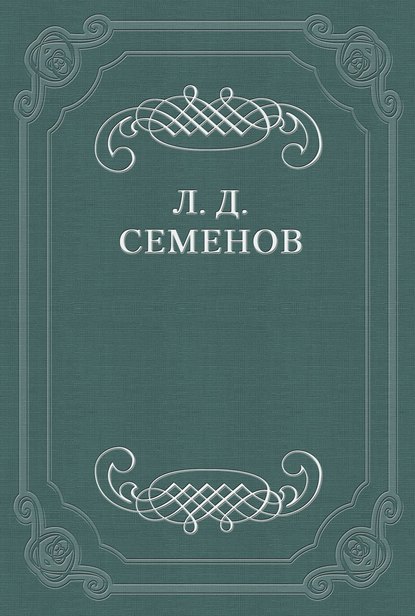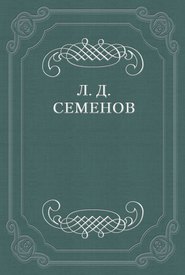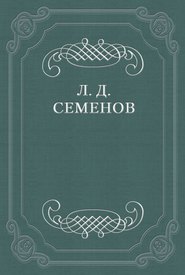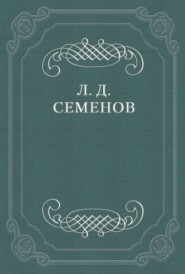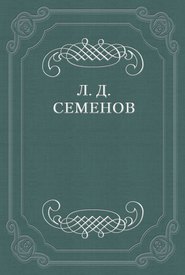По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Проклятие
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы обедаем в большой камере, холодной и сырой, в которой никто не спит – так она холодна. Сидим на скамейках за длинным столом и хлебаем щи. Разливает очередной дежурный. Стряпней заведуют староста Иванов и уголовный Чиркин.
– Опять перцу много! Ну, господа, у меня горло болит! – жалуется Волков и вылавливает из тарелки красные стручки.
Другие не согласны.
– Мало перцу!.. Мало!.. Мало!.. – начинают полушутливо вокруг стола.
Но Стряпушкин вдруг вскакивает и возмущается:
– Ну, кому мало, а кто не может есть! Странное это, в самом деле, дело! Я вот не могу так есть.
– А не можешь, так не ешь!
– А это уж совсем не остроумно! – Стряпушкин вспыхивает и начинает пространно, как всегда, доказывать – как можно удовлетворить и большинство и меньшинство, если варить суп без перцу, но его не слушают. Его голова качается, и клок волос свешивается на глаза. Он некрасивый, маленький, похож на старушку.
– Заткнись ты, ученый! – кричит Степан.
Подымается шум, и вдруг в мирной полушутливой обстановке выплывают наружу затаенные споры и раздоры, – их среди нас не занимать-стать. Ферзен ненавидит Гудилина и язвит на его счет, что есть люди, которые во всем умывают руки. Но тот разговаривает с другими и делает вид, что не слышит. Это злит Ферзена еще больше. Данченко, не разобрав, в чем дело, запальчиво обрушивается на Дерюгина. Но все недовольны Ивановым, его упрекают в самовольстве, в нарушении правил коммуны, в диктаторстве. Он наш экономический староста и к этому привык. Он шаркает по камере калошами и презрительно улыбается, поправляя повязку, безволосый, опухший, как баба. Дернов, чувствуя, что дело может дойти до столкновений, какие уже не раз бывали, волнуется и пробует все успокоить. Но шум увеличивается. Лозовский заступается за Иванова и гудит своим баритоном на всю тюрьму. Козлов зажимает уши. Рабочий Боб, пьющий настой от чая, чтобы заболеть нервным расстройством, почти бьется в истерике и кричит, что он так жить не может. В воздухе срываются два, три крепких матерных ругательства. Это ругается, как всегда, Лозовский, но подымаются протесты.
– Да в чем, господа, дело? ведь речь шла только о перце! – взывают Дернов и дедушка.
– Эх, да что с вами говорить! – машет рукой Стряпушкин. – Иванов запоем пьет. Так известное дело – у него рот луженый! – он плюет и красный, как рак, садится.
Подымается Зарайчик и докладывает, что Иванов ему утром не выдал сахару потому только, что он проспал лишних полчаса.
– Это уж чорт знает что!
– И, конечно, не дам, никогда не дам! – орет хрипло Иванов. – Что ж я каждому буду по отдельному куску сахару выдавать? А вам дай сахарницу – вы всю сахарницу растащите. У нас и так сахару выходит по три фунта в день. А кто ночью сахар воровал?
– Вер-рно! Ванька, вер-рно! – ржет Лозовский.
Дернов опять пытается всех успокоить и вернуть к прежней теме, но ему это не удается. Собрание разбивается на кучки, и спорят еще долго после обеда, упорно и крикливо. Данченко горячится теперь больше всех и упрямо толкует что-то Лозовскому, краснея и обижаясь.
– Еще до зуботычин дойдет!.. Вот вам и борцы за свободу! Ха-ха-ха! – язвит Гудилин, ковыряя в зубах и неприятно смеясь.
Его не любят.
– Нет, публика затосковала! Надо ее чем-нибудь расшевелить! – подходит ко мне, хватаясь нервно за голову, Козлов в коридоре и кладет мне руку на плечи. Мы шагаем с ним рядом. Козлов высокий, молодой студент, безумно тоскует о воле и любит ласку: с лицом нежным, как у девушки, и с чуть вьющимися, черными волосами, он любим у нас всеми за мягкость.
– Данченко, вы знаете, решил голодовку объявить! – продолжает он. – Это глупо. Надо его отговорить. И все эти ссоры, матерщина, карты! Это все – одно. У меня в последнее время тоже голова просто кругом пошла, не знаю, что делать. Готов, кажется, голову о камни разбить… Так лежишь, лежишь на койке и ничего не хочется… Надо спектакль устроить, вот что, или чтение. Как вы думаете?
– Козлик! Козлик! – зовет его Дерюгин из камеры. – Что ж вы будете сегодня письма писать или нет? Ведь завтра свидания.
Козлов быстро отрывается от меня и бежит туда.
– Вот мальчик! – смеется Дерюгин. – Теперь будет письма невесте писать. Да какие! Я вам скажу на десяти страницах пишет! Влюблен! что ж поделаешь? Молодость!
Дерюгин – добродушный купеческий сын. Он попал в тюрьму за прокламацию, переданную им в лавке отца, и гордится этим. Здесь прилежно зубрит на аттестат зрелости и старается быть с интеллигенцией…
Лучков рассказывает мне на дворе свои сомнения. Мы шагаем по двору, грязному и холодному. Он – сын сапожника, но мечтает о большом городе, о партийной работе, борьбе. У него мать, две сестры. Он получал 20 рублей в месяц – и ненавидит семью за то, что она висит у него на шее. Он не смеет ее бросить, и это мучает его.
Еще его мучает то, что его прежние товарищи отшатнулись от него. Он стал для них белоручкой. Раз, на одном собрании, рабочий уличил его в том, что он, значит, не имеет права говорить от лица чернорабочих. Ему было стыдно. Он спрашивает меня, какое это значение имеет для социализма и не стал ли он от этого буржуем? как я думаю об этом?
Он был влюблен в еврейку.
– Когда был еврейский погром, – рассказывает он, – мы устроили с товарищами охрану… В евреях есть, знаете ли, есть что-то такое, совсем особое, тонкое, чуткое, чего в наших грубых, вы знаете, в купеческих и мещанских семьях, вы их даже не знаете, у русских, – совсем нет.
Но она вышла замуж за еврея, и он не узнает ее… Она так разжирела в последнее время и так опустилась… и когда он был у них, так грубо кричала на мужа, который тут же шаркал своими туфлями, что ему стало противно, – он никак не думал, что она такая мещанская натура, как все… А ведь и она когда-то говорила с ним обо всем… Ему это грустно.
Но он зато знает теперь женщин и уж не поддастся на их удочку. Сказав это, он молчит и смотрит в сторону, немного вспыхнув и стыдясь, что такими признаниями занимает другого.
Ему двадцать лет. Он здоровый, широкогрудый мальчик с некрасивым, но чистым лицом. В тюрьме заметно побелел и опух…
Со мной в одной камере Лысых. У него свои вопросы и сомнения. Он здоровый, огромный мужик, с бородой лопатой и головой, обстриженной под горшок. Он попал в тюрьму случайно, от того, что будто сказывал, что хочет стать царем на Руси. Сам не знает, как это вышло. Пришел к нему солдат в лавку и толковали они вместе о том, что такое республика, на Лысыха и донесли. В тюрьме он, впрочем, скоро успокоился, когда узнал, что бороду ему не обстригут. Ему 43 года, он – кулак, лавочник на своем селе. Здесь мечтает о своей девочке, о том, какая она шустрая, как бегает в школу и как он подарит ей такие цветочки, которые бы цвели зимой на окнах. Такие он видел в городе у господ и купцов.
Я рассказываю ему о социализме, и это его непритворно занимает.
– Так, так, так. Да, ишь ты, это вы как все обдумали. Вон куда загнули! – восклицает он часто, но иногда прерывает меня вдруг странным и неожиданным вопросом:
– А что, правда ли это – что говорят на горе Арарате ковчег Ноев стоит?! – Это рассказывал им сам батюшка в школе. И таких вопросов у него тысяча: то о кликушах, то об Ерусалиме, то о голом человеке.
– Отчего это человек голый шел. Так и шел голый?.. – такой раз повстречался ему на Кавказе, когда он там служил, и он до сих пор все об этом думает.
Теперь он лежит на койке и, громко икая, рассказывает мне – как видел раз царя.
– Царь на маневры к нам приезжал в город. А мне председатель губернской управы, хороший был барин, Гаевский покойный билет дал, чтобы полиция вперед пропустила. Ну, стоим мы это на площади, ждем. Народу тьма-тьмущая. А перед нами полковник такой расхаживает, толстый, пуза во какая! и нам толкует:
– Да, знаете ли, говорит, кого вы встречаете? племя, говорит, сермяжное! Ну, мы слушаем. – Царь, говорит, это наш бог земной. Так и говорит – бог. Начальство-то, говорит, что? Начальство-то им поставлено, а он – все; его слово – закон. Потому и обязаны, говорит, вы начальство свое почитать. Во как!..
– Ну, и что ж? – спрашиваю я.
– Да что же?! проехал царь, «ура!» кричали.
Он молчит и задумывается.
– А вот и земский начальник к нам надысь приезжал, тоже себя богом величал. Я, говорит, вам ваш бог! кричит, а сам пьяный. Ну мужик-то что? Нешто мужик что понимает. Мы стоим себе миром, да животы чешем.
Он еще долго мне рассказывает, говорит о своих сомнениях и радостях. Но я уж не слушаю. Я лежу на койке и теперь думаю о своем, мы все здесь разные и у каждого есть свое…
Фельдшер Гудилин мечтает о… самоубийстве. Он пьет, играет в карты и презирает науку и Маркса, уверяя, что это все шарлатанство. Он умен и начитан. Смеется над нами и не верит в русскую революцию.
– Ну какие же мы герои, господа? Хороши герои, нечего сказать! Ха-ха-ха! Ну да, подите вы, с вашим геройством.
Раз мы вздумали определять наши характеры по почеркам, и я почему-то сказал про его почерк, что это почерк самоубийцы. Он пристально поглядел на меня и неожиданно сконфузился:
– А это вы верно угадали! – пробормотал он тихо. – Только характера-то у меня всеттаки на это не хватит!
В другой раз мы читали брошюру Крамелюка. Фельдшер, как всегда, слушал как будто небрежно, но вдруг откинул назад свои волосы и горячо заговорил. Он говорил о Христе, о том, как в первый раз читал книгу Ренана[5 - …читал книгу Ренана… – Всемирно известная книга Жозефа Эрнеста Ренана (Renan) «Жизнь Иисуса» («Vie de Jesus»), переведенная полностью на русский язык в 1906 г., в которой жизнь Иисуса Христа изображена субъективно, далеко не по всем доступным источникам, но захватывающе увлекательно.] и какой это чудный в истории человечества миг, когда Христос выходит к людям со своею Нагорною проповедью, еще полный любви и веры в слово.
– Опять перцу много! Ну, господа, у меня горло болит! – жалуется Волков и вылавливает из тарелки красные стручки.
Другие не согласны.
– Мало перцу!.. Мало!.. Мало!.. – начинают полушутливо вокруг стола.
Но Стряпушкин вдруг вскакивает и возмущается:
– Ну, кому мало, а кто не может есть! Странное это, в самом деле, дело! Я вот не могу так есть.
– А не можешь, так не ешь!
– А это уж совсем не остроумно! – Стряпушкин вспыхивает и начинает пространно, как всегда, доказывать – как можно удовлетворить и большинство и меньшинство, если варить суп без перцу, но его не слушают. Его голова качается, и клок волос свешивается на глаза. Он некрасивый, маленький, похож на старушку.
– Заткнись ты, ученый! – кричит Степан.
Подымается шум, и вдруг в мирной полушутливой обстановке выплывают наружу затаенные споры и раздоры, – их среди нас не занимать-стать. Ферзен ненавидит Гудилина и язвит на его счет, что есть люди, которые во всем умывают руки. Но тот разговаривает с другими и делает вид, что не слышит. Это злит Ферзена еще больше. Данченко, не разобрав, в чем дело, запальчиво обрушивается на Дерюгина. Но все недовольны Ивановым, его упрекают в самовольстве, в нарушении правил коммуны, в диктаторстве. Он наш экономический староста и к этому привык. Он шаркает по камере калошами и презрительно улыбается, поправляя повязку, безволосый, опухший, как баба. Дернов, чувствуя, что дело может дойти до столкновений, какие уже не раз бывали, волнуется и пробует все успокоить. Но шум увеличивается. Лозовский заступается за Иванова и гудит своим баритоном на всю тюрьму. Козлов зажимает уши. Рабочий Боб, пьющий настой от чая, чтобы заболеть нервным расстройством, почти бьется в истерике и кричит, что он так жить не может. В воздухе срываются два, три крепких матерных ругательства. Это ругается, как всегда, Лозовский, но подымаются протесты.
– Да в чем, господа, дело? ведь речь шла только о перце! – взывают Дернов и дедушка.
– Эх, да что с вами говорить! – машет рукой Стряпушкин. – Иванов запоем пьет. Так известное дело – у него рот луженый! – он плюет и красный, как рак, садится.
Подымается Зарайчик и докладывает, что Иванов ему утром не выдал сахару потому только, что он проспал лишних полчаса.
– Это уж чорт знает что!
– И, конечно, не дам, никогда не дам! – орет хрипло Иванов. – Что ж я каждому буду по отдельному куску сахару выдавать? А вам дай сахарницу – вы всю сахарницу растащите. У нас и так сахару выходит по три фунта в день. А кто ночью сахар воровал?
– Вер-рно! Ванька, вер-рно! – ржет Лозовский.
Дернов опять пытается всех успокоить и вернуть к прежней теме, но ему это не удается. Собрание разбивается на кучки, и спорят еще долго после обеда, упорно и крикливо. Данченко горячится теперь больше всех и упрямо толкует что-то Лозовскому, краснея и обижаясь.
– Еще до зуботычин дойдет!.. Вот вам и борцы за свободу! Ха-ха-ха! – язвит Гудилин, ковыряя в зубах и неприятно смеясь.
Его не любят.
– Нет, публика затосковала! Надо ее чем-нибудь расшевелить! – подходит ко мне, хватаясь нервно за голову, Козлов в коридоре и кладет мне руку на плечи. Мы шагаем с ним рядом. Козлов высокий, молодой студент, безумно тоскует о воле и любит ласку: с лицом нежным, как у девушки, и с чуть вьющимися, черными волосами, он любим у нас всеми за мягкость.
– Данченко, вы знаете, решил голодовку объявить! – продолжает он. – Это глупо. Надо его отговорить. И все эти ссоры, матерщина, карты! Это все – одно. У меня в последнее время тоже голова просто кругом пошла, не знаю, что делать. Готов, кажется, голову о камни разбить… Так лежишь, лежишь на койке и ничего не хочется… Надо спектакль устроить, вот что, или чтение. Как вы думаете?
– Козлик! Козлик! – зовет его Дерюгин из камеры. – Что ж вы будете сегодня письма писать или нет? Ведь завтра свидания.
Козлов быстро отрывается от меня и бежит туда.
– Вот мальчик! – смеется Дерюгин. – Теперь будет письма невесте писать. Да какие! Я вам скажу на десяти страницах пишет! Влюблен! что ж поделаешь? Молодость!
Дерюгин – добродушный купеческий сын. Он попал в тюрьму за прокламацию, переданную им в лавке отца, и гордится этим. Здесь прилежно зубрит на аттестат зрелости и старается быть с интеллигенцией…
Лучков рассказывает мне на дворе свои сомнения. Мы шагаем по двору, грязному и холодному. Он – сын сапожника, но мечтает о большом городе, о партийной работе, борьбе. У него мать, две сестры. Он получал 20 рублей в месяц – и ненавидит семью за то, что она висит у него на шее. Он не смеет ее бросить, и это мучает его.
Еще его мучает то, что его прежние товарищи отшатнулись от него. Он стал для них белоручкой. Раз, на одном собрании, рабочий уличил его в том, что он, значит, не имеет права говорить от лица чернорабочих. Ему было стыдно. Он спрашивает меня, какое это значение имеет для социализма и не стал ли он от этого буржуем? как я думаю об этом?
Он был влюблен в еврейку.
– Когда был еврейский погром, – рассказывает он, – мы устроили с товарищами охрану… В евреях есть, знаете ли, есть что-то такое, совсем особое, тонкое, чуткое, чего в наших грубых, вы знаете, в купеческих и мещанских семьях, вы их даже не знаете, у русских, – совсем нет.
Но она вышла замуж за еврея, и он не узнает ее… Она так разжирела в последнее время и так опустилась… и когда он был у них, так грубо кричала на мужа, который тут же шаркал своими туфлями, что ему стало противно, – он никак не думал, что она такая мещанская натура, как все… А ведь и она когда-то говорила с ним обо всем… Ему это грустно.
Но он зато знает теперь женщин и уж не поддастся на их удочку. Сказав это, он молчит и смотрит в сторону, немного вспыхнув и стыдясь, что такими признаниями занимает другого.
Ему двадцать лет. Он здоровый, широкогрудый мальчик с некрасивым, но чистым лицом. В тюрьме заметно побелел и опух…
Со мной в одной камере Лысых. У него свои вопросы и сомнения. Он здоровый, огромный мужик, с бородой лопатой и головой, обстриженной под горшок. Он попал в тюрьму случайно, от того, что будто сказывал, что хочет стать царем на Руси. Сам не знает, как это вышло. Пришел к нему солдат в лавку и толковали они вместе о том, что такое республика, на Лысыха и донесли. В тюрьме он, впрочем, скоро успокоился, когда узнал, что бороду ему не обстригут. Ему 43 года, он – кулак, лавочник на своем селе. Здесь мечтает о своей девочке, о том, какая она шустрая, как бегает в школу и как он подарит ей такие цветочки, которые бы цвели зимой на окнах. Такие он видел в городе у господ и купцов.
Я рассказываю ему о социализме, и это его непритворно занимает.
– Так, так, так. Да, ишь ты, это вы как все обдумали. Вон куда загнули! – восклицает он часто, но иногда прерывает меня вдруг странным и неожиданным вопросом:
– А что, правда ли это – что говорят на горе Арарате ковчег Ноев стоит?! – Это рассказывал им сам батюшка в школе. И таких вопросов у него тысяча: то о кликушах, то об Ерусалиме, то о голом человеке.
– Отчего это человек голый шел. Так и шел голый?.. – такой раз повстречался ему на Кавказе, когда он там служил, и он до сих пор все об этом думает.
Теперь он лежит на койке и, громко икая, рассказывает мне – как видел раз царя.
– Царь на маневры к нам приезжал в город. А мне председатель губернской управы, хороший был барин, Гаевский покойный билет дал, чтобы полиция вперед пропустила. Ну, стоим мы это на площади, ждем. Народу тьма-тьмущая. А перед нами полковник такой расхаживает, толстый, пуза во какая! и нам толкует:
– Да, знаете ли, говорит, кого вы встречаете? племя, говорит, сермяжное! Ну, мы слушаем. – Царь, говорит, это наш бог земной. Так и говорит – бог. Начальство-то, говорит, что? Начальство-то им поставлено, а он – все; его слово – закон. Потому и обязаны, говорит, вы начальство свое почитать. Во как!..
– Ну, и что ж? – спрашиваю я.
– Да что же?! проехал царь, «ура!» кричали.
Он молчит и задумывается.
– А вот и земский начальник к нам надысь приезжал, тоже себя богом величал. Я, говорит, вам ваш бог! кричит, а сам пьяный. Ну мужик-то что? Нешто мужик что понимает. Мы стоим себе миром, да животы чешем.
Он еще долго мне рассказывает, говорит о своих сомнениях и радостях. Но я уж не слушаю. Я лежу на койке и теперь думаю о своем, мы все здесь разные и у каждого есть свое…
Фельдшер Гудилин мечтает о… самоубийстве. Он пьет, играет в карты и презирает науку и Маркса, уверяя, что это все шарлатанство. Он умен и начитан. Смеется над нами и не верит в русскую революцию.
– Ну какие же мы герои, господа? Хороши герои, нечего сказать! Ха-ха-ха! Ну да, подите вы, с вашим геройством.
Раз мы вздумали определять наши характеры по почеркам, и я почему-то сказал про его почерк, что это почерк самоубийцы. Он пристально поглядел на меня и неожиданно сконфузился:
– А это вы верно угадали! – пробормотал он тихо. – Только характера-то у меня всеттаки на это не хватит!
В другой раз мы читали брошюру Крамелюка. Фельдшер, как всегда, слушал как будто небрежно, но вдруг откинул назад свои волосы и горячо заговорил. Он говорил о Христе, о том, как в первый раз читал книгу Ренана[5 - …читал книгу Ренана… – Всемирно известная книга Жозефа Эрнеста Ренана (Renan) «Жизнь Иисуса» («Vie de Jesus»), переведенная полностью на русский язык в 1906 г., в которой жизнь Иисуса Христа изображена субъективно, далеко не по всем доступным источникам, но захватывающе увлекательно.] и какой это чудный в истории человечества миг, когда Христос выходит к людям со своею Нагорною проповедью, еще полный любви и веры в слово.