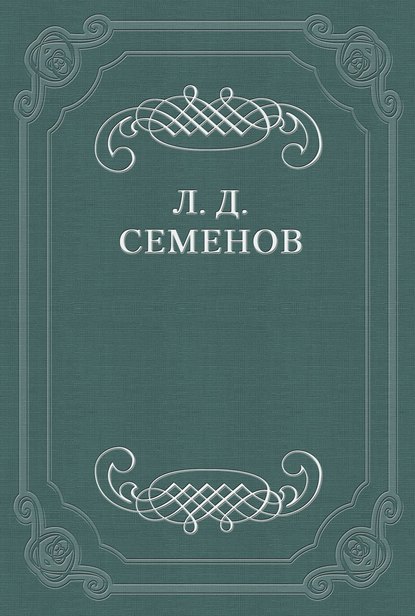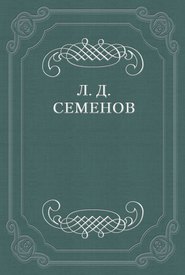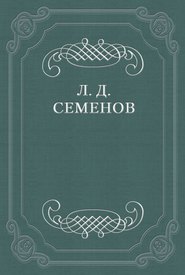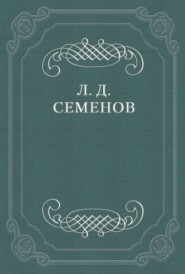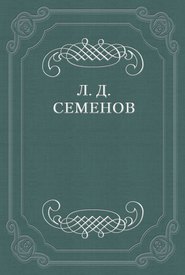По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Проклятие
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я хожу один, – мне так грустно, тревожно сейчас. Не знаю, почему. Все говорят, шумят. О губернаторе забыли. Королькова привели из суда и он рассказывает. Его осудили на год крепости. Но он чертыхается и смеется. А вечером настоящая оргия.
Мы протестуем. Мы хотим показать, что не признаем никаких законов, никаких правил.
Мы хотим веселиться и мы устраиваем праздник. У нас настоящий праздник. Уже 9 часов, но мы все вместе.
Пусть приходят солдаты и нас разводят силой, штыками. Мы не подчинимся!
А пока мы празднуем, празднуем.
Мы украсили камеру одеялами, расставили лампы кругом. Сшили красное знамя из красных рубашек, на нем вышили буквами: «Да здравствует революция!» и воздвигли знамя посреди камеры.
Дедушка держит под знаменем речь. Он говорит, что встретится с нами на баррикадах, что это будет счастливейшим днем в его жизни – и мы верим ему. Голос его дрожит, глаза блестят. Все кидаются к нему и трижды его целуют.
Мы поем:
Над миром знамя наше реет.
Мы держим друг друга за руки.
Голос Данченки звучит высоким альтом. Фельдшер опять качает в такт головой и закрывает глаза. Митя дирижирует обеими руками. Лицо у Ферзена вдохновенно.
Но день настанет неизбежный.
Неумолимый грозный суд.
Вейся вдаль, наш напев! Мчись кругом!
Звенит все выше и выше наша песнь. Мы счастливые, мы упоенные.
Потом танцуем. Дерюгин запузыривает на гребенке. Дернов бьет в доску от плиты. Волков играет на губах. Боб дудит в самоварную трубу. И мы все пляшем, пляшем вокруг нашего знамени, точно в диких плясках жрецы: Штер отдувает трепака. Митя качается всем своим длинным корпусом, загнув руки самоваром и с сосредоточенным видом. Иванов с повязанной щекой и с платочком в руке пляшет русскую. Подкупленный надзиратель покатывается со смеха в дверях. Стряпушкин заливается. Мы беремся все за руки и носимся в быстром, бешеном галопе кругом. Мы подымаем пыль. Мы топочем ногами, кричим, визжим и беснуемся до упаду… Дедушка стоит в углу и отбивает такт в ладоши приседая. Он уже пять раз сидел в тюрьме и все знает. Оркестр запузыривает.
Сегодня наш праздник и мы хотим быть веселыми!
Ночью сон.
Я просыпаюсь и лежу подавленный, разбитый. Лампа тускло горит. Серафима, бледная и возбужденная, подходила ко мне и что-то говорила, но не могла договорить. И мне так жутко, жутко…
– Братцы! Бра-атцы! – вдруг слышу я.
– Бра-а-тцы! – несется жалобно со двора.
Я вскакиваю. Лысых уже не спит и сидит на койке. Мы кидаемся к окну. Мы кидаемся к дверям. Но вся тюрьма уже не спит и дрожит отчаянным воплем:
– Товарищи! Товарищи!
– Товарищи не спите!
Взывает кто-то из дальней камеры. Слышны крик, шум, звон стекол. Раздаются два тревожных свистка и опять свисток. Опять крик и вопль со двора.
Мы кричим, мы стучим, мы бьем окна и двери.
– Товарищи!!
На дворе экзекуция, – там бьют крестьян. В коридор врываются солдаты. Все кончено. Мы заперты!
– Бра-а-тцы! – несется со двора.
– Бра-а-тцы, да за что же это?
Шум, вой…
Я на свободе. Меня наконец выпустили. Но Серафимы уже нет между нами. Она умерла. Она умерла в тот же день, когда меня выпустили.
Кругом снег, на улицах люди.
Я на ее могиле.
Я уж больше никогда ее не увижу… и никто не увидит.
Последние дни ее были ужасны. Ее арестовали. Ее возили жандармы из города в город. Ее ни на шаг не отпускали от себя. Ее!..
Она металась. Она бредила… Ей снились палачи, виселицы. Ее преследовали галлюцинации. Солдаты, которые всех расстреливают.
Всех расстреливают.
«Вы подумайте об этом. Какой ужас смерти в палачах, в судьях… и сколько их, темных, несчастных…» – срывалось у нее в письмах. – «Отчаяние бесконечное, бездонное, и писать трудно, и никому не говорю… и мы точно сбились с пути все… и скользим, скользим…»
Она металась, она спешила, она бегала по людям, она хотела все что-то сделать, что-то сказать, остановить всех…
Она умерла…
Наверху синее, синее небо.
Под этим небом она говорила когда-то… и до сих пор звенят ее слова:
– Ах, конечно, конечно… Я так ясно это чувствую, все – едино, все – одно, все братья, все – люди, все человечество и все животные и все, все!..
Серафима, Серафима!
«В один день 16 казней и все виселицы!..»
Нет! Я не могу!
Проклятие, проклятие вам, палачи и убийцы![7 - Проклятие, проклятие вам, палачи и убийцы! – В статье 1907 г. «О реалистах», написанной вскоре после появления в печати «Проклятия», Блок высказал о рассказе Семенова бесспорные истины (Золотое руно. 1907. № 6). Общий его вывод – трудно хранить одновременно верность жизни и искусству. Изображая правительственные зверства, Семенов более убедителен, чем другие авторы подобных произведений, говорит Блок, но его новое произведение неизмеримо ниже его «хорошей» драмы «Около тайны» и «интересной книги стихов» («Собрание стихотворений»).]
notes
Примечания
1
Мы протестуем. Мы хотим показать, что не признаем никаких законов, никаких правил.
Мы хотим веселиться и мы устраиваем праздник. У нас настоящий праздник. Уже 9 часов, но мы все вместе.
Пусть приходят солдаты и нас разводят силой, штыками. Мы не подчинимся!
А пока мы празднуем, празднуем.
Мы украсили камеру одеялами, расставили лампы кругом. Сшили красное знамя из красных рубашек, на нем вышили буквами: «Да здравствует революция!» и воздвигли знамя посреди камеры.
Дедушка держит под знаменем речь. Он говорит, что встретится с нами на баррикадах, что это будет счастливейшим днем в его жизни – и мы верим ему. Голос его дрожит, глаза блестят. Все кидаются к нему и трижды его целуют.
Мы поем:
Над миром знамя наше реет.
Мы держим друг друга за руки.
Голос Данченки звучит высоким альтом. Фельдшер опять качает в такт головой и закрывает глаза. Митя дирижирует обеими руками. Лицо у Ферзена вдохновенно.
Но день настанет неизбежный.
Неумолимый грозный суд.
Вейся вдаль, наш напев! Мчись кругом!
Звенит все выше и выше наша песнь. Мы счастливые, мы упоенные.
Потом танцуем. Дерюгин запузыривает на гребенке. Дернов бьет в доску от плиты. Волков играет на губах. Боб дудит в самоварную трубу. И мы все пляшем, пляшем вокруг нашего знамени, точно в диких плясках жрецы: Штер отдувает трепака. Митя качается всем своим длинным корпусом, загнув руки самоваром и с сосредоточенным видом. Иванов с повязанной щекой и с платочком в руке пляшет русскую. Подкупленный надзиратель покатывается со смеха в дверях. Стряпушкин заливается. Мы беремся все за руки и носимся в быстром, бешеном галопе кругом. Мы подымаем пыль. Мы топочем ногами, кричим, визжим и беснуемся до упаду… Дедушка стоит в углу и отбивает такт в ладоши приседая. Он уже пять раз сидел в тюрьме и все знает. Оркестр запузыривает.
Сегодня наш праздник и мы хотим быть веселыми!
Ночью сон.
Я просыпаюсь и лежу подавленный, разбитый. Лампа тускло горит. Серафима, бледная и возбужденная, подходила ко мне и что-то говорила, но не могла договорить. И мне так жутко, жутко…
– Братцы! Бра-атцы! – вдруг слышу я.
– Бра-а-тцы! – несется жалобно со двора.
Я вскакиваю. Лысых уже не спит и сидит на койке. Мы кидаемся к окну. Мы кидаемся к дверям. Но вся тюрьма уже не спит и дрожит отчаянным воплем:
– Товарищи! Товарищи!
– Товарищи не спите!
Взывает кто-то из дальней камеры. Слышны крик, шум, звон стекол. Раздаются два тревожных свистка и опять свисток. Опять крик и вопль со двора.
Мы кричим, мы стучим, мы бьем окна и двери.
– Товарищи!!
На дворе экзекуция, – там бьют крестьян. В коридор врываются солдаты. Все кончено. Мы заперты!
– Бра-а-тцы! – несется со двора.
– Бра-а-тцы, да за что же это?
Шум, вой…
Я на свободе. Меня наконец выпустили. Но Серафимы уже нет между нами. Она умерла. Она умерла в тот же день, когда меня выпустили.
Кругом снег, на улицах люди.
Я на ее могиле.
Я уж больше никогда ее не увижу… и никто не увидит.
Последние дни ее были ужасны. Ее арестовали. Ее возили жандармы из города в город. Ее ни на шаг не отпускали от себя. Ее!..
Она металась. Она бредила… Ей снились палачи, виселицы. Ее преследовали галлюцинации. Солдаты, которые всех расстреливают.
Всех расстреливают.
«Вы подумайте об этом. Какой ужас смерти в палачах, в судьях… и сколько их, темных, несчастных…» – срывалось у нее в письмах. – «Отчаяние бесконечное, бездонное, и писать трудно, и никому не говорю… и мы точно сбились с пути все… и скользим, скользим…»
Она металась, она спешила, она бегала по людям, она хотела все что-то сделать, что-то сказать, остановить всех…
Она умерла…
Наверху синее, синее небо.
Под этим небом она говорила когда-то… и до сих пор звенят ее слова:
– Ах, конечно, конечно… Я так ясно это чувствую, все – едино, все – одно, все братья, все – люди, все человечество и все животные и все, все!..
Серафима, Серафима!
«В один день 16 казней и все виселицы!..»
Нет! Я не могу!
Проклятие, проклятие вам, палачи и убийцы![7 - Проклятие, проклятие вам, палачи и убийцы! – В статье 1907 г. «О реалистах», написанной вскоре после появления в печати «Проклятия», Блок высказал о рассказе Семенова бесспорные истины (Золотое руно. 1907. № 6). Общий его вывод – трудно хранить одновременно верность жизни и искусству. Изображая правительственные зверства, Семенов более убедителен, чем другие авторы подобных произведений, говорит Блок, но его новое произведение неизмеримо ниже его «хорошей» драмы «Около тайны» и «интересной книги стихов» («Собрание стихотворений»).]
notes
Примечания
1