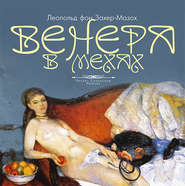По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сочинения
Автор
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ах ты паршивая овца! – вышел окончательно из себя Пинчев. – Где же это у Моисея упомянуто о южных землях и южном жарком климате? Он просто, без оговорок, воспретил есть свинину.
– Потому нет у него оговорок, что он не мог знать, что евреи переселятся впоследствии в холодные страны.
– Не мог знать! – вопил Пинчев в совершенном неистовстве, не замечая того, что оба они давно уже сбились с последнего пути. Ни тот, ни другой диспутант не обратили внимания даже на то обстоятельство, что уже несколько времени они шагают целиком по болоту и что оба они уже увязли в нём чуть не по колена.
– Не мог знать! – кричал Пинчев. – Это Моисей-то? Чего же мог не знать этот великий пророкь, которому Иегова поведал так многое?
– А я всё-таки утверждаю, что если б Моисей имел тогда дело с климатом в роде нашего, то он не воспретил бы евреям есть свиное мясо.
В эту минуту оба талмудиста были уже погружены в зеленоватую, жидкую тину чуть не попояс; вокруг них кое где поднимали свои белые головки болотные цветы.
– Так съещь свинины и подавись ею! – кричал Пинчев.
– При теперешнем порядке вещей я есть свинины не стану, – покойным тоном возразил Минчев; – но не могу не сказать при том, что если бы вообще евреи были более рассудительны в разрешении разных побочных вопросов религии, то в нашем климате они все ели бы свиное мясо.
– Вероотступник ты, вот что! – с пеной у рта кричал Пинчев. – Ты злодей, вырывающий лучшие цветы из почвы дивного сада Талмуда. Пусть порог твоего дома порастет травою! Пусть камни…
– Что? – рассвирепел на этот раз и Минчев.
– Пусть камни растут в твоем желудке? – докончил Пинчев свое прерванное проклятие.
Настало нечто небывалое. Оба диспутанта сцепились окончательно; ухватились за бороды, они таскали друг друга, награждая один другого плевками и в то же время всё глубже и глубже погружаясь в жидкую тину.
– Пусти меня! – взмолился наконец Пинчев.
– Нет ты пусти сначала! – отвечал Минчев. Оба сразу отпустили друг друга и по-видимому успокоились.
– Я тебе доказал, – начал Минчев, – что так называемая Эсрех-Шимонех составлена после разрушения второго храма в Палестине.
– Когда же ты мне доказал это?
– На твоей свадьбе! Теперь я тебе скажу вот что: ты знаешь, что молитвы о дожде и росе установлены на четырехмесячный период в году и именно от декабря до нашей весны, т. е. до времени, когда в южных землях должны были евреи приносить жертвы от первых земных плодов.
– Верно.
– Так видишь ли что. Всё это было пригодно для той благословенной страны, где ко времени нашей весны поспевают фрукты и где во время нашей зимы нужны дожди. Ну, а у нас молиться о дожде в то время, когда стоят морозы и всё покрыто снегом есть разумеется нелепость, именно такая же нелепость как не употреблять в пищу при нашем климате cвиного мяса.
Оба диспутанта стояли уже в мокроте до самых плеч.
– Минчев, не говори таких позорных вещей, – тосковал Пинчев. – Бог нас и без того уже наказал достаточно, так как я думаю, что мы оба утонем в этом болоте. – И он начал громко взывать, о помощи.
– Я тоже полагаю, что мы можем утонуть, – согласился и Минчев, сделав неудачный опыт выкарабкаться из охватившей его жидели. – Но всё-таки, если мы даже и утонем оба, ты должен согласиться со мной в том, что крайне нелепо помолиться о дожде зимою в нашем климате и не молиться о нём летом, когда именно нужен дождик.
– С этим я всё-таки не согласен, – возразил Пинчев.
– Однако ты должен же согласиться с тем, что так ясно!
– Нет!
– Ну, так значит ты осел!
– Очень хотел бы им быть теперь, – со вздохом заметил Пинчев, – так как будь я настоящим ослом, я не тонул бы в этом болоте. Быть живым ослом всё же лучше, чем быть человеком утопленником!
– И еще считает себя мудрецом! – укоризненно прикрикнул Минчев. – А сам не может понять таких простых вещей, которые всякому ребенку должны быть понятны.
– Лучше пусть я не буду мудрец, – огрызнулся Пинчев, – только не стать бы вероотступником.
– Молчи!
– Не стану молчать!
Снова диспутанты схватили друг друга за бороды, но на сей раз несколько удачнее, так как возня помогла им немного выкарабкаться из тины; тем не менее Пинчев с Минчевым непременно утонули бы, если б на помощь к ним не прибежала плачущая Рахиль в сообществе с крестьянами, пасшими поблизости лошадей и слышавшими Пинчевские криви о помощи. Покамест диспутантов тащили из тины оба они продолжали кричать. «Вероотступник!» орал во всю мочь Пинчев. «Осел! Бычачья голова!» награждал его в ответ Минчев.
Помирились они только в Коломее, после того как Пинчеву удалось облечь в привезенный им товар разных местных дам в роде супруги окружного инженера, судейши, жены податного инспектора и пр. Тогда Пинчев с Минчевым раскупорили бутылочку винца, выпили из неё половину, помирились при том, а остальное вино взяла в свое ведение Рахиль, бережно завернув бутылку в бумагу.
Прошли годы, Эстерка подарила Минчеву четверых славных ребятишек; даже и у Пинчева родился было уже один сын, имевший менее облинялую наружность чем сама Рахиль. Но Рахиль вскоре после родов умерла, а за нею туда же отправился и новорожденный, так что Пинчев снова стал одиноким. Позднее и Минчев потерял Эстерку и троих детей; оставшийся четвертый рос без особенного призора, вне какого бы то ни было наблюдения со стороны отца, а потому вероятно и случилось в конце концов то, что подросший молодой Минчев бросил своего родителя, уйдя в один прекрасный день пешком в Вену, откуда затем о нём не имелось вестей. Минчев тоже стал одинок.
Но ни Пинчев, ни Минчев как будто не заметили всего совершившегося вокруг них; не замечали они даже и того, что с годами они становились всё беднее, да беднее. Что им было за дело до всего на свете? Они имели талмуд под руками, чего же было еще желать? И всё чаще и чаще, всё горячее и горячее происходили между ними бесконечные диспуты по вопросам Талмуда. Оба они состарились. Пинчев давно уже утратил возможность разглаживать пальцами бархат и пропускать иглу сквозь шелковые ткани и горностаевый мех; он сделался не более как портным штопальщиком, и если ему выпадало изредка удовольствие шить новое платье, то касалось это уже не прежней клиентуры: дамы, на которых работал состарившийся Пинчев, которые носили на плечах его мастерские произведения, были из числа тех, что имеют дело с голиками, да щетками, доят коров, не носят перчаток и нарфюмируются главным образом чесноком, да луком. Минчев всё-таки имел еще одну лошадь; правда это было животное печального образа, тощая кляча, засыпавшая с понуренной головой всякий раз, что она остонавливалась на временный отдых, но всё же это была хоть какая ни наесть лошадь.
Раз случилось Минчеву отвозить на своей кляченке в город кукурузу одного еврея арендатора. Проезжая мимо полуразвалившейся хибарки, в которой помещалось «модное заведение» и жилье старика Пинчева, и бок о бок с которой имелись винный погребок и лавчонка старьевщика, Минчев решил мысленно, что хорошо бы теперь обсудить с Пинчевым один Талмудический вопрос, не терпевший по его мнению отлагательства. Но Пинчев, как оказалось, отнесся к делу не сочувственно; с глубокомысленной миной сидел он на низеньком столе и чинил дырья на толстой суконной кофте, принадлежавшей некоей солдатке. Наружность Пинчева сильно изменилась против прежнего: лицо было чрезвычайно худо, руки и ноги словно еще вытянулись, волосы на голове и бороде поседели, глаза более не прищуривались, а просто были вечно полузакрыты веками, отяжелевшими казалось на столько, что им уже нельзя было подняться без посторонней помощи. Голова Минчева была тоже сильно посеребрена сединою; только борода его по прежнему оставалась черною, да черные глаза по прежнему смотрели с сафьянно-темного лица, полные выражения вечной мысли и добродушной иронии.
– Пинчев! – начал Минчев, повторяя свой возглас по адресу Пинчева, даже не ответившего на первый зов, даже не поднявшего головы от работы. – Пинчев что же ты? Ведь это я. Мне хочется поговорить с тобой.
– А я не имею желания тебя теперь слушать – получился ответ. – Я еще не ел сегодня ничего теплого, до того у меня спешная работа; мне надо окончить скорее эту починку и еще работа есть: надо докончить платье для госпожи комиссарши.
– Ну что ты говоришь? – возразил Минчев. – Ты давным давно перестал работать на комиссаршу.
– Думай как хочешь, а я всё-таки не желаю тебя слушать сегодня.
– Это потому, что ли, что у тебя совсем денег нет?
Пинчев вздохнул в ответ и еще сосредоточеннее принялся штопать Солдаткину кофту.
– Ну что ты за человек после этого, Пинчевле. – продолжал Минчев, – если ты, не имея денег, терпишь нужду и не говоришь даже об этом ни слова?
Проговорив это, Минчев достал из кармана кожаный кошель, вынул из него пять гульденов, и положил деньги на стол перед Пинчевым. Пинчев взял деньги, сунул их в жилетный карман; не вымолвив ни слова благодарности, спрыгнул он со стола, швырнув предварительно кофту в первый попавшийся угол.
– Ну, что ты от меня хочешь? – обратился он к Минчеву голосом, в котором звучала радость. – Что нужно тебе? Опять видно надо тебя поучить уму разуму, неуч ты этакой, ослище неумытое?
– Не топорщись брат очень-то, – ласковым голосом осадил его Минчев. – Все мы ослы если верить Толмуду. Ты сообрази-ка: если бы первыми на земле были ангелы, то всё же потомки их стали бы не более как людьми; ну а если и по началу-то водились только люди, так чем, если не ослами должно было сделаться их потомство.
За сим начался ученый диспут, который окончился разумеется только с наступлением ночи.
Так прошло еще несколько лет. Пинчев при всяком удобном случае величал Минчева неучем и вероотступником, но это не мешало обоим им дружески делиться всем, что они имели; то Пинчев помогал Минчеву, то Минчев – Пинчеву. Ни разу при этом с уст Минчева не вырывалось слово благодарности, как ни разу и он сам не слышал от Пинчева спасибо. Надо думать, что поблагодари напр., хоть Минчев Пинчева за денежную помощь, – последний скорей согласился бы выбросить деньги за дверь, чем в другой раз предложить их своему другу.
По прежнему продолжали все знавшие их евреи, считать врагами, вечно готовыми к тому, чтоб сцепиться в горячем споре. «Они жили врагами, врагами же и умрут!» говорили про Пинчева и Минчева в еврейской общине, на улице, в шинках, повсюду.
С годами оба Талмудиста окончательно опустились и состарились; пришло время, когда Минчев с трудом мог бы махнуть кнутом в воздухе, и когда Пинчев не в состоянии был бы сделать путем два стежка иголкой. Даже беднейшие крестьянки не желали уже больше носить платье Пинчевской работы. Конечно это злополучное время их жизни длилось не долго, а именно ровно до тех нор, пока не сделалось известным в общине, что Пинчеву и Минчеву совершенно нечем жить. Раз же, что это стало общеизвестным, их вывели из бедственного положения – еще ни разу ни один еврей не умирал с голода, как не был вынужден протягивать руку за милостыней.