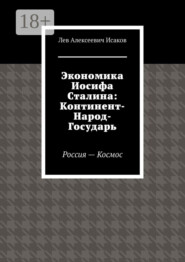По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русская война: Утерянные и Потаённые
Автор
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но нечто, скорее всего сообщенное Н. Н.оказалось сильнее: где-то днем 25-го А. С. пишет письмо, предельно оскорбительное, невозможное к воспроизведению, Геккерену-старшему, зная, что тот, по дипломатическому положению не может ответить ему вызовом, и за него должен будет вступиться пасынок – в противном случае будут опозорены оба (из разговора Пушкина с К. Данзасом).
Водевильная склока рухнула в трагедию, но как-то неприлично, из-за славолюбивой бабенки, патологической лгуньи, не могущей и дня прожить без нахождения в какой-нибудь истории; и завидующей любому чужому счастью: у Идалии ли Полетики с Ланским, Екатерины Гончаровой с Дантесом…; испытывающей ревность ко всему значительному, где ее нет, будет ли это салон Голицыной, куда она втирается с почти скандальной назойливостью, или задушевный разговор мужа с графом В. Соллогубом, который, нате же, не обращает на нее внимания; как, впрочем, и все мало-мальски состоявшиеся мужчины, от жеребистого Императора до красавца флигель-адъютанта Безобразова… Кто при ней? Офицерская молодежь: корнеты, поручики…
Александр Сергеевич не по христиански, не по человечески мечтал как унизит, растопчет самоуверенную улыбку противни-ка, вгонит его в холодный пот как Сильвио князя в «Выстреле» – этого не получилось.
Дантес вел себя мужественно и расчетливо – зная об устрашающем превосходстве противника во владении оружием, использовал все крохи шансов, что давали дуэльные правила: выстрелил на подходе в движении, выигрывая время и теряя точность; стрелял на верное, а не на убойное попадание, в пол-корпуса; встал на черте после выстрела правым боком вперед, прикрыв голову и плечо поднятым к верху стволом пистолета, а локтем бок и частично живот…, Пушкин, смертельно раненый стрелял лежа, упираясь левой рукой в снег по неподвижному противнику, почти обреченному – бог пули не дослал, удар опрокинул Дантеса, но кроме синяка на ребрах ничего не приключилось…
Через 150 лет экспертиза установит странную слабость пушкинского выстрела: пуля кухенрейтеровского дуэльного пистолета на подобной дистанции пробивает насквозь любой элемент тогдашней формы и амуниции, ломает кости – здесь только синяк; высказывались предположения о недосыпании пороха… Но пистолеты заряжались невидимо для дуэлянтов и вручались им по жребию – и нет оснований сомневаться в чести и высоких побуждениях хотя бы одного секунданта, Константина Данзаса; заявленный судом к разжалованью в рядовые, он и на склоне лет говорил, что никогда бы не простил себе, если бы не выполнил последнего товарищеского долга перед Пушкиным – оставил его без секунданта…
Впрочем, можно предполагать, что при экспертизе были упущены какие-то существенные детали; в частности, как поведет себя оружие при попадании снега в ствол и даже в порох, что было вполне возможно, т. к. сброшенный выстрелом Александр Сергеевич, утопил в снегу обе руки, т. е. и пистолет – в тех же описаниях экспертизы 1974 г., что попались мне на глаза, проверялись баллистика и убойные качества пистолета в обычных условиях. Органический дефект одного из парных пистолетов, купленных перед дуэлью и врученных противникам без проверки эксперты отвергли по высокой репутации кухенрейтеровского оружия.
Специалисты единодушно отмечали точность прицела и твердость пушкинской руки – по установленной траектории пуля должна была пройти через середину легких и сердце, мгновенно сразив Дантеса…
Но через быстро сгущавшиеся сумерки все так же следили за поэтом неумолимые глаза, подстерегавшие каждый его шаг…
Зрак чёрной силы
И пройдя канву событий, опять обратимся к эпизодам, где не месть, распаленное чувство, непонимание, глупость, празднословие – неведомая черная сила надвинулась на Александра Сергеевича, дохнула и опять ушла за серенькие занавесочки буден – присутствие которой он чувствовал, зрак которой, упершийся в него, приводил его в исступление, заставлял бросаться на ближних и дальних, верных и неверных.
Дважды она проступала в предельно двусмысленных эпизодах, бросавших его на власть: в «камер-юнкерском» назначении и получении «дипломов». Одинаковое оформление событий: некто третий, обращающий ярость Пушкина в сторону дворца, но маскировочно прикрывающийся то «волей императора», то адюльтерной склокой с Геккеренами; и, бросаясь быком на выставленную красную тряпку, он всякий раз обнаруживал за ней пустоту, но где-то рядом чувствовал пристывшее дыхание убийцы-тореадора.
Пушкин не отправил письмо А. Х. Бенкендорфу, т. к. сказать в нем ему было нечего: пока он находился в рамках защиты семейной чести, кроме как вызвать оскорбителя к барьеру ему ничего не полагалось – грязное белье не предмет публичности; политический же характер нападения на себя он не столько осознал, сколько почувствовал, чувства же застревают в эмоциях, не откладываются в размышления.
К 1834 году А. С. Пушкин становится на барьерной черте противостояния, от кабинетного до трактирного, двух партий.
Одной стылой, косной, врастающей мертвечиной западнических задов, от К. Нессельроде, А. Меншикова… до З. Волконской, Чаадаева, милейше-ядовитого П. Вяземского, когтящих и оскопляющих Россию; партию в разных перьях, в разных оттенках, от белых до розовых, от «стервятников» до «голубей»; партию зачастую не программ даже, а умонастроений: от приговоров «Россия – Монстр», до соболезнований «Бедная Россия», и представленную и в царедворцах, и в декабристах (В. Ф. Раевский)… И другой, столь же разной, несопоставимых личностей, как А. Ф. Орлов, Д. М. Сенявин, Мордвинов, Перовский, Денис Давыдов, Языковы… и далее до Белинского – и как только сближение его с этой второй становилось заметно, весомо, политически значимо, следовал удар; 30-го ли декабря 1833 года, 4-го ноября 1836.
Какие-то зыбкие связи и пристрастия соединяли Англию и русского военно-морского министра кн. А. Меншикова, в канун 1853 г. отдавшего заказ на паровые машины для линейных кораблей и пароходо-фрегаты не отечественным, а английским заводам и верфям; так что из 40 боевых «паровиков» англо-французского флота, оперировавших против Севастополя и Кронштадта 22 были построены на русские деньги…; склоняли министра иностранных дел К. Д. Нессельроде тщиться с симпатиями к Вене, когда антиславянская и антирусская ее позиция совершенно определились – и сплоченно обращаться против иных инициатив, не заевропеивающих, а раздвигающих российскую самобытность; против ее необозримости, бросится ли она в расширение границ, небывалые формы хозяйствования или социальных инициатив; и скопно, стайно обкладывающих единственный голос, который и при полной межеумочности еврохолопства и полонодоцентуры русских университетов (Малиновский, Сенковский, Каченовский) мог разнести зерна великодержавной, не великобарской, идеи по стране-континенту.
Ах, как легко стало жить П. В. Вяземскому в отсутствии А. С. Пушкина, когда в погашение могучего интеллектуального освещения и собственные мыслишки стали как будто и ярче и весомей; и «восхищаться» намозолившим гением, ставшим поперек собственной худобы надо всего лишь в прошедшем времени и к утвердившимся поводам.
Гон Пушкина шел из этого лагеря, как вставшего на острие исторического поединка России Орловых с Russia Нессельроде, расколом шедшего и по династии, официально называемой в генеалогическом «Готском Ежегоднике» Романовы-Гольштейн-Готторпские. И огромную пучину подоплеки конфликта власти скорее всего уже прочувствовали.
Достаточно давно было обращено внимание на двусмысленную роль Николая Павловича в событиях ноября 1836 – января 1837 года. Он был вполне очевидно задет пасквилем, преследовал своей ненавистью подозреваемого в авторстве Геккерена-старшего по всей Европе так, что дипломатическая карьера последнего навсегда сломалась, ни один европейский двор в качестве дипломатического представителя его более не принял – и в то же время совершенно несвойственная вялость николаевской полиции, лучшей в Европе; единственной осуществлявшей полный паспортный контроль всего населения страны.
Что, не могли узнать, в какой части опущены конверты и, передопросив всех и вся, ринуться по недавнему следу, а он скорее всего был очень приметным… ведь даже открытие внутригородской почты в 1833 году большинство петербуржцев расценило как созданной для удобства полиции распространить практику перлюстрации дипломатической почты на обывателя (кстати, в последнем русская полиция опять была самой изощренной в Европе).
Странная позиция Николая Павловича даже породила подозрение в прямом соучастии дворцовых сфер в убийстве поэта, что, в общем, необоснованно. Остается предположить, что во-влеченными начинали проступать уже такие круги, на которых основывалось само здание монархии и империи; и если даже император «мог», то уже «не хотел»; это было как бы разорваться между своими тремя фамилиями. В этом проявляется какая-то червоточина, какая-то складывающаяся ущербность последнего «Сильного Романова»: при уверенности в вине Геккерена, которого Николай, породистый здоровый мужик, презирал за противоестественные половые пристрастия; и уж наверняка еще хуже относился к собираемому им вокруг себя петербургскому аристократическому охвостью – П. Долгоруков, А. Гагарин, А. Шереметев – играющемуся вседозволенностью, чего он не терпел, Николай провел бы следствие самое решительное и быстрое; но кажется, утаивая это и от себя, он безотчетно боится, что след пойдет в ТАКИЕ КРУГИ… значит внутренне их предвидит? Скорее да… граф Нессельроде уже крепко подставил его с Пушкиным…
А следствие могло вскрыть и их, во главе которых по тайной Конвенции 3-х императоров августа 1833 года он въезжал верховным жандармом в Европу, что весомей [в его глазах] всего материального значения Ункияр-Искелесского договора вместе с другом А. Ф. Орловым… Конвенция стала европейским подиумом Николая, но подлинным триумфом Клемента Меттерниха, канцлера Австрийской империи, ой как насторожившегося против автора «Клеветникам России», вместо раздела Польши трактующего о «славянском море»; при том, что бескорыстным искателем венского коллеги является российский министр иностранных дел гр. Нессельроде, именно после возвращения из Теплица подсунувшим Николаю такую «удачную» идею с Пушкинским «камер-юнкерством»… Значит, Пушкин тоже стал разменной монетой за «согласие 3-х императоров», как чуть позднее станет ей отказ «ради европейского согласия» от условий Ункияр-Искелесского трактата, в первый и последний раз обративших Черное море в Русское озеро.
…Талант расцвечивает свое время и пространство – гений преобразует его: кажется, этого начинали страшиться. Все.
И Николай Павлович, как практический политик вынужденный признавать весомость силы общественного мнения, реализующегося через газеты и «Английские клубы» вместо прежних вторжений гвардейских караулов в дворцовые спальни; и либеральные дристуны братья Тургеневы, вдруг услышавшие от снисходительно поощряемого клеточного соловья иную, не либеральную песню:
О чем шумите вы, народные витии?
. . . .
. . . .
Иль нам с Европой спорить ново?
Не желают, противятся, тянут назад, только по обстоятельствам переступают ножками. Все. Все.
И обще-снисходительно плачутся над покойным… Потом по-несут старательно обделанным трупом.
* * *
На этом и кончим.
А кому невыносимым покажется свержение стереотипов – не кумиров, – и перемена знаков оценок, примите это как литературную мистификацию. Я не работал над источниками, не проводил экспертиз, не вводил в оборот новых фондов – я просто взял последнее, что написано не мной, не по моему выбору, не в моих интуициях и показал, как большая часть приводимых свидетельств и материалов может интерпретироваться совершенно иначе и как при этом рядом с внешней канвой событий возникают контуры исторической тайны; а история России повисает или полнится от того, завяжется или развяжется узелок между Николаем Павловичем Романовым и Александром Сергеевичем Пушкиным, людьми земли русской. Нет, не завязался…
2001–2003
Сонм пушкинистов из ВОПРОСОВ ИСТОРИИ – Искандеров, ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ – Рахматуллин, ПУШКИНСКОГО ДОМА – Невская, остановили публикацию 2-й работы по теме «Чёрная Речка – Белый Человек». На основе её материалов мной был собран небольшой обзор, представляемый ниже, и даже приглашённый к публикации в ряде изданий к юбилейным торжествам 2004–2006 гг., но так нигде и не появившийся.
Особенно поразила меня позиция отца и сына Куняевых, сорвавших его публикацию в НАШЕМ СОВРЕМЕННИКЕ, вплоть до дезавуирования Первого заместителя Главного Редактора Гусева, сделавшего мне прямое предложение.
Утаённое звание поэта…
– «Достоевский умер? Не верю – Достоевский бессмертен!»
– Бессмертен только Таракан.
(вместо эпиграфа)
– Сдав в печать статью о взаимоотношениях великорусской государственности и ее великого поэта А. С. Пушкина, частным следствием из которой стала гипотеза о получении им, в соответствии с общественной и служебной значимостью звания «камергера» незадолго до гибели, под которым он и проходил в течении полутора месяцев, от 28 января по 16 марта 1837 г. (по ст. ст.) в документах военно-судного дела о противозаконной дуэли (см. журнал «Слово» № 1 за 2004 г. – сама статья была написана летом 2002 г.) я не планировал далее углубляться в дебри литературоведения и пушкинистики. Сам по себе этот материал присутствовал и присутствует в рамках моих размышлений, как существенный, но не главный на подходах к теме «Историософия великорусской истории», тому ее разделу, что можно назвать «Эпохой Первых» (Павел, Александр, Николай), или вырывая из контекста исторического одного из ее выразителей «николаевской». Раз уж пришлось к слову, не могу не заметить г-дам литературоведам, ступающим во след А. А. Ахматовой, что вполне объективное понятие «пушкинская эпоха» становится квази-понятием, если вы пытаетесь обратить его из культурологической отграниченности в политическую всеобщность, подменить им понятие «николаевская», как и сколько оно вам нравится или не нравится. «Николаевская эпоха» началась картечью по декабрьскому снегу, завершилась бомбами Севастополя – Пушкин присутствует в первом отсутствием, во втором никак. Не будем обращать специфику конкретно – исторического в межпредметный балаган… Я выходил к Пушкину через эпоху, перебирал и присматривался к ее ключам, искал и кажется нашел в нем нечто другое, отличное от «чудных мгновений» под «покровом угрюмой рощи», что делает его историческим лицом своего времени, деятелем эпохи, которую в целом все же лучше назвать эпохой «Первых», даже по тому неразличимо-цельному, какими были в жизни и памяти Александра Сергеевича цари-братья Александр и Николай Павловичи, как бы передававшие его из рук в руки, в изломах уже собственных судеб, что лишь разное олицетворение неделимой судьбы России…
Об этом надо говорить долго и обстоятельно; говорить, прислушиваясь к сказанному, к тому, что из него рождается, куда ведет; но и к тому, что является подосновой сказанного, что его зародило, доброе то зерно или плевела – отставим это, место подобному разговору не в публичной статье, здесь бледнится и начинает отходить до уровня простого повода уже и сам Александр Сергеевич. В то же время, входя в тему «Пушкин» из эпохи, начинаешь отчетливо замечать насколько он выразительно-невралгический пункт самой эпохи, как бы саморазоблачающуюся через него, сбрасывающую с себя не только одежды – сдирающую кожу, уязвимо-чувствительную, агонизирующую и пытающуюся разродиться небывало-новым, и разбрасывающуюся какими-то клочьями небывалого, несложившегося ребенка: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Белинский, как и выросшие из нее Достоевский, Менделеев, Скобелев, Толстой… но и Булгарин, Вигель, П. Долгоруков, В. Печерин, тоже небывало-безудержные:
Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья!
Задушенная в чем-то главном, она разбрасывала их в бессистемном агонизирующем пароксизме, но какой механизм запускал его? Что было генератором этих неистовых потуг, силу которых демонстрирует небывалый взлет отечественной культуры, особенно ее художественной составляющей, сразу, с периферийного захолустья влетевшей в самый центр всемирно-культурного процесса?
Сам переизбыток художественности свидетельствует о стихийно-слепом ее характере, о метаниях мощного тела, увы, безумного, пытающегося что-то подсмотреть и кого-то подслушать, но более всего говорить, наговорить, заговорить…
Как легко в этой буре иных увлечь и увести, бездумных, на звуки приятно-простых свирелей: А. Герцен, И. Тургенев, З. Волконская, Т. Грановский; или обложить запретом, перепеть шумно-общим хором, обратить в пугало, изгоя, петушиную ноту, как то случилось с В. Жуковским, А. Григорьевым, Ф. Тютчевым, присутствующими в отечественном сознании выпотрошенными птичьими тушками, ощипанными от «политичности» каплунами. Но заметил ли кто, что это выщипывание и обрезание национального инстинктивно-художественного поиска ценностей и путей русского бытия начиналось именно с А. С. Пушкина? Понято и осознано ли, что с 1828 г. именно он первый «исписался», вкупе с М. Орловым провинился в «рабском патриотизме» – вот к каким временам восходит сентенция последнего по сроку «Старого Плешака»[23 - Н. Языков о П. Чаадаеве.]
Б. Окуджавы «патриотизм чувство примитивное, оно присуще даже кошкам»; был разведен и отставлен от читателя честно-злонамеренной критикой и влюбленно-ядовитыми друзьями: Тургеневы, Вяземские, Одоевские, Карамзины; почти уничтожен в своей перелицованной реальности, принадлежит ли она кисти О. Кипренского или перу П. Вяземского, если бы… не сам пушкинский текст, не «Полтава», не «Бородино», не «Клеветникам России» – совершенно не уничтожимый; и потому с такой ненавистью или сожалением пережевывают они черноту автора в своей среде: А. Тургенев Н. Тургеневу в 19 веке, Г. Федотов либерал-эмигрантщине в 20-м – и как пылко, страстно, истерически-упоенно, ликующими хорьками набрасываются на него, когда можно не оглядываться на отставленную нацию, к потребе других, как Синявка-Тарсис в «Прогулках с Пушкиным», как С. Коонен в вивисекции нововеликорусской культуры по поводу 200-летия его рождения.
Осознано и принимается ли в расчет, что Пушкин изымается из национального сознания как этап, веха, итог в восхождениях интеллекта нации уже 177 лет, и как немало в том преуспели, честные и бесчестные, преобразователи и предатели, идеалисты из чистых побуждений и платные шавки на построчной сдельщине. Пушкин – пример вивисекции над национальным сознанием, лоботомии исторического; Пушкин почти отнят у нации, почти украден, почти низведен до герани и резеды баб и сентименталок обоюдного рода – почти, если бы не пушкинский текст…
Удивительно ли после этого, что Пушкина не менее, если не более чем в 19 веке надо открывать, надо возвращать, надо восстанавливать в основе национальных размышлений в 21-м – в этом смысле Ф. Тютчев, менее доступный, менее значительный, менее популярный, менее пресыщенный вниманием критики и литературоведения (слава богу, тютченистики у нас нет…) в них присутствует богаче, ярче, плодотворней, более зорче если уподоблять русскую поэзию «умозрениям нации…» и его
Умом России не понять…
рождает больший рой размышлений, даже при том, что это нотка потерянности, инаковости разрастающемуся в нем европейскому сознанию; Пушкин ее преодолел легко, одним рывком
Водевильная склока рухнула в трагедию, но как-то неприлично, из-за славолюбивой бабенки, патологической лгуньи, не могущей и дня прожить без нахождения в какой-нибудь истории; и завидующей любому чужому счастью: у Идалии ли Полетики с Ланским, Екатерины Гончаровой с Дантесом…; испытывающей ревность ко всему значительному, где ее нет, будет ли это салон Голицыной, куда она втирается с почти скандальной назойливостью, или задушевный разговор мужа с графом В. Соллогубом, который, нате же, не обращает на нее внимания; как, впрочем, и все мало-мальски состоявшиеся мужчины, от жеребистого Императора до красавца флигель-адъютанта Безобразова… Кто при ней? Офицерская молодежь: корнеты, поручики…
Александр Сергеевич не по христиански, не по человечески мечтал как унизит, растопчет самоуверенную улыбку противни-ка, вгонит его в холодный пот как Сильвио князя в «Выстреле» – этого не получилось.
Дантес вел себя мужественно и расчетливо – зная об устрашающем превосходстве противника во владении оружием, использовал все крохи шансов, что давали дуэльные правила: выстрелил на подходе в движении, выигрывая время и теряя точность; стрелял на верное, а не на убойное попадание, в пол-корпуса; встал на черте после выстрела правым боком вперед, прикрыв голову и плечо поднятым к верху стволом пистолета, а локтем бок и частично живот…, Пушкин, смертельно раненый стрелял лежа, упираясь левой рукой в снег по неподвижному противнику, почти обреченному – бог пули не дослал, удар опрокинул Дантеса, но кроме синяка на ребрах ничего не приключилось…
Через 150 лет экспертиза установит странную слабость пушкинского выстрела: пуля кухенрейтеровского дуэльного пистолета на подобной дистанции пробивает насквозь любой элемент тогдашней формы и амуниции, ломает кости – здесь только синяк; высказывались предположения о недосыпании пороха… Но пистолеты заряжались невидимо для дуэлянтов и вручались им по жребию – и нет оснований сомневаться в чести и высоких побуждениях хотя бы одного секунданта, Константина Данзаса; заявленный судом к разжалованью в рядовые, он и на склоне лет говорил, что никогда бы не простил себе, если бы не выполнил последнего товарищеского долга перед Пушкиным – оставил его без секунданта…
Впрочем, можно предполагать, что при экспертизе были упущены какие-то существенные детали; в частности, как поведет себя оружие при попадании снега в ствол и даже в порох, что было вполне возможно, т. к. сброшенный выстрелом Александр Сергеевич, утопил в снегу обе руки, т. е. и пистолет – в тех же описаниях экспертизы 1974 г., что попались мне на глаза, проверялись баллистика и убойные качества пистолета в обычных условиях. Органический дефект одного из парных пистолетов, купленных перед дуэлью и врученных противникам без проверки эксперты отвергли по высокой репутации кухенрейтеровского оружия.
Специалисты единодушно отмечали точность прицела и твердость пушкинской руки – по установленной траектории пуля должна была пройти через середину легких и сердце, мгновенно сразив Дантеса…
Но через быстро сгущавшиеся сумерки все так же следили за поэтом неумолимые глаза, подстерегавшие каждый его шаг…
Зрак чёрной силы
И пройдя канву событий, опять обратимся к эпизодам, где не месть, распаленное чувство, непонимание, глупость, празднословие – неведомая черная сила надвинулась на Александра Сергеевича, дохнула и опять ушла за серенькие занавесочки буден – присутствие которой он чувствовал, зрак которой, упершийся в него, приводил его в исступление, заставлял бросаться на ближних и дальних, верных и неверных.
Дважды она проступала в предельно двусмысленных эпизодах, бросавших его на власть: в «камер-юнкерском» назначении и получении «дипломов». Одинаковое оформление событий: некто третий, обращающий ярость Пушкина в сторону дворца, но маскировочно прикрывающийся то «волей императора», то адюльтерной склокой с Геккеренами; и, бросаясь быком на выставленную красную тряпку, он всякий раз обнаруживал за ней пустоту, но где-то рядом чувствовал пристывшее дыхание убийцы-тореадора.
Пушкин не отправил письмо А. Х. Бенкендорфу, т. к. сказать в нем ему было нечего: пока он находился в рамках защиты семейной чести, кроме как вызвать оскорбителя к барьеру ему ничего не полагалось – грязное белье не предмет публичности; политический же характер нападения на себя он не столько осознал, сколько почувствовал, чувства же застревают в эмоциях, не откладываются в размышления.
К 1834 году А. С. Пушкин становится на барьерной черте противостояния, от кабинетного до трактирного, двух партий.
Одной стылой, косной, врастающей мертвечиной западнических задов, от К. Нессельроде, А. Меншикова… до З. Волконской, Чаадаева, милейше-ядовитого П. Вяземского, когтящих и оскопляющих Россию; партию в разных перьях, в разных оттенках, от белых до розовых, от «стервятников» до «голубей»; партию зачастую не программ даже, а умонастроений: от приговоров «Россия – Монстр», до соболезнований «Бедная Россия», и представленную и в царедворцах, и в декабристах (В. Ф. Раевский)… И другой, столь же разной, несопоставимых личностей, как А. Ф. Орлов, Д. М. Сенявин, Мордвинов, Перовский, Денис Давыдов, Языковы… и далее до Белинского – и как только сближение его с этой второй становилось заметно, весомо, политически значимо, следовал удар; 30-го ли декабря 1833 года, 4-го ноября 1836.
Какие-то зыбкие связи и пристрастия соединяли Англию и русского военно-морского министра кн. А. Меншикова, в канун 1853 г. отдавшего заказ на паровые машины для линейных кораблей и пароходо-фрегаты не отечественным, а английским заводам и верфям; так что из 40 боевых «паровиков» англо-французского флота, оперировавших против Севастополя и Кронштадта 22 были построены на русские деньги…; склоняли министра иностранных дел К. Д. Нессельроде тщиться с симпатиями к Вене, когда антиславянская и антирусская ее позиция совершенно определились – и сплоченно обращаться против иных инициатив, не заевропеивающих, а раздвигающих российскую самобытность; против ее необозримости, бросится ли она в расширение границ, небывалые формы хозяйствования или социальных инициатив; и скопно, стайно обкладывающих единственный голос, который и при полной межеумочности еврохолопства и полонодоцентуры русских университетов (Малиновский, Сенковский, Каченовский) мог разнести зерна великодержавной, не великобарской, идеи по стране-континенту.
Ах, как легко стало жить П. В. Вяземскому в отсутствии А. С. Пушкина, когда в погашение могучего интеллектуального освещения и собственные мыслишки стали как будто и ярче и весомей; и «восхищаться» намозолившим гением, ставшим поперек собственной худобы надо всего лишь в прошедшем времени и к утвердившимся поводам.
Гон Пушкина шел из этого лагеря, как вставшего на острие исторического поединка России Орловых с Russia Нессельроде, расколом шедшего и по династии, официально называемой в генеалогическом «Готском Ежегоднике» Романовы-Гольштейн-Готторпские. И огромную пучину подоплеки конфликта власти скорее всего уже прочувствовали.
Достаточно давно было обращено внимание на двусмысленную роль Николая Павловича в событиях ноября 1836 – января 1837 года. Он был вполне очевидно задет пасквилем, преследовал своей ненавистью подозреваемого в авторстве Геккерена-старшего по всей Европе так, что дипломатическая карьера последнего навсегда сломалась, ни один европейский двор в качестве дипломатического представителя его более не принял – и в то же время совершенно несвойственная вялость николаевской полиции, лучшей в Европе; единственной осуществлявшей полный паспортный контроль всего населения страны.
Что, не могли узнать, в какой части опущены конверты и, передопросив всех и вся, ринуться по недавнему следу, а он скорее всего был очень приметным… ведь даже открытие внутригородской почты в 1833 году большинство петербуржцев расценило как созданной для удобства полиции распространить практику перлюстрации дипломатической почты на обывателя (кстати, в последнем русская полиция опять была самой изощренной в Европе).
Странная позиция Николая Павловича даже породила подозрение в прямом соучастии дворцовых сфер в убийстве поэта, что, в общем, необоснованно. Остается предположить, что во-влеченными начинали проступать уже такие круги, на которых основывалось само здание монархии и империи; и если даже император «мог», то уже «не хотел»; это было как бы разорваться между своими тремя фамилиями. В этом проявляется какая-то червоточина, какая-то складывающаяся ущербность последнего «Сильного Романова»: при уверенности в вине Геккерена, которого Николай, породистый здоровый мужик, презирал за противоестественные половые пристрастия; и уж наверняка еще хуже относился к собираемому им вокруг себя петербургскому аристократическому охвостью – П. Долгоруков, А. Гагарин, А. Шереметев – играющемуся вседозволенностью, чего он не терпел, Николай провел бы следствие самое решительное и быстрое; но кажется, утаивая это и от себя, он безотчетно боится, что след пойдет в ТАКИЕ КРУГИ… значит внутренне их предвидит? Скорее да… граф Нессельроде уже крепко подставил его с Пушкиным…
А следствие могло вскрыть и их, во главе которых по тайной Конвенции 3-х императоров августа 1833 года он въезжал верховным жандармом в Европу, что весомей [в его глазах] всего материального значения Ункияр-Искелесского договора вместе с другом А. Ф. Орловым… Конвенция стала европейским подиумом Николая, но подлинным триумфом Клемента Меттерниха, канцлера Австрийской империи, ой как насторожившегося против автора «Клеветникам России», вместо раздела Польши трактующего о «славянском море»; при том, что бескорыстным искателем венского коллеги является российский министр иностранных дел гр. Нессельроде, именно после возвращения из Теплица подсунувшим Николаю такую «удачную» идею с Пушкинским «камер-юнкерством»… Значит, Пушкин тоже стал разменной монетой за «согласие 3-х императоров», как чуть позднее станет ей отказ «ради европейского согласия» от условий Ункияр-Искелесского трактата, в первый и последний раз обративших Черное море в Русское озеро.
…Талант расцвечивает свое время и пространство – гений преобразует его: кажется, этого начинали страшиться. Все.
И Николай Павлович, как практический политик вынужденный признавать весомость силы общественного мнения, реализующегося через газеты и «Английские клубы» вместо прежних вторжений гвардейских караулов в дворцовые спальни; и либеральные дристуны братья Тургеневы, вдруг услышавшие от снисходительно поощряемого клеточного соловья иную, не либеральную песню:
О чем шумите вы, народные витии?
. . . .
. . . .
Иль нам с Европой спорить ново?
Не желают, противятся, тянут назад, только по обстоятельствам переступают ножками. Все. Все.
И обще-снисходительно плачутся над покойным… Потом по-несут старательно обделанным трупом.
* * *
На этом и кончим.
А кому невыносимым покажется свержение стереотипов – не кумиров, – и перемена знаков оценок, примите это как литературную мистификацию. Я не работал над источниками, не проводил экспертиз, не вводил в оборот новых фондов – я просто взял последнее, что написано не мной, не по моему выбору, не в моих интуициях и показал, как большая часть приводимых свидетельств и материалов может интерпретироваться совершенно иначе и как при этом рядом с внешней канвой событий возникают контуры исторической тайны; а история России повисает или полнится от того, завяжется или развяжется узелок между Николаем Павловичем Романовым и Александром Сергеевичем Пушкиным, людьми земли русской. Нет, не завязался…
2001–2003
Сонм пушкинистов из ВОПРОСОВ ИСТОРИИ – Искандеров, ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ – Рахматуллин, ПУШКИНСКОГО ДОМА – Невская, остановили публикацию 2-й работы по теме «Чёрная Речка – Белый Человек». На основе её материалов мной был собран небольшой обзор, представляемый ниже, и даже приглашённый к публикации в ряде изданий к юбилейным торжествам 2004–2006 гг., но так нигде и не появившийся.
Особенно поразила меня позиция отца и сына Куняевых, сорвавших его публикацию в НАШЕМ СОВРЕМЕННИКЕ, вплоть до дезавуирования Первого заместителя Главного Редактора Гусева, сделавшего мне прямое предложение.
Утаённое звание поэта…
– «Достоевский умер? Не верю – Достоевский бессмертен!»
– Бессмертен только Таракан.
(вместо эпиграфа)
– Сдав в печать статью о взаимоотношениях великорусской государственности и ее великого поэта А. С. Пушкина, частным следствием из которой стала гипотеза о получении им, в соответствии с общественной и служебной значимостью звания «камергера» незадолго до гибели, под которым он и проходил в течении полутора месяцев, от 28 января по 16 марта 1837 г. (по ст. ст.) в документах военно-судного дела о противозаконной дуэли (см. журнал «Слово» № 1 за 2004 г. – сама статья была написана летом 2002 г.) я не планировал далее углубляться в дебри литературоведения и пушкинистики. Сам по себе этот материал присутствовал и присутствует в рамках моих размышлений, как существенный, но не главный на подходах к теме «Историософия великорусской истории», тому ее разделу, что можно назвать «Эпохой Первых» (Павел, Александр, Николай), или вырывая из контекста исторического одного из ее выразителей «николаевской». Раз уж пришлось к слову, не могу не заметить г-дам литературоведам, ступающим во след А. А. Ахматовой, что вполне объективное понятие «пушкинская эпоха» становится квази-понятием, если вы пытаетесь обратить его из культурологической отграниченности в политическую всеобщность, подменить им понятие «николаевская», как и сколько оно вам нравится или не нравится. «Николаевская эпоха» началась картечью по декабрьскому снегу, завершилась бомбами Севастополя – Пушкин присутствует в первом отсутствием, во втором никак. Не будем обращать специфику конкретно – исторического в межпредметный балаган… Я выходил к Пушкину через эпоху, перебирал и присматривался к ее ключам, искал и кажется нашел в нем нечто другое, отличное от «чудных мгновений» под «покровом угрюмой рощи», что делает его историческим лицом своего времени, деятелем эпохи, которую в целом все же лучше назвать эпохой «Первых», даже по тому неразличимо-цельному, какими были в жизни и памяти Александра Сергеевича цари-братья Александр и Николай Павловичи, как бы передававшие его из рук в руки, в изломах уже собственных судеб, что лишь разное олицетворение неделимой судьбы России…
Об этом надо говорить долго и обстоятельно; говорить, прислушиваясь к сказанному, к тому, что из него рождается, куда ведет; но и к тому, что является подосновой сказанного, что его зародило, доброе то зерно или плевела – отставим это, место подобному разговору не в публичной статье, здесь бледнится и начинает отходить до уровня простого повода уже и сам Александр Сергеевич. В то же время, входя в тему «Пушкин» из эпохи, начинаешь отчетливо замечать насколько он выразительно-невралгический пункт самой эпохи, как бы саморазоблачающуюся через него, сбрасывающую с себя не только одежды – сдирающую кожу, уязвимо-чувствительную, агонизирующую и пытающуюся разродиться небывало-новым, и разбрасывающуюся какими-то клочьями небывалого, несложившегося ребенка: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Белинский, как и выросшие из нее Достоевский, Менделеев, Скобелев, Толстой… но и Булгарин, Вигель, П. Долгоруков, В. Печерин, тоже небывало-безудержные:
Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья!
Задушенная в чем-то главном, она разбрасывала их в бессистемном агонизирующем пароксизме, но какой механизм запускал его? Что было генератором этих неистовых потуг, силу которых демонстрирует небывалый взлет отечественной культуры, особенно ее художественной составляющей, сразу, с периферийного захолустья влетевшей в самый центр всемирно-культурного процесса?
Сам переизбыток художественности свидетельствует о стихийно-слепом ее характере, о метаниях мощного тела, увы, безумного, пытающегося что-то подсмотреть и кого-то подслушать, но более всего говорить, наговорить, заговорить…
Как легко в этой буре иных увлечь и увести, бездумных, на звуки приятно-простых свирелей: А. Герцен, И. Тургенев, З. Волконская, Т. Грановский; или обложить запретом, перепеть шумно-общим хором, обратить в пугало, изгоя, петушиную ноту, как то случилось с В. Жуковским, А. Григорьевым, Ф. Тютчевым, присутствующими в отечественном сознании выпотрошенными птичьими тушками, ощипанными от «политичности» каплунами. Но заметил ли кто, что это выщипывание и обрезание национального инстинктивно-художественного поиска ценностей и путей русского бытия начиналось именно с А. С. Пушкина? Понято и осознано ли, что с 1828 г. именно он первый «исписался», вкупе с М. Орловым провинился в «рабском патриотизме» – вот к каким временам восходит сентенция последнего по сроку «Старого Плешака»[23 - Н. Языков о П. Чаадаеве.]
Б. Окуджавы «патриотизм чувство примитивное, оно присуще даже кошкам»; был разведен и отставлен от читателя честно-злонамеренной критикой и влюбленно-ядовитыми друзьями: Тургеневы, Вяземские, Одоевские, Карамзины; почти уничтожен в своей перелицованной реальности, принадлежит ли она кисти О. Кипренского или перу П. Вяземского, если бы… не сам пушкинский текст, не «Полтава», не «Бородино», не «Клеветникам России» – совершенно не уничтожимый; и потому с такой ненавистью или сожалением пережевывают они черноту автора в своей среде: А. Тургенев Н. Тургеневу в 19 веке, Г. Федотов либерал-эмигрантщине в 20-м – и как пылко, страстно, истерически-упоенно, ликующими хорьками набрасываются на него, когда можно не оглядываться на отставленную нацию, к потребе других, как Синявка-Тарсис в «Прогулках с Пушкиным», как С. Коонен в вивисекции нововеликорусской культуры по поводу 200-летия его рождения.
Осознано и принимается ли в расчет, что Пушкин изымается из национального сознания как этап, веха, итог в восхождениях интеллекта нации уже 177 лет, и как немало в том преуспели, честные и бесчестные, преобразователи и предатели, идеалисты из чистых побуждений и платные шавки на построчной сдельщине. Пушкин – пример вивисекции над национальным сознанием, лоботомии исторического; Пушкин почти отнят у нации, почти украден, почти низведен до герани и резеды баб и сентименталок обоюдного рода – почти, если бы не пушкинский текст…
Удивительно ли после этого, что Пушкина не менее, если не более чем в 19 веке надо открывать, надо возвращать, надо восстанавливать в основе национальных размышлений в 21-м – в этом смысле Ф. Тютчев, менее доступный, менее значительный, менее популярный, менее пресыщенный вниманием критики и литературоведения (слава богу, тютченистики у нас нет…) в них присутствует богаче, ярче, плодотворней, более зорче если уподоблять русскую поэзию «умозрениям нации…» и его
Умом России не понять…
рождает больший рой размышлений, даже при том, что это нотка потерянности, инаковости разрастающемуся в нем европейскому сознанию; Пушкин ее преодолел легко, одним рывком