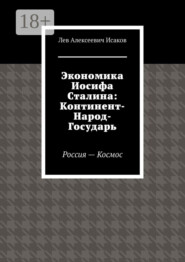По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русская война: Утерянные и Потаённые
Автор
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Взаимное недоверие, согласие в чем-то большом – в чем именно, обе стороны сказать друг другу тем не менее не могут, некий ореол «Великая Россия», – расхождение по мелочам. Император требует докладов до дел, Пушкин отвечает отчетами после дел; для «руководства и советов» пристален граф А. Х. Бенкендорф, с одной стороны недоверие, с другой толика уважения увесистостью чиносопровождения – а что бы вы почувствовали если вам «для руководства» приставят Министра Внутренних Дел? Тем более при ближайшем знакомстве Александр Христофорович оказался добродушный немец, к тому же очень не любящий, если кто со стороны наезжает на подведомственные ему учреждения, дела, лиц. Александр Сергеевич скоро сыскал ключик к сердцу Высокого начальника Личной Его Императорского Величества канцелярии – за острое словцо бывший партизан 1812 года может скостить изрядные прегрешения: вот хотя бы две свирепейших эпиграммы на Министра Просвещения графа С. Уварова.
Сближение происходит очень медленно. В 1835 году едва не случается разрыв: Пушкин подает прошение об отставке. – Николай вроде бы не возражает; В. А. Жуковскому удается убедить Александра Сергеевича взять прошение обратно – Бенкендорф не препятствует… О камергерстве в этих условиях как-то не говорится ни той, ни другой стороне. Но… ведь есть еще и 3-я, Василий Андреевич, который искренне боится, что Пушкин, по безденежью, бросится в журнально-газетные авантюры; который пламенно хочет поместить его в золотую клетку независимости от читателя, предохранить от возмутительного строчкогонства, а тем более от правки корректур за расписавшимися графоманами; и можно не сомневаться, об этом говорится многократно, терпеливо, настырно, дайте только повод – а здесь он налицо, – в жизни у Василия Андреевича Жуковского кроме Пушкина ничего нет: только бы пронести, только бы уберечь…
Решительный сдвиг скорее всего произошел по поводу по-явления пресловутых «дипломов» от 4 ноября 1836 года. Власти узнали об их появлении в тот же день: один диплом был перехвачен полицией и оценив важность документа, А. Х. Бенкендорф немедленно представил его императору. Перед Николаем I сразу возникла серьезная проблема.
Следует признать, что исследователи обратили не много внимания на малый бытовой и большой политический смысл дипломов. Анонимный пасквиль, кстати оформленный по типу распространенных в Европе, особенно в Германии и Нидерландах, шуточных поздравлений (наподобие современных «Удостоверение Дурака»), сам по себе не имел особенного общественного значения, что очень хорошо выразил Пушкин:
– Если кто-нибудь сзади плюнул на мое платье, это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое.
Значительно больше оказывался уязвлен царь: некто, с неслыханной для самодержавной страны дерзостью, вторгался в интимную жизнь двора и венценосца, прямо объявляя о связи Николая Павловича с Натальей Николаевной, выставляя то на публичность, чего не будет в национальной традиции до изданий А. Герцена; и даже в 20-м веке сохранивший аристократизм В. Маяковский будет отвергать буржуазное бельекопательство:
– Я поэт – Только тем и интересен!
Фактически же некто вбивал клин между императором и первым поэтом России, а это уже начинало приобретать характер крупной политической провокации, что мгновенно насторожило Николая; скорее всего именно этим объясняется его уверенность, что автором пасквилей является Геккерен-старший – император полагал за дипломами политическую фигуру и не видел других заинтересованных лиц такого круга. Вероятно, подозрение это было неявно и неотчетливо перемешанное с адюльтерно-бытовыми мотивами, поэтому предпринятые полицией поиски шли не очень активно, т. е. растопыренными пальцами в разные стороны; и можно понять особых результатов не дали: во всяком случае прямых улик против барона получено не было. В этих условиях император решил выждать, определившись по поведению А. С. Пушкина.
Обстоятельства появления дипломов наводили на серьезные размышления: аноним разослал их исключительно членам «Кружка Карамзиных», что определенно намекало на его какую-то с ним сопричастность, и принятые в нем Геккерен и Дантес вполне под этот намек подходили. С другой стороны здесь собирались наиболее преданные друзья и почитатели Пушкина, склонные оберегать, а не будировать поэта, которые предсказуемо уклонились бы от разглашения факта появления дипломов, сохраняя Пушкина и Императора по одну сторону барьера, – и только сам Пушкин, подстегиваемый невыносимым сознанием, что диплом гуляет по рукам самых близких людей будет яриться и кидаться на всех и вся, и особенно на выставленную красную тряпку дворцовых сфер, следуя очевидному стремлению пасквилянта столкнуть и развести его с императором, при этом таким образом, что инициатором конфликта и разрыва всецело выглядел бы А. С.; при этом без особой к тому основательности: общество преимущественно ничего не знает; знающие помалкивают и более всего раздражаются на возмутителя за тщету своих усилий сохранить «плохой мир от доброй ссоры»; власть-император, непонятно за что подвергшаяся нападкам, будет взбешена – защитников у А. С. поубавится… Как и желающих сотрудничать с ним.
Это было серьезным испытанием на лояльность поэта к власти и, кажется, Николай Павлович данную сторону ситуации вполне оценил; общая значимость интриги все же от него ускользала, терялась в альковных дрязгах: отсутствовал очевидный мотив, сводящий здание к одной крыше.
Удивительно, но Александр Сергеевич, при всем холерическом бешенстве темперамента почувствовал эту сторону пасквиля почти сразу. Можно согласиться, что сначала он заподозрил в дипломах беспредметную великосветскую подлость образцового мерзавца, мерзавца из принципа, не от аморальности, а от антиморальности Александра Раевского, но уже через пару дней его поиск обратился на политические сферы. Чисто объективным основанием тому стало, скорее всего, заключение его знакомого А. Яковлева, по осмотру дипломов заявившего об иностранном происхождении их бумаги и малой доступности таковой за пределами дипломатического корпуса. Эти две ориентировки: дипломы получили только члены кружка Карамзиных; к дипломатическому корпусу принадлежал вхожий к ним барон Геккерен – определили ход его мысли, и обращение на нидерландского поверенного и его приемного сына… И кажется попал впросак: эти странно-грубые детали на изощренный интриге – ведь 166 лет так и не выяснили мотива! – кажутся слишком нарочитыми, слишком раскрываемыми.
Что, Геккерен, профессиональный дипломат, т. е. по определению В. Темпла «честный человек, совершающий бесчестные дела в интересах своего государства», не понимал, отсылая эти дипломы, что по ним будет занаряжено следствие, или частное от Пушкина, или официальное от уязвленной власти, а то и оба сразу, и круг адресатов, и бумага немедленно насторожат следователей против него?
Лень послать в лавочку за русской бумагой?
А зададимся вопросом – будет ли так играться с властью страны пребывания аккредитованный дипломат, мимоходом щелкнув по носу намеком на адюльтер не только Пушкина, но и государя?
А Дантес-Геккерен?
Позвольте мне привести эпизод из рассказов Н. В. Трубецкого, который А. Ахматова заклеймила «маразматическим бредом», а С. Абрамович «не хочет воспроизвести даже в отрывках»…
Пушкин, Дантес, Наталья Николаевна сидят в гостиной, гаснет свеча – поэт выходит за светильником в коридор; вдруг слышит за стеной сдавленный смех, звуки поцелуев – врывается в комнату, зажигает спичку… Дантес держит в руках бюст Вольтера и пресерьезно, раз за разом целует его в темечко – Наталья Николаевна, сидящая в стороне не в силах сдержаться, заливается смехом… После этого Дантесу отказано от дома.
Александр Сергеевич, над вами кажется смеются – но ведь шутка-то прелестна! В истории же с дипломами присутствует какая-то грубость, примитивность, отсутствие меры и… какая-то недоразвитость, мелко-хорьковая злобность, отнюдь не ненависть; во всяком случае неумение ее реализовать – поначалу А. С. Пушкин даже не обиделся: «это дело моего камердинера».
Дантес же умел делать больно с возвышающим его артистизмом.
С осени 1835 года для Дантеса это была необязательная пикировка-месть «жеманнице» приобретавшая характер водевиля по наличию бешено ревнивого мужа – чем не мольеровский Альцест-Мизантроп; только немногие из друзей поэта подозревали в том драму и лишь один пережигал себя в трагедии «Черный я!»…И какой смысл был Дантесу обращать остро приправленную игру с «мошенницей» и «ревнивцем» в, господи прости…Историю Петербургского Мавра! Худо-бедно, но Геккерены и Пушкины теперь, после женитьбы Жоржа и Катишь, были в родстве; надо было как-то, хотя бы до уровня приличий снизить накал толков в обществе. Какие-то попытки делает в этом направлении Геккерен-старший: посещает дом Пушкиных, вручает Наталье Николаевне письмо Дантеса с навечным «Прощай»; произносит отеческое поучение… Тут г-жа Абрамович взрывается праведным гневом: это оскорбление женщине! Пощечина Пушкину! Я бы обратил внимание на то, что уже второй прожженный, тертый участник этой истории обращается с нравоучениями именно к безмятежной Н. Н. – что же так-то, какие черти им блазнятся в белоликом омуте?
Пушкин и сам понимает: надо мириться. Через пару недель после объявления помолвки, встретившись на вечере у общих знакомых с четой Дантесов-Геккерен, подошел в отсутствии жениха к Екатерине Николаевне и дважды предложил выпить шампанского за здоровье ее избранника – оскорбленная его отношением к суженому Екатерина Николаевна отказалась…
И по мнению г-жи Абрамович стала соучастницей умерщвления поэта…
Геккерен снимает и отделывает с неслыханной роскошью комфортабельные апартаменты для молодых. – Весь Петербург ахнул изяществу и вкусу обстановки, куда помещена молодая пара; вероятно, заставив прикусить губки Наталью Николаевну – Екатерина Николаевна стала баронессой, живет теперь значительно аристократичней, чем она. Геккерены устраиваются всерьез и надолго, и отнюдь не планируют покинуть Россию, один через 5 месяцев под конвоем; другой через год, ославленный и опозоренный.
Дантес восстанавливает пошатнувшиеся было отношения с общими знакомыми из пушкинского круга; сам по себе человек интересный, он дорожит и тянется в эту среду, лучшее что есть в Петербурге – и преуспевает в этом: Пушкин ни разу не переступил порог его дома, но его друзья бывают там все, единодушно отмечая изящную, приятную обстановку, царящую в нем.
Нет, если бы чувства и разум Александра Сергеевича – «самого умного человека России» – оказались не в разладе, он искал бы врага не там…
Враги свои и чужие
Профессиональная, а не интеллектуальная ограниченность литературоведов не позволяют им оценить политическую сторону 2 ноябрьских писем А. С. Пушкина (Геккерену-старшему и Бенкендорфу), и особенно 2-е, где А. С. фактически обращается к русскому обществу – но с чем? С обвинением некоторой политической силы, вторгающейся в его личную жизнь. Пушкин НЕ ВИДИТ В СВОЕМ ОБРАЩЕНИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ – увидит его таковым общество; поэту приходится смириться – письмо не отправлено… Как показали последующие события, он был прав: и в оценке политического смысла вторжения в его семейную жизнь и в ожидаемой грядущей реакции на свое обращение – только после гибели поэта события 1836–1837 гг. начинают воспринимать возведением его на Голгофу; и лишь через несколько лет придут к осознанию национально-политического значения УМЕРЩВЛЕНИЯ ПОЭТА. Но политический характер интриги… он заявляется, декларируется, особенно в 1917–1980 гг., но не серьезно, плакатно, для мельтешни, т. е. без проработки, без установления интересов и мотивов лиц, смысла ходов – т. е. без осознания, единственно дабы пнуть во всем виноватое самодержавие; и мгновенно возвращает уровень исследований к исходному состоянию по миновании социально-политической конъюнктуры.
Николаевская Россия 1826–1840 гг. отнюдь не была тем застывшим комом, каким являло ее последнее десятилетие; она отнюдь не определилась, она еще рябила движением и в общественной практике и в умонастроениях императора: пока в армии и флоте наличествовали Дибич, Паскевич, Муравьевы (Кавказский и Сибирский), Грейг, Лазарев; в администрации Перовский, Воронцов, Киселев; в центральных ведомствах Канкрин, Мордвинов, Сперанский; пока жгли, не сгорали в феноменальной памяти Николая Павловича записки декабриста Корниловича, ему самолично заказанные, о полагаемых наиважнейших мерах государственного переустройства России, русское общество не было ни единым, ни каталепсированным. Борьба реакции с реформизмом? Азиатчины с Цивилизацией? Победителей с жертвами 14 декабря 1825 г.? Как это упрощенно.
Пушкина приглашали в Москву в 1826 году для того, чтобы установить определенный канал «влево» властью, понимающей, что из простого самосохранения нельзя воевать с 43 % полков армии (охваченных влиянием декабристов); он выполняет в отношении общества ту же роль, какую выполняет в армии Н. М. Муравьев (будущий Карский), создатель «Офицерской Артели» из которой вышли ВСЕ крупнейшие деятели декабризма; какую играет присутствие в службе Александра Тургеневы, брат которого Николай, приговоренный к отсечению головы, живет в Лондоне.
Но Пушкин в делах 1828–1829 гг. (Русско-Турецкая война), 1830–1831 (Польская кампания), 1833 года (Ункияр-Искелесский договор) выступает уже общественным рупором и иной, уже внутриправительственной партии.
Александр Федорович Орлов водил в кавалерийские атаки конногвардейцев на восставшее каре, но выходец из знаменитых Орловых, шеф ли он жандармов или цареубийца, как дяди или сподобилось брату Михаилу – весь природно-русский до кулаков, глотки, фанаберии, свилемысленности; и подпишет блистательный Ункияр-Искелесский протокол в 1833 году – а в 1856, в Париже, в труднейших условиях вырвет самые необременительные статьи итогового замирения.
Генерал-губернаторы Перовский, Муравьев-Амурский конечно загонят, упекут, засекут, но и в мыслях не допустят поступиться чем-либо из интересов Империи, Российской империи, России. Где-то на верхних пределах это чувство было общим и у солдафона Михаила Павловича, и у фрондирующего тигра Алексея Ермолова, и у литератора Александра Пушкина; и у полукарбонари Виссариона Белинского – пока он в осмыслении: без сильной России не будет вольного русского мужика, станет белым негром на плантациях м-ра Смита. Остальное уже частности: сильнее или слабее становится Россия от обладания Привислянскими губерниями; стоит ли воевать 25 лет за линию Кавказа, чтобы не стали там дивизии Клайвов и Регланов… – это метод.
И есть нечто принципиально другое: отрицание историчности и естественности России (Чаадаев); русской политической самодеятельности (Нессельроде); экономической и практической самобытности (А. Меншиков); своеобычая русской культуры и мысли (Печерин, Сенковский, Каченовский). Их значение и влияние, резко возросшее в последние годы царствования Александра I с его мистицизмом по англиканскому, сентиментализмом по немецкому, полонизмом по французскому, легетимизмом по австрийскому покрою обратило русскую политику в придаток Венской – теперь резко пошатнулось в активном начале николаевского царствования когда отставлен был Аракчеев; прекращена деятельность «Библейского общества» и иезуитов; Нессельроде обращен в род почтового ящика для дипломатических пересылок, не более. До петрашевского дела, оттолкнувшего императора к покою могилы, граница их падения не была означена…
Только одно ведомство Российской империи в эти годы источало мертвечину и гиль – Министерство Иностранных Дел, прямое выражение нарастающей евроманической амнезии Последних Романовых, после отставки Н. Панина всецело обратившееся в канцелярию дворца, государеву игрушку, возглавляемое непрерывной чередой исполнительных безгласных чиновников, каменных задниц, канцелярских регистраторов от Безбородко до Извольского, с замечательно дутой величиной канцлером А. Горчаковым посередине, паразитирующем во внешней политике на созиданиях О. Бисмарка, во внутренней на памяти А. С. Пушкина; закоснелое ведомство, когда требуется его поистине государственная работа, приходится выполнять ее человеку со стороны: Александру I на Венском конгрессе; А. Ф. Орлову на Парижском; С. Ю. Витте на Портсмутском; иначе, не приведи бог, дело кончится таким провалом, как оскандалился А. Горчаков на Берлинском, показав английскому уполномоченному список предельных русских уступок на Балканах – которые англичане и востребовали у русской стороны! Ведомство, в котором числится такое количество недоброжелателей Пушкина, и к которому тяготеют его самые опасные, уже политические, враги из т. н. «Кружка Нессельроде», т. е. политического салона графини Марии Дмитриевны, в одном пальце которой больше жизни, чем во всем ее стручке-муже. И в котором в чине титулярного советника числится и сам Пушкин, правда на особом положении, при Экспедиции бумаг, как прикомандированный к приисканию материалов для написания Истории Петра Великого.
Обратил ли кто внимание, как необычно много пребывает вокруг Пушкина иностранцев в 1834–1837 гг.: Блай (Английское посольство); Барант (Французское); Геккерен (Нидерландское); Фикельмон (Австрийской) – секретарь английского посольства Меджинис едва не стал секундантом Пушкина по последней дуэли. Отбрасывая детали, можно утверждать, что оформление этих связей свидетельствует о признании политического фактора «Пушкин» уже и внимательным дипломатическим корпусом; при этом если присмотреться, то заметно, что наиболее высокопоставленные знакомые Пушкина гнездятся в континентальных посольствах, но по числу знакомых, по методичности встреч определенно преобладает английское, ненавязчиво и плотно обложившее его своими секретарями, так что на спектаклях его визавирует Блай, а в книжной лавке Смирдина Меджинис – и судя по эпизоду с секундантством немало в том преуспело: сами понимает, на такое дело приглашают людей доверительных… Попутали Парламентарию с Богдыханией? Англичане, ведущие каждодневно дела в бесчисленных восхождениях обществ всех континентов, никогда ничего не путают!..
Вот изящная сценка, как Меджинис выпутался из щекотливого положения с секундантством: он не стал отказываться в тот же час, ссылаясь на свой дипломатический ранг, щекотливое по-ложение иностранца в таком глубоко-интимном и национально-чувствительном деле, все узнал и взвесил, и отказался через день, мотивируя тем, что убедившись в невозможности попыток примирения противников, не может и участвовать в дуэли, т. к. это именно и есть главная задача секундантов. – Ух ты, как закручено!..
Браво!
Но англичанин не может не знать, что дуэль все равно состоится; и тем более хорошо знают в английском посольстве, что практика русских дуэлей давно обратила их в узаконенное «убийство с самоубийством» – и привязывать гибель поэта к имени Англии уклонились; но не от умерщвления поэта… Т. к. Меджинис несомненно поставил английского посла в известность о необычайном предложении Пушкина, то ИМЕННО АНГЛИЙСКОЕ ПОСОЛЬСТВО первым узнает, еще до 26 января, о грядущей дуэли и о весьма возможной гибели поэта; причем без примысливания, в разговоре с Меджинисом Пушкин сообщает ему и обговоренные условия дуэли: стреляться на 10 шагов до тех пор, пока противники в состоянии вести поединок, т. е. едва ли не до гибели одного или обоих.
Кстати, раз уж коснулись этой темы, а почему такие свирепые условия дуэли? Они не самые жестокие, в русской практике была страшная дуэль Чернова с Новосильцевым, когда стрелялись на 5 шагах и мгновенно пали оба – но это свои; западная практика исходила из 40—50-метровых дистанций, и Пушкин, а сейчас окончательно признано, что именно он диктовал условия поединка, мог подстроиться под нее и Дантеса – не стал… Любопытно, что тут обожатели-пушкинисты скромно потупляют глазки «страстно желал убить оскорбителя», что уж вовсе негуманно и не по христиански.
Скажите, кому была на руку оттяжка дистанции шагов этак до 20, превосходному стрелку Пушкину или посредственному стрелку Дантесу, старательно утаивавшему свою близорукость? При увеличении дистанции шансы Дантеса падают почти до нуля – Пушкин только увеличивает свою безопасность. Нет, Александр Сергеевич держал еще свой дуэльный кодекс; своим счетом отграничивал дуэль от убийства – но и повышал свой шанс гибели. Кстати, если бы так неудержимо, вырвавшимся из-под контроля дьяволом желал он убийства Дантеса, он обратился бы к другому оружию: Пушкин был замечательным фехтовальщиком, одним из лучших в России, упомянутым даже в изданном при его жизни во Франции 2-х томном руководстве по фехтовальному искусству; если на пистолетах были и лучшие стрелки, Липранди, Толстой-Американец, то в бою белым оружием соперников у него практически не было, и он мог навязать Дантесу любой исход поединка…
Русское светское общество относилось к Меджинису снисходительно, называло «больным попугаем» (по-французски); Пушкин ставил значительно выше, «уважал за честный нрав», в чем сходился во мнении с английским МИДом, удостоившим петербургского секретаря впоследствии звания посла (в Португалии) пост, который достигают менее 1,5 % профессиональных дипломатов – определение дипломата, данное англичанином лордом Темплом я уже приводил.
Нет пророка в своём отечестве?
Но сложные завуалированные поползновения на Пушкина из политической области начались значительно раньше. Очень знаменательно выглядят в этой связи обстоятельства получения А. С. камер-юнкерского звания. В книге С. Абрамович «Пушкин в 1833 г. Хроника» за пределами попыток выслуживающейся бабёнки отмыть поэта от юношеского карбонаризма и русского максимализма, есть примечательное совпадение, прошедшее мимо куриных мозгов сей дамы.
29 декабря. Бал в Аничковом дворце по приглашению императрицы; всего присутствует 111 человек, кроме лиц царствующей фамилии «присутствуют 4 иностранных принца…, граф Нессельроде с супругой…., гр. А. Ф. Орлов… Бал окончился в 35 минут 4-го часа».
30 декабря. [Суббота] Граф К. В. Нессельроде извещает письмом министра Двора князя П. М. Волконского о пожаловании титулярного советника Александра Пушкина в звание камерюнкера «О сей Высочайшей Воле сообщаю Вашему Сиятельству для зависящего от Вас, Милостивый Государь, во исполнение оной распоряжения».
Т. е. камер-юнкерство Пушкина было решено прямо на балу, тет-а-тет Николаем и Нессельроде; очевидно, кто «решал», но кто «представлял» и «редактировал»?
Красноречиво свидетельство Льва Сергеевича Пушкина о реакции брата:
30 декабря «Брат мой… впервые услышал о своем камер-юнкерстве на бале у гр. А. Ф. Орлова. Это сбесило его до такой степени, что друзья его должны были отвести его в кабинет графа и там всячески успокаивать. Не нахожу удобным повторить здесь всего того, что говорил с пеной у рта разгневанный поэт по по-воду его назначения». Получается, что назначение либо было совершенно неожиданно, либо не тем, что полагали… но кто спровоцировал этот внезапный курбет?
А как реагировал на это сам хозяин кабинета, только что летом подписавший блестящий Ункияр-Искелесский договор, который разом повернул к нему внимание всего русского общества – оказывается, граф силен не только пудовыми кулаками и не одним опричным рвением; один из тех темномысленных, дальностелющихся русских богатырей, генетическое продолжение дядюшки Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского, львиноголового Алексея Петровича Ермолова и колеблющегося в бликах выше и далече всех Михаила Илларионовича Кутузова – выражение русскости души Николая Павловича, а вокруг, недалече и стайно: николаевский Аракчеев П. В. Голенищев-Кутузов; красиво-надменный В. С. Перовский; талантливо-честолюбивой А. М. Муравьев…Еще летом, в компании 3-х Языковых Пушкин обсуждал блистательное докончание с Портой о Черноморских проливах – 28 декабря на вечере у Салтыковых подойдет к красующемуся генералу и в отличнейших выражениях, с умом и тактом поздравит царского любимца с успехом, от души и сердца, безгрешно; человеку незаурядному, крупному такие признания от сильной натуры особенно приятны. А. Ф. Орлов, с другом которого Перовским А. С. несколько лет назад перешел на «ты», а в доме брата М. Ф. желанный гость перешел на доверительный тон, состоялся длительный разговор, следы которого, касавшиеся разных лиц отложились в записках Пушкина, что примечательно: А. С. писал их мало, по важным случаям и особым «тайноплетным» языком, упоминая детали для лучшего запоминания и опуская суть.
Ну и что, что бравый молодец в конногвардейских конюшнях подзабыл географию и называет Александрию Александриной, как злорадствует умник-Муравьев – через 20 лет, в труднейших условиях военного поражения, подкреплённый для «Александрин» терто-ученым Гирсом, в Париже он полностью переиграет английского кумира Пальмерстона, вырвет снисходительнейшие условия мира, и оставит потомкам идею франко-русского союза, как основу безопасности и стабильности Европы. Увы, Наполеон III, мелкий домушник, ее не понял, не оценил, и упустил единственный шанс сделать свою монархию-монстр в республиканской стране долговременной и национально значимой.
Сближение происходит очень медленно. В 1835 году едва не случается разрыв: Пушкин подает прошение об отставке. – Николай вроде бы не возражает; В. А. Жуковскому удается убедить Александра Сергеевича взять прошение обратно – Бенкендорф не препятствует… О камергерстве в этих условиях как-то не говорится ни той, ни другой стороне. Но… ведь есть еще и 3-я, Василий Андреевич, который искренне боится, что Пушкин, по безденежью, бросится в журнально-газетные авантюры; который пламенно хочет поместить его в золотую клетку независимости от читателя, предохранить от возмутительного строчкогонства, а тем более от правки корректур за расписавшимися графоманами; и можно не сомневаться, об этом говорится многократно, терпеливо, настырно, дайте только повод – а здесь он налицо, – в жизни у Василия Андреевича Жуковского кроме Пушкина ничего нет: только бы пронести, только бы уберечь…
Решительный сдвиг скорее всего произошел по поводу по-явления пресловутых «дипломов» от 4 ноября 1836 года. Власти узнали об их появлении в тот же день: один диплом был перехвачен полицией и оценив важность документа, А. Х. Бенкендорф немедленно представил его императору. Перед Николаем I сразу возникла серьезная проблема.
Следует признать, что исследователи обратили не много внимания на малый бытовой и большой политический смысл дипломов. Анонимный пасквиль, кстати оформленный по типу распространенных в Европе, особенно в Германии и Нидерландах, шуточных поздравлений (наподобие современных «Удостоверение Дурака»), сам по себе не имел особенного общественного значения, что очень хорошо выразил Пушкин:
– Если кто-нибудь сзади плюнул на мое платье, это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое.
Значительно больше оказывался уязвлен царь: некто, с неслыханной для самодержавной страны дерзостью, вторгался в интимную жизнь двора и венценосца, прямо объявляя о связи Николая Павловича с Натальей Николаевной, выставляя то на публичность, чего не будет в национальной традиции до изданий А. Герцена; и даже в 20-м веке сохранивший аристократизм В. Маяковский будет отвергать буржуазное бельекопательство:
– Я поэт – Только тем и интересен!
Фактически же некто вбивал клин между императором и первым поэтом России, а это уже начинало приобретать характер крупной политической провокации, что мгновенно насторожило Николая; скорее всего именно этим объясняется его уверенность, что автором пасквилей является Геккерен-старший – император полагал за дипломами политическую фигуру и не видел других заинтересованных лиц такого круга. Вероятно, подозрение это было неявно и неотчетливо перемешанное с адюльтерно-бытовыми мотивами, поэтому предпринятые полицией поиски шли не очень активно, т. е. растопыренными пальцами в разные стороны; и можно понять особых результатов не дали: во всяком случае прямых улик против барона получено не было. В этих условиях император решил выждать, определившись по поведению А. С. Пушкина.
Обстоятельства появления дипломов наводили на серьезные размышления: аноним разослал их исключительно членам «Кружка Карамзиных», что определенно намекало на его какую-то с ним сопричастность, и принятые в нем Геккерен и Дантес вполне под этот намек подходили. С другой стороны здесь собирались наиболее преданные друзья и почитатели Пушкина, склонные оберегать, а не будировать поэта, которые предсказуемо уклонились бы от разглашения факта появления дипломов, сохраняя Пушкина и Императора по одну сторону барьера, – и только сам Пушкин, подстегиваемый невыносимым сознанием, что диплом гуляет по рукам самых близких людей будет яриться и кидаться на всех и вся, и особенно на выставленную красную тряпку дворцовых сфер, следуя очевидному стремлению пасквилянта столкнуть и развести его с императором, при этом таким образом, что инициатором конфликта и разрыва всецело выглядел бы А. С.; при этом без особой к тому основательности: общество преимущественно ничего не знает; знающие помалкивают и более всего раздражаются на возмутителя за тщету своих усилий сохранить «плохой мир от доброй ссоры»; власть-император, непонятно за что подвергшаяся нападкам, будет взбешена – защитников у А. С. поубавится… Как и желающих сотрудничать с ним.
Это было серьезным испытанием на лояльность поэта к власти и, кажется, Николай Павлович данную сторону ситуации вполне оценил; общая значимость интриги все же от него ускользала, терялась в альковных дрязгах: отсутствовал очевидный мотив, сводящий здание к одной крыше.
Удивительно, но Александр Сергеевич, при всем холерическом бешенстве темперамента почувствовал эту сторону пасквиля почти сразу. Можно согласиться, что сначала он заподозрил в дипломах беспредметную великосветскую подлость образцового мерзавца, мерзавца из принципа, не от аморальности, а от антиморальности Александра Раевского, но уже через пару дней его поиск обратился на политические сферы. Чисто объективным основанием тому стало, скорее всего, заключение его знакомого А. Яковлева, по осмотру дипломов заявившего об иностранном происхождении их бумаги и малой доступности таковой за пределами дипломатического корпуса. Эти две ориентировки: дипломы получили только члены кружка Карамзиных; к дипломатическому корпусу принадлежал вхожий к ним барон Геккерен – определили ход его мысли, и обращение на нидерландского поверенного и его приемного сына… И кажется попал впросак: эти странно-грубые детали на изощренный интриге – ведь 166 лет так и не выяснили мотива! – кажутся слишком нарочитыми, слишком раскрываемыми.
Что, Геккерен, профессиональный дипломат, т. е. по определению В. Темпла «честный человек, совершающий бесчестные дела в интересах своего государства», не понимал, отсылая эти дипломы, что по ним будет занаряжено следствие, или частное от Пушкина, или официальное от уязвленной власти, а то и оба сразу, и круг адресатов, и бумага немедленно насторожат следователей против него?
Лень послать в лавочку за русской бумагой?
А зададимся вопросом – будет ли так играться с властью страны пребывания аккредитованный дипломат, мимоходом щелкнув по носу намеком на адюльтер не только Пушкина, но и государя?
А Дантес-Геккерен?
Позвольте мне привести эпизод из рассказов Н. В. Трубецкого, который А. Ахматова заклеймила «маразматическим бредом», а С. Абрамович «не хочет воспроизвести даже в отрывках»…
Пушкин, Дантес, Наталья Николаевна сидят в гостиной, гаснет свеча – поэт выходит за светильником в коридор; вдруг слышит за стеной сдавленный смех, звуки поцелуев – врывается в комнату, зажигает спичку… Дантес держит в руках бюст Вольтера и пресерьезно, раз за разом целует его в темечко – Наталья Николаевна, сидящая в стороне не в силах сдержаться, заливается смехом… После этого Дантесу отказано от дома.
Александр Сергеевич, над вами кажется смеются – но ведь шутка-то прелестна! В истории же с дипломами присутствует какая-то грубость, примитивность, отсутствие меры и… какая-то недоразвитость, мелко-хорьковая злобность, отнюдь не ненависть; во всяком случае неумение ее реализовать – поначалу А. С. Пушкин даже не обиделся: «это дело моего камердинера».
Дантес же умел делать больно с возвышающим его артистизмом.
С осени 1835 года для Дантеса это была необязательная пикировка-месть «жеманнице» приобретавшая характер водевиля по наличию бешено ревнивого мужа – чем не мольеровский Альцест-Мизантроп; только немногие из друзей поэта подозревали в том драму и лишь один пережигал себя в трагедии «Черный я!»…И какой смысл был Дантесу обращать остро приправленную игру с «мошенницей» и «ревнивцем» в, господи прости…Историю Петербургского Мавра! Худо-бедно, но Геккерены и Пушкины теперь, после женитьбы Жоржа и Катишь, были в родстве; надо было как-то, хотя бы до уровня приличий снизить накал толков в обществе. Какие-то попытки делает в этом направлении Геккерен-старший: посещает дом Пушкиных, вручает Наталье Николаевне письмо Дантеса с навечным «Прощай»; произносит отеческое поучение… Тут г-жа Абрамович взрывается праведным гневом: это оскорбление женщине! Пощечина Пушкину! Я бы обратил внимание на то, что уже второй прожженный, тертый участник этой истории обращается с нравоучениями именно к безмятежной Н. Н. – что же так-то, какие черти им блазнятся в белоликом омуте?
Пушкин и сам понимает: надо мириться. Через пару недель после объявления помолвки, встретившись на вечере у общих знакомых с четой Дантесов-Геккерен, подошел в отсутствии жениха к Екатерине Николаевне и дважды предложил выпить шампанского за здоровье ее избранника – оскорбленная его отношением к суженому Екатерина Николаевна отказалась…
И по мнению г-жи Абрамович стала соучастницей умерщвления поэта…
Геккерен снимает и отделывает с неслыханной роскошью комфортабельные апартаменты для молодых. – Весь Петербург ахнул изяществу и вкусу обстановки, куда помещена молодая пара; вероятно, заставив прикусить губки Наталью Николаевну – Екатерина Николаевна стала баронессой, живет теперь значительно аристократичней, чем она. Геккерены устраиваются всерьез и надолго, и отнюдь не планируют покинуть Россию, один через 5 месяцев под конвоем; другой через год, ославленный и опозоренный.
Дантес восстанавливает пошатнувшиеся было отношения с общими знакомыми из пушкинского круга; сам по себе человек интересный, он дорожит и тянется в эту среду, лучшее что есть в Петербурге – и преуспевает в этом: Пушкин ни разу не переступил порог его дома, но его друзья бывают там все, единодушно отмечая изящную, приятную обстановку, царящую в нем.
Нет, если бы чувства и разум Александра Сергеевича – «самого умного человека России» – оказались не в разладе, он искал бы врага не там…
Враги свои и чужие
Профессиональная, а не интеллектуальная ограниченность литературоведов не позволяют им оценить политическую сторону 2 ноябрьских писем А. С. Пушкина (Геккерену-старшему и Бенкендорфу), и особенно 2-е, где А. С. фактически обращается к русскому обществу – но с чем? С обвинением некоторой политической силы, вторгающейся в его личную жизнь. Пушкин НЕ ВИДИТ В СВОЕМ ОБРАЩЕНИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ – увидит его таковым общество; поэту приходится смириться – письмо не отправлено… Как показали последующие события, он был прав: и в оценке политического смысла вторжения в его семейную жизнь и в ожидаемой грядущей реакции на свое обращение – только после гибели поэта события 1836–1837 гг. начинают воспринимать возведением его на Голгофу; и лишь через несколько лет придут к осознанию национально-политического значения УМЕРЩВЛЕНИЯ ПОЭТА. Но политический характер интриги… он заявляется, декларируется, особенно в 1917–1980 гг., но не серьезно, плакатно, для мельтешни, т. е. без проработки, без установления интересов и мотивов лиц, смысла ходов – т. е. без осознания, единственно дабы пнуть во всем виноватое самодержавие; и мгновенно возвращает уровень исследований к исходному состоянию по миновании социально-политической конъюнктуры.
Николаевская Россия 1826–1840 гг. отнюдь не была тем застывшим комом, каким являло ее последнее десятилетие; она отнюдь не определилась, она еще рябила движением и в общественной практике и в умонастроениях императора: пока в армии и флоте наличествовали Дибич, Паскевич, Муравьевы (Кавказский и Сибирский), Грейг, Лазарев; в администрации Перовский, Воронцов, Киселев; в центральных ведомствах Канкрин, Мордвинов, Сперанский; пока жгли, не сгорали в феноменальной памяти Николая Павловича записки декабриста Корниловича, ему самолично заказанные, о полагаемых наиважнейших мерах государственного переустройства России, русское общество не было ни единым, ни каталепсированным. Борьба реакции с реформизмом? Азиатчины с Цивилизацией? Победителей с жертвами 14 декабря 1825 г.? Как это упрощенно.
Пушкина приглашали в Москву в 1826 году для того, чтобы установить определенный канал «влево» властью, понимающей, что из простого самосохранения нельзя воевать с 43 % полков армии (охваченных влиянием декабристов); он выполняет в отношении общества ту же роль, какую выполняет в армии Н. М. Муравьев (будущий Карский), создатель «Офицерской Артели» из которой вышли ВСЕ крупнейшие деятели декабризма; какую играет присутствие в службе Александра Тургеневы, брат которого Николай, приговоренный к отсечению головы, живет в Лондоне.
Но Пушкин в делах 1828–1829 гг. (Русско-Турецкая война), 1830–1831 (Польская кампания), 1833 года (Ункияр-Искелесский договор) выступает уже общественным рупором и иной, уже внутриправительственной партии.
Александр Федорович Орлов водил в кавалерийские атаки конногвардейцев на восставшее каре, но выходец из знаменитых Орловых, шеф ли он жандармов или цареубийца, как дяди или сподобилось брату Михаилу – весь природно-русский до кулаков, глотки, фанаберии, свилемысленности; и подпишет блистательный Ункияр-Искелесский протокол в 1833 году – а в 1856, в Париже, в труднейших условиях вырвет самые необременительные статьи итогового замирения.
Генерал-губернаторы Перовский, Муравьев-Амурский конечно загонят, упекут, засекут, но и в мыслях не допустят поступиться чем-либо из интересов Империи, Российской империи, России. Где-то на верхних пределах это чувство было общим и у солдафона Михаила Павловича, и у фрондирующего тигра Алексея Ермолова, и у литератора Александра Пушкина; и у полукарбонари Виссариона Белинского – пока он в осмыслении: без сильной России не будет вольного русского мужика, станет белым негром на плантациях м-ра Смита. Остальное уже частности: сильнее или слабее становится Россия от обладания Привислянскими губерниями; стоит ли воевать 25 лет за линию Кавказа, чтобы не стали там дивизии Клайвов и Регланов… – это метод.
И есть нечто принципиально другое: отрицание историчности и естественности России (Чаадаев); русской политической самодеятельности (Нессельроде); экономической и практической самобытности (А. Меншиков); своеобычая русской культуры и мысли (Печерин, Сенковский, Каченовский). Их значение и влияние, резко возросшее в последние годы царствования Александра I с его мистицизмом по англиканскому, сентиментализмом по немецкому, полонизмом по французскому, легетимизмом по австрийскому покрою обратило русскую политику в придаток Венской – теперь резко пошатнулось в активном начале николаевского царствования когда отставлен был Аракчеев; прекращена деятельность «Библейского общества» и иезуитов; Нессельроде обращен в род почтового ящика для дипломатических пересылок, не более. До петрашевского дела, оттолкнувшего императора к покою могилы, граница их падения не была означена…
Только одно ведомство Российской империи в эти годы источало мертвечину и гиль – Министерство Иностранных Дел, прямое выражение нарастающей евроманической амнезии Последних Романовых, после отставки Н. Панина всецело обратившееся в канцелярию дворца, государеву игрушку, возглавляемое непрерывной чередой исполнительных безгласных чиновников, каменных задниц, канцелярских регистраторов от Безбородко до Извольского, с замечательно дутой величиной канцлером А. Горчаковым посередине, паразитирующем во внешней политике на созиданиях О. Бисмарка, во внутренней на памяти А. С. Пушкина; закоснелое ведомство, когда требуется его поистине государственная работа, приходится выполнять ее человеку со стороны: Александру I на Венском конгрессе; А. Ф. Орлову на Парижском; С. Ю. Витте на Портсмутском; иначе, не приведи бог, дело кончится таким провалом, как оскандалился А. Горчаков на Берлинском, показав английскому уполномоченному список предельных русских уступок на Балканах – которые англичане и востребовали у русской стороны! Ведомство, в котором числится такое количество недоброжелателей Пушкина, и к которому тяготеют его самые опасные, уже политические, враги из т. н. «Кружка Нессельроде», т. е. политического салона графини Марии Дмитриевны, в одном пальце которой больше жизни, чем во всем ее стручке-муже. И в котором в чине титулярного советника числится и сам Пушкин, правда на особом положении, при Экспедиции бумаг, как прикомандированный к приисканию материалов для написания Истории Петра Великого.
Обратил ли кто внимание, как необычно много пребывает вокруг Пушкина иностранцев в 1834–1837 гг.: Блай (Английское посольство); Барант (Французское); Геккерен (Нидерландское); Фикельмон (Австрийской) – секретарь английского посольства Меджинис едва не стал секундантом Пушкина по последней дуэли. Отбрасывая детали, можно утверждать, что оформление этих связей свидетельствует о признании политического фактора «Пушкин» уже и внимательным дипломатическим корпусом; при этом если присмотреться, то заметно, что наиболее высокопоставленные знакомые Пушкина гнездятся в континентальных посольствах, но по числу знакомых, по методичности встреч определенно преобладает английское, ненавязчиво и плотно обложившее его своими секретарями, так что на спектаклях его визавирует Блай, а в книжной лавке Смирдина Меджинис – и судя по эпизоду с секундантством немало в том преуспело: сами понимает, на такое дело приглашают людей доверительных… Попутали Парламентарию с Богдыханией? Англичане, ведущие каждодневно дела в бесчисленных восхождениях обществ всех континентов, никогда ничего не путают!..
Вот изящная сценка, как Меджинис выпутался из щекотливого положения с секундантством: он не стал отказываться в тот же час, ссылаясь на свой дипломатический ранг, щекотливое по-ложение иностранца в таком глубоко-интимном и национально-чувствительном деле, все узнал и взвесил, и отказался через день, мотивируя тем, что убедившись в невозможности попыток примирения противников, не может и участвовать в дуэли, т. к. это именно и есть главная задача секундантов. – Ух ты, как закручено!..
Браво!
Но англичанин не может не знать, что дуэль все равно состоится; и тем более хорошо знают в английском посольстве, что практика русских дуэлей давно обратила их в узаконенное «убийство с самоубийством» – и привязывать гибель поэта к имени Англии уклонились; но не от умерщвления поэта… Т. к. Меджинис несомненно поставил английского посла в известность о необычайном предложении Пушкина, то ИМЕННО АНГЛИЙСКОЕ ПОСОЛЬСТВО первым узнает, еще до 26 января, о грядущей дуэли и о весьма возможной гибели поэта; причем без примысливания, в разговоре с Меджинисом Пушкин сообщает ему и обговоренные условия дуэли: стреляться на 10 шагов до тех пор, пока противники в состоянии вести поединок, т. е. едва ли не до гибели одного или обоих.
Кстати, раз уж коснулись этой темы, а почему такие свирепые условия дуэли? Они не самые жестокие, в русской практике была страшная дуэль Чернова с Новосильцевым, когда стрелялись на 5 шагах и мгновенно пали оба – но это свои; западная практика исходила из 40—50-метровых дистанций, и Пушкин, а сейчас окончательно признано, что именно он диктовал условия поединка, мог подстроиться под нее и Дантеса – не стал… Любопытно, что тут обожатели-пушкинисты скромно потупляют глазки «страстно желал убить оскорбителя», что уж вовсе негуманно и не по христиански.
Скажите, кому была на руку оттяжка дистанции шагов этак до 20, превосходному стрелку Пушкину или посредственному стрелку Дантесу, старательно утаивавшему свою близорукость? При увеличении дистанции шансы Дантеса падают почти до нуля – Пушкин только увеличивает свою безопасность. Нет, Александр Сергеевич держал еще свой дуэльный кодекс; своим счетом отграничивал дуэль от убийства – но и повышал свой шанс гибели. Кстати, если бы так неудержимо, вырвавшимся из-под контроля дьяволом желал он убийства Дантеса, он обратился бы к другому оружию: Пушкин был замечательным фехтовальщиком, одним из лучших в России, упомянутым даже в изданном при его жизни во Франции 2-х томном руководстве по фехтовальному искусству; если на пистолетах были и лучшие стрелки, Липранди, Толстой-Американец, то в бою белым оружием соперников у него практически не было, и он мог навязать Дантесу любой исход поединка…
Русское светское общество относилось к Меджинису снисходительно, называло «больным попугаем» (по-французски); Пушкин ставил значительно выше, «уважал за честный нрав», в чем сходился во мнении с английским МИДом, удостоившим петербургского секретаря впоследствии звания посла (в Португалии) пост, который достигают менее 1,5 % профессиональных дипломатов – определение дипломата, данное англичанином лордом Темплом я уже приводил.
Нет пророка в своём отечестве?
Но сложные завуалированные поползновения на Пушкина из политической области начались значительно раньше. Очень знаменательно выглядят в этой связи обстоятельства получения А. С. камер-юнкерского звания. В книге С. Абрамович «Пушкин в 1833 г. Хроника» за пределами попыток выслуживающейся бабёнки отмыть поэта от юношеского карбонаризма и русского максимализма, есть примечательное совпадение, прошедшее мимо куриных мозгов сей дамы.
29 декабря. Бал в Аничковом дворце по приглашению императрицы; всего присутствует 111 человек, кроме лиц царствующей фамилии «присутствуют 4 иностранных принца…, граф Нессельроде с супругой…., гр. А. Ф. Орлов… Бал окончился в 35 минут 4-го часа».
30 декабря. [Суббота] Граф К. В. Нессельроде извещает письмом министра Двора князя П. М. Волконского о пожаловании титулярного советника Александра Пушкина в звание камерюнкера «О сей Высочайшей Воле сообщаю Вашему Сиятельству для зависящего от Вас, Милостивый Государь, во исполнение оной распоряжения».
Т. е. камер-юнкерство Пушкина было решено прямо на балу, тет-а-тет Николаем и Нессельроде; очевидно, кто «решал», но кто «представлял» и «редактировал»?
Красноречиво свидетельство Льва Сергеевича Пушкина о реакции брата:
30 декабря «Брат мой… впервые услышал о своем камер-юнкерстве на бале у гр. А. Ф. Орлова. Это сбесило его до такой степени, что друзья его должны были отвести его в кабинет графа и там всячески успокаивать. Не нахожу удобным повторить здесь всего того, что говорил с пеной у рта разгневанный поэт по по-воду его назначения». Получается, что назначение либо было совершенно неожиданно, либо не тем, что полагали… но кто спровоцировал этот внезапный курбет?
А как реагировал на это сам хозяин кабинета, только что летом подписавший блестящий Ункияр-Искелесский договор, который разом повернул к нему внимание всего русского общества – оказывается, граф силен не только пудовыми кулаками и не одним опричным рвением; один из тех темномысленных, дальностелющихся русских богатырей, генетическое продолжение дядюшки Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского, львиноголового Алексея Петровича Ермолова и колеблющегося в бликах выше и далече всех Михаила Илларионовича Кутузова – выражение русскости души Николая Павловича, а вокруг, недалече и стайно: николаевский Аракчеев П. В. Голенищев-Кутузов; красиво-надменный В. С. Перовский; талантливо-честолюбивой А. М. Муравьев…Еще летом, в компании 3-х Языковых Пушкин обсуждал блистательное докончание с Портой о Черноморских проливах – 28 декабря на вечере у Салтыковых подойдет к красующемуся генералу и в отличнейших выражениях, с умом и тактом поздравит царского любимца с успехом, от души и сердца, безгрешно; человеку незаурядному, крупному такие признания от сильной натуры особенно приятны. А. Ф. Орлов, с другом которого Перовским А. С. несколько лет назад перешел на «ты», а в доме брата М. Ф. желанный гость перешел на доверительный тон, состоялся длительный разговор, следы которого, касавшиеся разных лиц отложились в записках Пушкина, что примечательно: А. С. писал их мало, по важным случаям и особым «тайноплетным» языком, упоминая детали для лучшего запоминания и опуская суть.
Ну и что, что бравый молодец в конногвардейских конюшнях подзабыл географию и называет Александрию Александриной, как злорадствует умник-Муравьев – через 20 лет, в труднейших условиях военного поражения, подкреплённый для «Александрин» терто-ученым Гирсом, в Париже он полностью переиграет английского кумира Пальмерстона, вырвет снисходительнейшие условия мира, и оставит потомкам идею франко-русского союза, как основу безопасности и стабильности Европы. Увы, Наполеон III, мелкий домушник, ее не понял, не оценил, и упустил единственный шанс сделать свою монархию-монстр в республиканской стране долговременной и национально значимой.