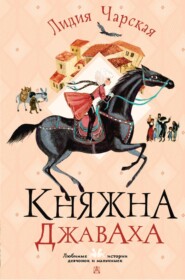По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Большой Джон
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Звонок к обеду прервал чувствительную минуту прощания. Старик Ратье дрогнувшим голосом произнес:
– A bientot, mes enfants![22 - До скорого свидания, мои дети!]
Доброму старому французу было действительно жаль девочек, которых он принял на свое попечение крошечными «седьмушками» и теперь сдавал на руки родителей, выпуская в большой, порой бесчувственный, порой жестокий и холодный, мир.
– Вот и последний урок! – произнесла Бухарина. – Теперь уже мы наполовину свободны. Одной ногой на воле.
– Ура-а-а! – крикнула было Додошка и высоко подбросила учебник французской литературы над головой.
Но никто не подхватил этого «ура», никто не поддержал девочку. Новое, светлое, немного грустное настроение охватило выпускных. Что ждет их впереди? Будет ли им так хорошо и светло на пресловутой воле, которая тянется к ним давно желанным, манящим призраком из-за серых, хорошо знакомых институтских стен?
За обедом вспоминалось чтение Лермонтова, речь француза, последние напутствия учителей. Ели мало и неохотно; говорили нехотя.
Одна Додошка, воспользовавшись моментом, проглотила три порции баранины, заела их молочным киселем и чувствовала себя прекрасно.
Ждали ночи, когда после вечернего чая можно было подняться в дортуар, сбросить камлотовые «мундиры», облечься в собственные шали и юбки, зажечь собственные свечи в под свечниках и, собравшись у кого-нибудь из подруг, вдоволь намечтаться вслух о предстоящем, поговорить о прошлом.
И вот настал желанный час.
Медникова, отдежурив у старших, отправилась восвояси укладывать своих «пятушек», с которыми справлялась в ее отсутствие старшая пепиньерка – «старая дева», как называли воспитанниц двух старших специальных педагогических классов их младшие однокашницы.
Выпускные остались одни.
– Mesdam'очки, я вас приглашаю сегодня к себе в мою «группу», – послышался голос Зины Бухариной, и не прошло и пяти минут, как группа Зины собралась на ее постели.
Зину Бухарину любили в классе. Эта смуглая девушка, несмотря на свою юность (ей было не больше шестнадцати), казалась старше подруг.
Странно сложилась жизнь Зины. Она родилась в цветущей Палестине, где отец ее имел место консула. Роскошь и баловство окружали чуть ли ни с колыбели девочку. Двенадцати лет она танцевала на балах в длинном платье со шлейфом, с венком на кудрявой, как у негра, головке. А когда ей минуло пятнадцать, отец ее умер скоропостижно, и ей с матерью пришлось существовать на сравнительно скромную вдовью пенсию. Из роскошных консульских палат, влиянием капризницы-судьбы, девочку перенесло прямо в серые стены института. Любовь к роскоши, к восхищению своей красотой остались в Зине. Она была кокетлива, любила украшать себя ленточками, бантиками, любила мечтать о прошлом, и будущее казалось ей полным неожиданностей и сказочной красоты. Она прекрасно писала масляными красками и пастелью, и карьера художницы светила Зине путеводной звездой. Хорошенькая «креолка» уже видела в мечтах своих будущие лавры, шумный успех, толпу поклонников и прежнюю роскошь, которою она пользовалась в золотые дни детства. Зина изъездила полмира и умела рассказывать обо всем виденном увлекательно и горячо. К тому же на нее, как и на Лиду Воронскую, возлагались большие надежды. Она, как будущая художница, должна была поддержать честь своего выпуска успехом ее будущих работ.
К этой-то Зине Бухариной и собралась сегодня ее «группа».
– Как подумаю, что через два месяца выпуск, так даже в жар бросает! – прозвенел голосок Черкешенки, по привычке то заплетающей, то расплетающей маленькими хрупкими пальчиками концы длинных черных кос.
– Да… выпуск… все радостные, счастливые, в белых платьях… в белых шляпах… как на праздник… А для многих и не праздник это вовсе, а долгая, мучительная, серая, трудовая лямка, – послышался голос Карской, некрасивой девочки в очках, с изрытым оспою лицом и шершавыми руками.
– Ну пошла-поехала наша святоша! – скривив маленький ротик, сказала Малявка, – то есть удивительно даже, как от вас, Карская, панихидой пахнет…
– Нет, панихидой пахнет от меня, – подхватила Рант, и ее шаловливые глазенки засияли восторгом, в то время как бледные губы улыбались с печальной и сладкой грустью, – панихиду по мне служить будут… Ведь я «обреченная»… У нас все умерли рано: и мама, и бабушка, и Таля, сестра, все от чахотки. Не умерли даже, а растаяли точно, как снег, как свечи, и я растаю. Увидите, mesdam'очки. Вскроется Нева, зацветут липы, ландыши забелеют в лесу, соловей защелкает ночью, а я буду сидеть в белом пеньюаре на балконе и слушать голоса ночи в последний раз… в последний…
– Ночью какие же голоса бывают? – спросила Додошка – Ночью только кошки пищат и дерутся!
– Нет, это невесть что такое! Ты нестерпима, Додошка! Тут ландыши и соловьи, а она – кошки! Я тебя прогоню из «группы», если ты будешь такой дурой, – рассердилась Креолка, сверкнув глазами на сконфуженную девочку.
– Додошка, а ты что будешь делать после выпуска? – обратилась Воронская к толстушке.
– Я, девочки, вы же знаете, ходить буду. Из города в город, из деревни в деревню. Ах, хорошо!.. Учить ребят не надо по крайней мере – это раз. На балы тоже выезжать не надо и корсет надевать – это два; моя тетка-фрейлина, наверное, меня по балам таскать пожелает. И есть можно тогда, как хочешь, а не в завтрак и обед только – это три… Ясно, как шоколад. Чудная жизнь!..
– А Вороненок с Креолкой великими людьми станут: одна – писательница, поэтесса, другая – художница… Успех и лавры… Дивно! Хорошо!.. – прозвучал восторженно голос Хохлушки.
– А я, – проговорила Елецкая-Лотос, – я, медамочки, совсем из мира уйду…
– Как, в монастырь пострижешься? – раздался недоумевающий голос Малявки.
– О, нет! Я уйду в другой мир, куда есть впуск только избранным духам, – продолжало Елецкая, и русалочьи глаза ее приняли выражение таинственности.
– Ты хочешь умереть, как Рант? Да? Душка… ты обречена смерти? – широко раскрывая черные глаза и замирая от предвкушения чего-то необычайного, проговорила Черкешенка.
– Нет, не то… не то…
Ольга порывисто встала. От этого быстрого движения упали и рассыпались длинные пряди ее волос, слабо закрученные на затылке. Она сбросила себе на грудь их пышные волны, отчего лицо ее, окруженное, точно рамой, живыми струйками черных кудрей, стало еще значительнее и бледнее.
– Я устрою себе комнату, большую, без окон и дверей, темную, темную, как ночь… И все завешу коврами… восточными… – глухо звучал низкий грудной голос Ольги, – а посреди поставлю курильницу на треножнике, как в храме Дианы на картине, которую я видела в журнале «Нива»… И голубоватый дымок будет куриться на треножнике день и ночь, день и ночь… И день и ночь я не буду выходить из моей восточной комнаты… И будут тогда слетать ко мне мои сны голубые, духи светлые и могучие, и Гарун-аль-Рашид, и Черный Принц, и святая Агния, – все будут слетаться…
– Ха-ха-ха! – прервал неожиданно вдохновенную речь девушки веселый смех Лиды. – Ха-ха-ха-ха!
Лотос точно проснулась, грубо разбуженная от сна. С минуту она смотрела на всех, ничего не понимая, потом до боли закусила губы и глухо проговорила:
– Удивительно бестактно! Право же, у тебя нет ничего святого, Воронская…
– Елочка, прости!.. Милая, прости!.. – валясь ничком и колотя ногами о соседнюю постель, сквозь хохот говорила Воронская. – Как же духи-то… духи… через что они пролезут к тебе?.. Ха-ха-ха!..
– А в потолке будет дырка, ясно, как шоколад! Неужели же ты этого не понимаешь? – вставила свое слово Додошка.
– Ах, как вы глупы! – произнесла, поднимая глаза к небу, Елецкая. – Но ведь духи бестелесны, они могут пройти даже сквозь иголье ушко… И я не понимаю, чему тут смеяться… – обидчиво заключила она, пожимая плечами.
– Прости, Елочка, но неужели ты еще веришь в Черного Принца и прочую чепуху? – спросила Лида.
– Воронская, молчите, а то я не ручаюсь за себя… Я наговорю вам дерзостей, Воронская… А между тем я так обязана вам… – прошептала Елецкая и закрыла лицо руками.
«Нет, она неисправима», – подумала Лида, и она с сожалением взглянула на подругу.
– Перестаньте спорить, медамочки, – послышался веселый голос Хохлушки, – напоследок мирно жить надо, чтобы в памяти остались хорошие дни, хорошие воспоминания… Ведь разлучимся скоро. Одни на север, другие на юг, или на запад, как сказал Аполлон Бельведерский, разлетимся, точно птицы…
– А ты, Маруся, улетишь в Хохландию свою?
– В Хохландию, девочки! Ах, и хорошо там, милые! Когда бы вы знали только! Солнышко жарко греет, вишневые садочки наливаются, мазанки белые, как невесты, а по вечерам на хуторе парубки гопак пляшут. То-то гарно, гарные мои…
– А что ты там, Маруся, делать будешь? – заинтересовались девочки, и глаза их начинали разгораться понемногу; очевидно, девочки уже мысленно видели перед собою роскошные картины дальнего юга.
– А никому не скажете, девочки, коли выдам вам тайну мою? – и глаза некрасивой, но свежей и ясной, как весеннее утро, девушки зажглись огоньком счастья.
– Не выдадим, Марочка, говори скорее, – зазвенели молодые звонкие голоса.
– Я невеста, девочки… Уж давно моего Гриця невеста… Нас родители с детства сговорили… Хутора наши рядом, так мы ровно брат с сестрой, давно друг друга знаем… Обручены уж с год… А как выйду, так сразу после выпуска и свадьба будет…
– Выпуск!.. Свадьба!.. С год как обручены!.. Господи, как хорошо!..
– А ты любишь своего жениха, Маруся? Марочка, милая, любишь?.. Скажи! – допрашивали девочки, с невольным уважением поглядывая на свою совсем взрослую подругу-невесту, какой она им теперь казалась.