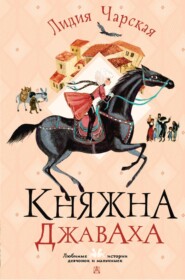По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дели-акыз
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, нет, Рагим… Не стану я молчать. Помнишь, мы еще маленькими детьми, когда меня привезли в Гори, играли с тобою на берегу Куры? Помнишь, как вместе собирали ракушки и камни? То было хорошее время, Рагим. Не правда ли? Ты приносил мне сладкого винограда из ваших виноградников, а я делилась с тобою персиковыми пирожками, которые так мастерски печет Маро. И мы были с тобою, как брат с сестрой, Рагим… А теперь ты помог запереть меня в эту клетку… Увез меня заодно с этими разбойниками Векиркой и Ахметкой в эту горную щель…
– Но тебе мы не хотели зла, девочка, ты случайно попалась с Селтонет, – тихо, словно оправдываясь, говорит Рагим.
– Случайно! Взяли, схватили и приволокли, как овец. А что должны переживать, не получая от нас известий, наши в Гнезде… Ты ведь не был там и не видел их горя… – с тоскою доканчивает Глаша.
– Нет, был и видел!
– Что?
Глаша, забыв всякую предосторожность, высовывает голову из окна своей темницы чуть не кричит:
– Что! Ты был в Гнезде? Ты вздел наших? Ты видел их, Рагим? Да говори же, говори, ради Бога!
– Ш-ш! – отчаянно и выразительно шепчет мальчик и протягивает руку по направлению женской половины дома. – Ш-ш! Молчи! Мать услышит! Беда будет! И Бекир у ворот, и Ахмет поблизости… Донесет отцу, тогда плохо будет Рагиму…
– Рагим! Голубчик! Соколик Рагим, – почти не слушая его, лепечет теперь, как в бреду, Глаша, – ты видел их? Ты видел их? Всех видел? Скажи!
Рагим молчит. Душевная борьба ярко отпечатывается на его выразительном, загорелом лице. Потом он оглядывается с опаской раз, другой, третий… Слава Аллаху, никто не видел, никто не слышал этой отчаянной Дели-акыз… Все тихо по-прежнему в саду и в доме. И только меланхолически-певуче звенит струя студеного фонтана.
А глаза Глаши полные мольбы, отчаянья, тоски по-прежнему впиваются в лицо Рагима.
Рагим еще слишком молод, чтобы уметь до конца владеть собой. Он невольно прислушивается к голосу сердца, невольно поддается порыву жалости. И придвинувшись близко, совсем близко к окну, он шепчет, блестя влажными глазами:
– Я был два раза в усадьбе… Два раза…
– Зачем? – срывается у Глаши.
– В первый раз, когда я вместе с другими принес твою и Селтину одежду…
– Мою и Селтину? Как? Почему?
– Молчи, Дели-акыз! Молчи! Это-то ты все равно не узнаешь. На коране поклялся Рагим отцу не говорить об этом никому ни слова… И скорее Рагим даст вырвать себе язык, нежели…
– Ну, все равно, говори дальше… Говори, не мучь…
– В первый раз, когда принесли твою и Селтину одежду в Гнездо… Тогда Рагим быль в толпе других… А во второй раз проходил мимо горийской усадьбы и всех их видел. И самое княжну.
– Княжну Нину? Она здесь? Не может быть, Рагим! Она вернулась? Ты ошибся… Это не она, может быть!
– Говорю, видел… Лицо у неё было белое, как цветок азалии… А с головы её, как и у других женщин Гнезда, спускалась черная вуаль, какую носят по умершим.
– Вуаль? Траурную вуаль? Так значит, они в трауре? Там кто-то умер? Гема? Боже мой! Да неужели же умерла Гема, Рагим? Ты не видел молоденькой грузинки? Ты не знал Гему? Да ты ведь знаешь! Знаешь Гему, сестру Сандро Довадзе, конечно, знаешь, Рагим!
– Чернокудрой Гемы не было с ними. И говорю тебе, женщины носили траурные вуали, а мужчины – черные повязки на рукавах бешметов. И когда я шел мимо ворот усадьбы, в доме Джавахи был русский мулла и там молились за кого-то…
– За Гему! Гема умерла! Конечно, Гема, бедная, маленькая, кроткая Гема скончалась в далекой Швейцарии. Иначе бы «друг» не вернулась домой одна, и все члены «Джаваховского Гнезда» не надели бы траур. А я не с ними! И Селтонет тоже не с ними в эти печальные дни! И все это благодаря моему безумству и легкомыслию Селтонет. Судьба зло посмеялась над нами! Мы даже не можем со всеми помолиться об упокоении души бедной, милой Гемы.
Острая мучительная боль пронизывает сердце Глаши. Она не замечает, как слезы выступают у неё на глазах, как катятся по щекам и смачивают старенькое сукно и почерневший позумент чужого бешмета.
Рагим смотрит растерянными глазами в залитое слезами лицо Дели-акыз, Он никогда, как и никто другой, не видел ее плачущей. Никогда. Ему жаль ее, страшно жаль. Он мог бы утешить ее, но не смеет. Он клялся на странице корана соблюсти в тайне все, что было поручено ему, а истинный мусульманин должен уметь хранить свои клятвы, произнесенные перед святым кораном.
Глава VI
Тихо, жалобно, словно оплакивая кого-то, лепечут серебряные струны чиангури. Лениво перебирает их тонкими пальцами Фатима, сидя на тахте у себя в горнице. Откинувшись на вышитые валики и подушки, она наигрывает свою любимую песнь. Напротив неё на другой тахте сидят Зюльма и Аминат. Все трое одеты в нарядные праздничные костюмы. Нынче большой мусульманский праздник. Да и не только ради праздника нарядились они. Сегодня в доме двойное торжество. Зюльма и Аминат сейчас в гостях у младшей жены аги, молодой Фатимы.
– Хочу справить последний вечер моего счастья – сказала она им утром со смиренным, покорным видом. – Вернется завтра ага с муллою и введет новую жену, кабардинку, воспитанницу из дома Джавахи, в нашу семью. И будет она повелевать нами всеми, безродная, нищая девчонка, из милости принятая в дом Горийской грузинской княжны. Так хоть отпразднуем последний денек без неё нынче!
Обе татарки согласились с Фатимой. И когда солнце зашло, забрызгав пурпуром утесы и лес, Зюльма и Аминат пришли в гости к молоденькой Фатиме. Она встретила их так почтительно и ласково, как никогда еще не встречала. Усадила на мягкие подушки тахты, подвинула им за спины мягкие валики и собственноручно подала сласти и шербет. А когда появились, кроме кувшина с бузою, и сладкие вина, привезенные кем-то тайком Фатиме из Гори, любившая выпить рюмочку другую, несмотря на запрещение корана, старая Зюльма совсем расцвела. Аминат отказалась от вина, но потягивала с большим наслаждением бузу.
И когда Фатима взяла в руки чиангури и стала извлекать из него тихие, протяжные, баюкающие звуки, – разнеженные полным отдыхом и вкусными явствами, женщины слегка задремали.
– Загнали ли стада, дочь моя? – обратилась сквозь дремоту Зюльма к Фатиме, которую она редко, только в самые исключительные минуты благодушия, называла так.
– Успокойся, госпожа! Бараны и овцы давно в загонах… Все исполнено, все сделано, как всегда, и ты можешь отдохнуть, госпожа, на этих мягких подушках и бросить на время свои заботы, – вкрадчиво проронила молодая женщина, подсовывая еще мягкую подушку под спину старой Зюльмы.
А Аминат, между тем, совсем раскисла и клевала носом после чрезмерной порции бузы.
Еще несколько тихих, баюкающих аккордов… Тихий жалобный стон чиангури… И Фатима далеко бросила на тахту инструмент…
С минуту Фатима прислушивалась к мерному дыханию спящих. Потом, приложив палец к губам, на цыпочках, крадучись, двинулась к порогу… Еще раз оглянулась на старую Зюльму и толстуху Аминат.
Слава Аллаху и Его Пророку – спят, как мертвые.
Теперь она скользит проворной змейкой по направлению к двери, за которой томится Селтонет.
Абдул-Махмет поместил свою невесту в лучшей из горниц дома. Она вся устланная коврами, заставлена дорогими тахтами. Но Селтонет противна эта роскошь. За долгие дни и недели заключения она успела возненавидеть свою нарядную тюрьму. Сколько слез её видели эти стены. Сколько раз заглушали её рыдания эти ковры на дверях и стенах… Но нынче слез нет… Селта не плачет. Она ждет, лежа с широко раскрытыми глазами на тахте. Её сердце тревожно бьется в груди. Она почти уверена, что свобода близка, что Фатима ради своей же выгоды даст ей, Селте, возможность бежать. О, какая хитрая и умная эта Глаша! Как ловко разожгла она зависть в душе Фатимы. Сама же едва не погубила ее, Селту, и сама же выручает из великой беды… О, скорей бы выбраться отсюда! Сколько мучений причиняет ей почти ежедневное появление у неё в горнице противного Абдул-Махмета, приходящего с подарками, лестью и уговорами. – «Выходи за меня замуж волей… – говорил он все одно и то же, одно и то же, – богата будешь… На весь Дагестан прославишься… Нарядов тебе понашью, драгоценностями засыплю, в золоте ходить будешь. Выходи, красавица, свет очей моих, не пожалеешь потом».
Что было Селте отвечать на все это? Сердиться? Протестовать? Браниться? Но разве послушался бы он её протеста, её гнева?..
И вот, и не добившись её согласия, Абдул-Махмет все-таки поехал за муллою, который повенчает их помимо воли Селты скоро, может быть, даже завтра, и тогда прощай Селим! Прощай будущее счастье! Все потеряет она из-за своего непростительного легкомыслия, если Фатима не явится на выручку, как пообещала, нынче ночью…
Крадущиеся, едва уловимые шаги за дверью достигают до напряженного уха Селтонет… Как ни тихи они, она их слышит…
– Ты, Фатима?
– Я!
При свете серебряного месяца, заливающего горницу, она видит стройный силуэт татарки.
– Скорее, мой яхонт, скорее… Ступай за мною, пока не проснулись старухи… – слышится нервный шепот Фатимы.
– А Глаша? – также тихо роняет Селтонет.
– Она… И она…
Проходит две-три минуты. Из нарядной горницы вдоль узкого коридора крадется уже не одна Фигура, а две. Фатима впереди, Селтонет сзади. Перед наглухо закрытой каморкой Глаши обе останавливаются… Щелкает задвижка… И с легким возгласом радости Глаша падает на грудь Селтонет…
Глава VII