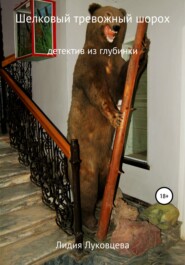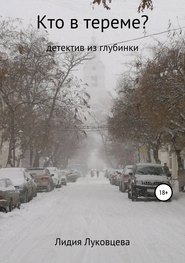По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Посланница вечности
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как-то раз все семейство выбралось на выходные в Гамбург. На шумной оживленной улице на Ларису налетел какой-то мигрант и едва ее не сшиб.
– Прут, как бараны! – процедила сквозь зубы Лариса, продемонстрировав знание хорошего немецкого, но с российской ментальностью.
– Надо говорить: лезут, как пираты на сокровища! А как ты говоришь – некрасиво! – попеняла матери Анна.
Да, война с Россией… Тут Пауль сообразил, что якобы хаотично скачущие мысли обходными путями привели его к точке отсчета, первопричине его душевной смуты. Война, Россия, отец… Он перестал сопротивляться бессоннице, погрузившись в воспоминания. Воспоминания отца. Его рассказы, отпечатавшиеся в памяти Пауля накрепко.
ГНОМИК ЗОЛОТО ИСКАЛ
Лето 1944-го года. Лагерь военнопленных в прикаспийской степи, местами переходящей в полупустыню. На выжженной солнцем земле порой встречаются маленькие лесистые распадки. В одном из таких распадков, насчитывающем всего с десяток деревьев и кустарников, а также вокруг него – в балке, по-местному, расположился лагерь.
Чахлая благословенная растительность хоть как-то спасает от зноя. Правда, подальше, южнее, километрах в пяти-шести, голубеет лес, чудом явившийся в этих местах. Настоящий лес. Но кто же позволит поселить пленных в лесу! Местные говорят, что этот лес – пристанище для перелетных птиц, коих весной и осенью тут – неисчислимые стаи: утки, гуси, лебеди… Как велик лес и насколько далеко он тянется, можно лишь гадать.
Километрах в трех-четырех к западу от лагеря – соляное озеро, где пленные добывают соль. Местные, опять же, говорят, что глубина залегания соли не меньше пяти километров. В некоторых местах по поверхности озера можно ходить, как посуху, настолько она твердая. А если бы кто-то из пленных вздумал искупаться – если бы ему кто-то разрешил! – тело просто вытолкнуло бы на поверхность из-за высокой концентрации соли. В этом озере даже если захлебнёшься, то не утонешь.
Вдали, в южной стороне, ближе к лесу, розовеет гора. Она сама по себе – соляной купол. А розовая из-за вкраплений самых разных минералов. Бурого железняка, меди, яшмы… Местные говорят (местные – русские и казахи, осевшие давным-давно в этих краях, а теперь работающие вольнонаемными на солепромысле), что гора – это настоящий склад полезных ископаемых.
Сначала часть пленных добывала соль именно в горе. Потом приехали геологи, бурили шурфы, брали пробы, проверяли состав минералов – что-то искали. Немцев из горы эвакуировали, соль стали добывать исключительно из озера. Того, что искали в составе залегавших в горе минералов, геологи не обнаружили. При этом выяснилось, что запасов мела, гипса, кварца, известняка, песчаника там – завались.
Прорубленные шурфы и природой созданные котловины постепенно заполнились какие пресной водой, стекающей по трещинам в слоях породы после дождей и снега, а какие – соленой, выступавшей из почвы. Из одного такого пресного озера и набирали воду во фляги Генрих с Андреасом.
До ближайшего озерка необходимо было пройти сквозь череду карстовых пещер, прочертивших гору извилистыми лабиринтами. Генрих дорогу освоил хорошо – он работал поначалу в том самом отряде пленных, добывавших соль в горе, пока не сподобился попасть на кухню. Заплутать в пещерных лабиринтах было несложно, даже зная дорогу. Или оступиться – и свалиться в котловину, заполненную водой.
Соленые озера соседствовали в горе с пресными. Шахтерские фонарики, закрепленные у водоносов надо лбом, скупо освещали их путь, но не в силах были одолеть глухую пещерную темень. Генрих рисовал знаки на стенах, регулярно их подновлял и по этим знакам ориентировался. Он и Андреаса пытался обучить своим премудростям, но тот, помимо клаустрофобии, страдал еще и топографическим кретинизмом.
Отказаться лазить в пещеры он не мог. Боялся, что у его друга и спасителя лопнет терпение пахать за двоих, и он попросит другого помощника. Чем бы Генрих мог свою просьбу мотивировать?! Леностью, то есть саботажем, Андреаса? Чем бы это закончилось для Андреаса даже в лучшем случае? Желающих занять его место подсобника на кухне хоть сегодня – пруд пруди. А солепромысла он долго не выдержит…
Превозмогая себя, обливаясь липким потом страха, он тащился за Генрихом, сцепив зубы и почти обеспамятев. До того ли ему было, чтоб смотреть по сторонам, запоминать последовательность пещер, считать количество шагов и замечать Генриховы отметины на карстовых стенах? Он влачился сзади, поддерживаемый одной мыслью: скорее заполнить фляги и – на волю, на свет!
Перетаскивал фляги с водой к выходу из пещеры Генрих. Хотя и оставаться в пещере одному было для Андреаса пыткой, все же он был занят работой, торопился покончить с ней побыстрее, да и приходилось быть крайне осторожным, чтобы, черпая воду, не свалиться, оступившись, в озеро. Пока его старший напарник вернется за очередной флягой, уже и кругов на воде не останется – плавать Андреас не умел, а вода была ледяная.
Обратный путь казался короче, а там – погрузить фляги с водой в телегу и передохнуть, привалившись спиной к скале, подняв лицо к солнышку, которое после пещерного давящего мрака казалось таким ласковым, а не обжигающим! Казалось, от его лучей тает ледяной комок ужаса, застывший в груди. Хотя привыкать к солнечному свету после длительного пещерного мрака надо было постепенно, и они выползали на поверхность прижмурившись, чтобы не ослепнуть.
Счастье, что эти поездки случались не каждый день. Воду вменялось возить только для кухни, где использовали ее в качестве питьевой и готовили на ней еду для начальства и охраны. У офицеров, командовавших лагерем, было сильное предубеждение к той теплой воде с ржавым привкусом, которую для технических, так сказать, нужд доставляли цистерной с железнодорожной станции. Поэтому работников кухни и гоняли в пещеры, и те набирали чистой воды с запасом, хотя бы на пару дней.
Маленькая станция, затерявшаяся в песках, располагается к востоку от лагеря военнопленных, километрах в десяти. Мимо нее по-прежнему проносятся эшелоны и товарняки, хотя война идет к концу. Население уже не прислушивается напряженно, когда погромыхивает: отвыкли от канонады. Громыхать теперь может только гром.
Начальник станции пару раз в неделю, по вечерам, приезжает на раздолбанном газике в гости к начальнику лагерной столовой. Тот, что называется, един в трех лицах: еще и главный повар и завскладом. Они с железнодорожником вроде бы какие-то родственники.
В тот день ужин закончился позже, чем обычно. Громыхало с утра, но дождя все не было. В этих краях так часто бывает: грозы не всегда кончаются благословенным дождичком. Погремит-погремит – и укатится в сторону. И видно, как где-то далеко-далеко косым столбом падает дождь. Кому-то другому повезло.
Но ближе к вечеру небо все же обрушилось библейским ливнем. Возвращающихся с солепромысла пленных он прихватил уже на подходе к лагерю, но на них нитки сухой не было, когда вернулись. Разрешили переодеться, кто во что смог – порядки на то время уже стали мягче, чем в начале войны. Кому охота возиться с заболевшими?
Потому немного и припоздали. Генрих с Андреасом, наводившие порядок в кухне и столовой после ужина, соответственно, тоже задержались с уборкой. Еле успели к вечерней поверке, хоть и ее тоже немного сместили по обстоятельствам. Летний день долог.
Вроде бы в сухих песках обитали, а грязи в столовую пленные земляки натащили достаточно! Андреас уже заканчивал уборку кухни, когда явился в гости к родственнику начальник станции – красномордый кабанчик с мощной шеей. Неплохо подкармливал его родственник, Генрих сам не единожды относил в газик свертки с продуктами.
Железнодорожник был человек военный, по крайней мере, ходил в военной форме, и звался – Петр Степанович. Кухонное начальство Генриха звалось – Семен Васильевич. Они друг к другу обращались – Степаныч, Василич. Василич был помоложе, но вел себя покровительственно. А как же, кормилец!
Андреаса, закончившего наводить порядок на кухне, он вскоре отпустил, а Генриху, драившему полы в столовой, приказал:
– Давай, пошевеливайся! Заканчивай тут – и свободен!
До Генриха у него старшим в подсобниках пребывал Отто Винер, а Генрих тогда был в помощниках у Отто. Но вскоре Отто поймали на краже продуктов. Он тогда обхаживал переводчицу Клаву, дебелую грудастую деваху, кровь с молоком. Клава, наверное, на ухажера и «стукнула», от греха подальше, хотя несмелые намеки смазливого немца принимала, вроде бы, благосклонно. По крайней мере, так выглядело в изложении Отто.
Генрих его недолюбливал. Отто отсидел в карцере месяц – довольно мягкое наказание для голодных военных лет, можно было под плохое настроение начлага и под расстрел попасть. Вместо Клавы прислали переводчика – пожилого хромого капитана, комиссованного после тяжелого ранения.
Отто божился, что ничего не крал (интересно, как бы он, действительно, это провернул?), а начальник кухни сам имел виды на переводчицу и решил проблему как мог, устранил соперника без шума и пыли. Вышел притихший, и только зубами скрипел, когда кто-нибудь из ребят начинал хохмить на эту тему. С тех пор работал в карьере на соледобыче, как все, и помалкивал. Только однажды как-то у него вырвалось: подожди, русская свинья, всему свое время!
После инцидента Василич повысил Генриха в должности, а в помощники себе Генрих выпросил Андреаса, соседа по нарам, с которым сдружился. Тот после ранения все никак не мог оправиться и потихоньку загибался в соляном карьере. Смертность была высокая. Даже отдельное немецкое кладбище в степи образовалось, холмики торчали.
Василич в свое время остановил выбор на кандидатуре Генриха Шеллерта из-за знания им русского языка, взял на кухню. За переводчиком всякий раз не набегаешься, а по-немецки Василич не разумел. Генрих знал русский не так чтобы очень, на уровне разговорного, да порой и в разговоре не все понимал, но достаточно, чтобы понимать приказы своего начальника и их исполнять. Позже Василич оценил и добросовестность нового кадра, и его честность, и молчаливость, и пошел у него на поводу, согласившись затребовать для работы на кухне Андреаса Фишера.
В тот злополучный вечер Генрих в столовой быстренько все закончил и направился к кухне, где за закрытыми дверями расположились за пиршественным столом Василич со Степанычем. Подошел – и замер. Из-за тонкой фанерной двери доносились голоса уже хорошо разогретых родственников. У выпивших людей что-то происходит со слухом, и они непроизвольно повышают голос. Это была не ссора, не разборка, это был диалог.
Генрих позже думал: почему его сверхбдительный и подозрительный начальник не удостоверился в уходе подчиненных и не вышел запереть входную дверь в столовой? Либо виной тому был ливень, из-за которого сместился по времени ужин с гостем, и родственники активизировали процесс приема пищи и пития, наверстывали. Увлекшись, Василич запамятовал про своего подчиненного за стеной. Либо, отдав приказание Генриху – заканчивай и свободен! – он был уверен, что того уже и след простыл.
Дисциплинированный же Генрих вздумал доложить о своем уходе. Он уже поднес руку к двери, чтобы постучать, но все медлил, не решался нарушить дружеское застолье. Прогневишь начальника – себе дороже, завтра будет гнобить весь день, придираться к любой мелочи.
– Пригнали они эшелон уже ближе к вечеру. И сразу один вагон на запасной путь, – рассказывал Степаныч. – И солдата возле двери для охраны. Но главное, лейтенант с вагоном остался! Бумажками перед моим носом трясет, пистолетом размахивает – дело, мол, государственной важности, пристрелю, мол, за неисполнение!
– Ну? А ты?
– Я тоже копытом бью, на цырлах перед ним бегаю – понимаем, мол, будет исполнено! Как будто все остальное, все проходящие через меня эшелоны – не государственной важности! И как будто мне до него пистолетами не грозили! Бабушку свою пугай, я мы пуганые…
– А как же тебе в ум-то пришло?
– Ну, не пальцем же деланные, не первый день на свете живу! Я на своем месте всего насмотрелся! Каких только составов не собирал, с чем только не отправлял эшелоны. Уж я знаю, что просто так вагон не отцепят, и целого лейтенанта госбезопасности не приставят!
– Ну, а потом?
– Потом…
За те пару-тройку минут, что он стоял под дверью, Генрих кое-что из разговора уяснил. Не слишком много, но вполне достаточно для того, чтобы понять – надо немедленно сматываться, безо всяких докладов. Иначе для него все это может очень плохо закончиться.
Он сделал шаг назад. Проклятая половица под ногой скрипнула. Они, наверно, и раньше скрипели при каждом шаге, но кто на это обращал внимание! Днем их не было слышно!
Генрих застыл в ужасе, даже голову в плечи втянул. Но дверь в столовую не распахнулась. Следом за скрипом половицы, даже, пожалуй, одновременно с ним, раздался грохот чего-то тяжелого, упавшего в кладовой. Бабахнула другая дверь, распахнутая мощным рывком, – та, что вела прямиком из кухни в кладовую. Попасть в нее мог только сам хозяин, Василич, ключи были лишь у него.
– Ах ты, падлюка! Свинья фашистская! Подслушивать вздумал! – раздался рев повара и глухой удар.
Под этот рев Генрих вылетел из столовой, словно по воздуху, и ни одна половица под ним больше не скрипнула. А может, они и пели дружным хором, но Генрих их не слышал.
Так иногда в ночных кошмарах снится, что ты от кого-то убегаешь, а ноги налиты свинцовой тяжестью, и их невозможно оторвать от земли. Ты в ужасе и отчаянии – тебя уже настигают, тебе конец, даже руками пытаешься переставлять ноги! Но вдруг в какой-то момент они начинают тебе повиноваться, и шаги твои становятся широкими, бег легким. И вот ты, убегая от смертельной опасности огромными шагами, вдруг ощущаешь, что уже не по земле бежишь, а по воздуху. Именно бежишь, пружинисто отталкиваясь, а не летишь. В тот миг Генрих вдруг стал невесомым, только чувствовал, как колотилось сердце и бухала кровь в голове. Как раз успел к поверке.
Зато на вечернюю поверку не явился Отто Винер. Началась канитель, повторные переклички, проверки бараков, прочёсывание хозблока и промзоны.
Утром на двух грузовиках приехали люди с автоматами из НКВД, а на стареньком «Виллисе» – трое мужчин в штатском. Может следователи, а может и госбезопасность, которой русские так любили пугать друг друга. Начальник лагеря, по крайней мере, вытянулся перед ними в струну и беспрекословно командовал, кого приводить в его кабинет по первой их просьбе.