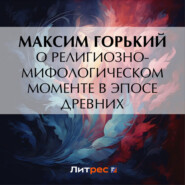По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Среди присяжных Илья увидал ещё два знакомых лица. Выше Петрухи и сзади него сидел штукатур – подрядчик Силачев, – мужик большой, с длинными руками и маленьким, – сердитым лицом, приятель Филимонова, всегда игравший с ним в шашки. Про Силачева говорили, что однажды на работе, поссорившись с мастером, он столкнул его с лесов, – мастер похворал и помер. А в первом ряду, через человека от Петрухи, сидел Додонов, владелец большого галантерейного магазина. Илья покупал у него товар и знал, что это человек жестокий, скупой, дважды плативший по гривеннику за рубль…
– Свидетель! Когда вы увидали, что изба Анисимова горит…
– Й-у… ию-ю-ю, – ныла форточка, и в груди Лунёва тоже ныло.
– Дурак! – раздался рядом с ним тихий шёпот. Он взглянул – с ним рядом сидел чёрненький человечек, презрительно скривив губы.
– Кто? – шепнул Илья, тупо взглянув на него.
– Арестант… Имел прекрасный случай опрокинуть свидетеля, – пропустил! Я бы… эх!
Илья взглянул на арестанта. Это был высокого роста мужик с угловатой головой. Лицо у него было тёмное, испуганное, он оскалил зубы, как усталая, забитая собака скалит их, прижавшись в угол, окружённая врагами, не имея силы защищаться. А Петруха, Силачев, Додонов и другие смотрели на него спокойно, сытыми глазами. Лунёву казалось, что все они думают о мужике:
«Попался, – значит, виноват…»
– Скучно! – шепнул ему сосед. – Неинтересное дело… Подсудимый – глуп, прокурор – мямля, свидетели – болваны, как всегда… Будь я прокурором – я бы в десять минут его скушал…
– Виноват? – шёпотом спросил Лунёв, вздрагивая от какого-то озноба.
– Едва ли… Но осудить – можно… Не умеет защищаться. Мужики вообще не умеют защищаться… Дрянь народ! Кость и мясо, – а ума, ловкости – ни капли!
– Это – верно…
– У вас есть двугривенный? – вдруг спросил человечек.
– Есть…
– Дайте мне…
Илья вынул кошелёк и дал монету раньше, чем успел сообразить – следует ли дать? А когда уже дал, то с невольным уважением подумал, искоса поглядывая на соседа:
«Ловок…»
– Господа присяжные! – мягко и внушительно говорил прокурор. – Взгляните на лицо этого человека, – оно красноречивее показаний свидетелей, безусловно установивших виновность подсудимого… оно не может не убедить вас в том, что пред вами стоит типичный преступник, враг законопорядка, враг общества…
«Враг общества» сидел, но, должно быть, ему неловко стало сидеть, когда про него говорили, что он стоит, – он медленно поднялся на ноги, низко опустив голову. Его руки бессильно повисли вдоль туловища, и вся серая длинная фигура изогнулась, как бы приготовляясь нырнуть в пасть правосудия…
Когда Громов объявил перерыв заседания, Илья вышел в коридор вместе с чёрненьким человечком. Человечек достал из кармана пиджака смятую папироску и, расправляя её пальцами, заговорил:
– Божится, дурак, не поджигал, говорит. Тут – не божись, а прямо – снимай штаны да ложись… Дело строгое! Обидели лавочника…
– Виноват мужик-то, по-вашему? – задумчиво спросил Илья.
– Должно быть, виноват, потому что глуп. Умные люди виноватыми не бывают… – спокойной скороговоркой отрезал человечек, форсисто покуривая свою папироску.
– Тут, в присяжных, – тихо и с напряжением заговорил Илья, – сидят люди…
– Лавочники больше, – спокойно поправил его чёрненький. Илья взглянул на него и повторил:
– Некоторых я знаю…
– Ага!..
– Народ – аховый… ежели прямо говорить…
– Воры, – подсказал ему собеседник.
Говорил он громко. Бросив папироску, он, складывая губы трубой, густо свистал, смотрел на всех нагло, и всё в нём – каждая косточка – так ходуном и ходила от голодного беспокойства.
– Это бывает. Вообще, так называемое правосудие есть в большинстве случаев лёгонькая комедия, комедийка, – говорил он, передёргивая плечами. – Сытые люди упражняются в исправлении порочных наклонностей голодных людей. В суде бываю часто, но не видал, чтобы голодные сытого судили… если же сытые сытого судят, – это они его за жадность. Дескать – не всё сразу хватай, нам оставляй.
– Говорится: сытый голодного не разумеет, – сказал Илья.
– Пустяки! – возразил ему собеседник. – Великолепно разумеет, – оттого и строг…
– Ну, если сытый да честный – ничего ещё! – вполголоса говорил Илья, – а когда сытый да подлый, – как может он судить человека?
– Подлецы – самые строгие судьи, – спокойно заявил чёрненький человечек. – Ну-с, будем слушать дело о краже.
– Знакомая моя… – тихо сказал Лунёв.
– А! – воскликнул человечек, мельком взглянув на него. – Па-асмотрим вашу знакомую…
В голове Ильи всё путалось. Он хотел бы о многом спросить этого бойкого человечка, сыпавшего слова, как горох из лукошка, но в человечке было что-то неприятное и пугавшее Лунёва. В то же время неподвижная мысль о Петрухе-судье давила собою всё в нём. Она как бы железным кольцом обвилась вокруг его сердца, и всему остальному в сердце стало тесно…
Когда он подошёл к двери зала, в толпе пред нею он увидал крутой затылок и маленькие уши Павла Грачёва. Он обрадовался, дёрнул Павла за рукав пальто и широко улыбнулся в лицо ему, Павел тоже улыбнулся – неохотно, с явным усилием.
Они несколько секунд стояли друг пред другом молча и, должно быть, оба почувствовали в эти секунды что-то, заставившее их заговорить обоих сразу.
– Смотреть пришёл? – спросил Павел, криво усмехаясь.
– А эта – здесь? – спросил Илья смущённо.
– Кто?
– Твоя Софья…
– Она не моя, – сухо ответил Павел, перебивая его речь.
Они вошли в зал.
– Садись рядом? – предложил Лунёв.
Павел замялся и ответил:
– Видишь ли… я – в компании…
– Ну… ладно…
– Свидетель! Когда вы увидали, что изба Анисимова горит…
– Й-у… ию-ю-ю, – ныла форточка, и в груди Лунёва тоже ныло.
– Дурак! – раздался рядом с ним тихий шёпот. Он взглянул – с ним рядом сидел чёрненький человечек, презрительно скривив губы.
– Кто? – шепнул Илья, тупо взглянув на него.
– Арестант… Имел прекрасный случай опрокинуть свидетеля, – пропустил! Я бы… эх!
Илья взглянул на арестанта. Это был высокого роста мужик с угловатой головой. Лицо у него было тёмное, испуганное, он оскалил зубы, как усталая, забитая собака скалит их, прижавшись в угол, окружённая врагами, не имея силы защищаться. А Петруха, Силачев, Додонов и другие смотрели на него спокойно, сытыми глазами. Лунёву казалось, что все они думают о мужике:
«Попался, – значит, виноват…»
– Скучно! – шепнул ему сосед. – Неинтересное дело… Подсудимый – глуп, прокурор – мямля, свидетели – болваны, как всегда… Будь я прокурором – я бы в десять минут его скушал…
– Виноват? – шёпотом спросил Лунёв, вздрагивая от какого-то озноба.
– Едва ли… Но осудить – можно… Не умеет защищаться. Мужики вообще не умеют защищаться… Дрянь народ! Кость и мясо, – а ума, ловкости – ни капли!
– Это – верно…
– У вас есть двугривенный? – вдруг спросил человечек.
– Есть…
– Дайте мне…
Илья вынул кошелёк и дал монету раньше, чем успел сообразить – следует ли дать? А когда уже дал, то с невольным уважением подумал, искоса поглядывая на соседа:
«Ловок…»
– Господа присяжные! – мягко и внушительно говорил прокурор. – Взгляните на лицо этого человека, – оно красноречивее показаний свидетелей, безусловно установивших виновность подсудимого… оно не может не убедить вас в том, что пред вами стоит типичный преступник, враг законопорядка, враг общества…
«Враг общества» сидел, но, должно быть, ему неловко стало сидеть, когда про него говорили, что он стоит, – он медленно поднялся на ноги, низко опустив голову. Его руки бессильно повисли вдоль туловища, и вся серая длинная фигура изогнулась, как бы приготовляясь нырнуть в пасть правосудия…
Когда Громов объявил перерыв заседания, Илья вышел в коридор вместе с чёрненьким человечком. Человечек достал из кармана пиджака смятую папироску и, расправляя её пальцами, заговорил:
– Божится, дурак, не поджигал, говорит. Тут – не божись, а прямо – снимай штаны да ложись… Дело строгое! Обидели лавочника…
– Виноват мужик-то, по-вашему? – задумчиво спросил Илья.
– Должно быть, виноват, потому что глуп. Умные люди виноватыми не бывают… – спокойной скороговоркой отрезал человечек, форсисто покуривая свою папироску.
– Тут, в присяжных, – тихо и с напряжением заговорил Илья, – сидят люди…
– Лавочники больше, – спокойно поправил его чёрненький. Илья взглянул на него и повторил:
– Некоторых я знаю…
– Ага!..
– Народ – аховый… ежели прямо говорить…
– Воры, – подсказал ему собеседник.
Говорил он громко. Бросив папироску, он, складывая губы трубой, густо свистал, смотрел на всех нагло, и всё в нём – каждая косточка – так ходуном и ходила от голодного беспокойства.
– Это бывает. Вообще, так называемое правосудие есть в большинстве случаев лёгонькая комедия, комедийка, – говорил он, передёргивая плечами. – Сытые люди упражняются в исправлении порочных наклонностей голодных людей. В суде бываю часто, но не видал, чтобы голодные сытого судили… если же сытые сытого судят, – это они его за жадность. Дескать – не всё сразу хватай, нам оставляй.
– Говорится: сытый голодного не разумеет, – сказал Илья.
– Пустяки! – возразил ему собеседник. – Великолепно разумеет, – оттого и строг…
– Ну, если сытый да честный – ничего ещё! – вполголоса говорил Илья, – а когда сытый да подлый, – как может он судить человека?
– Подлецы – самые строгие судьи, – спокойно заявил чёрненький человечек. – Ну-с, будем слушать дело о краже.
– Знакомая моя… – тихо сказал Лунёв.
– А! – воскликнул человечек, мельком взглянув на него. – Па-асмотрим вашу знакомую…
В голове Ильи всё путалось. Он хотел бы о многом спросить этого бойкого человечка, сыпавшего слова, как горох из лукошка, но в человечке было что-то неприятное и пугавшее Лунёва. В то же время неподвижная мысль о Петрухе-судье давила собою всё в нём. Она как бы железным кольцом обвилась вокруг его сердца, и всему остальному в сердце стало тесно…
Когда он подошёл к двери зала, в толпе пред нею он увидал крутой затылок и маленькие уши Павла Грачёва. Он обрадовался, дёрнул Павла за рукав пальто и широко улыбнулся в лицо ему, Павел тоже улыбнулся – неохотно, с явным усилием.
Они несколько секунд стояли друг пред другом молча и, должно быть, оба почувствовали в эти секунды что-то, заставившее их заговорить обоих сразу.
– Смотреть пришёл? – спросил Павел, криво усмехаясь.
– А эта – здесь? – спросил Илья смущённо.
– Кто?
– Твоя Софья…
– Она не моя, – сухо ответил Павел, перебивая его речь.
Они вошли в зал.
– Садись рядом? – предложил Лунёв.
Павел замялся и ответил:
– Видишь ли… я – в компании…
– Ну… ладно…