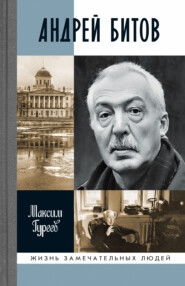По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вселенная Тарковские. Арсений и Андрей
Жанр
Серия
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но народ не расходится.
Почему в ту ночь там оказались Арсений и Маруся, сказать трудно. Скорее всего позвали друзья, многие из которых тогда сотрудничали с газетами, писали заметки, подрабатывали фотокорами. Тарковский знал, что где-то у стен Успенского собора находилась могила поэта Веневитинова, а также известного литератора первой половины XIX века С.Т. Аксакова. Говорили, что перед тем, как снести монастырское кладбище, его могилу вскрыли и обнаружили, что корень березы пророс через грудную клетку писателя, через его сердце.
И, может быть, тогда, в ту безумную ночь Арсению услышалось:
Когда я видел воплощенный гул
И меловые крылья оживали,
Открылось мне: я жизнь перешагнул,
А подвиг мой еще на перевале.
Мне должно завещание могил,
Зияющих, как ножевая рана,
Свести к библейской резкости белил
И подмастерьем стать у Феофана.
Я по когтям узнал его: он лев,
Он кость от кости собственной пустыни,
И жажду я, и вижу сны, истлев
На раскаленных углях благостыни.
Я шесть веков дышу его огнем
И ревностью шести веков изранен.
– Придешь ли, милосердный самарянин,
Повить меня твоим прохладным льном?
А потом всю ночь грохотали взрывы, сотрясая стены бараков Симоновской слободы и братских корпусов монастыря, вынося стекла и не давая спать.
Как впоследствии было сообщено в журнале «Огонек», 8 тысяч трудящихся Москвы вышли на разборку руин гнезда мракобесия и «омерзительной поповщины», на месте которого должен быть возведен величественный дом культуры автомобильного завода АЗИЛ по проекту архитекторов братьев Весниных. Строительство ДК автозавода было завершено в 1934 году.
Эпизод со сносом куполов из сценария фильма «Зеркало», не вошедший в окончательный вариант картины:
«По крыше церкви, крикливо переговариваясь, деловито поднималось несколько мужиков. Один из них волочил за собой длинный канат. Добравшись до конька крыши, они окружили один из куполов и стали набрасывать канат на его узорный кирпичный барабан. Я подошел ближе и встал за корявым березовым стволом… Я услышал, как где-то рядом заплакала женщина. Я оглянулся, но так и не нашел плачущую среди толпы. Голос ее совпал с криком старика в зеленом френче, который, суетливо размахивая руками, шел вдоль церковной стены и отдавал приказания.
Рабочие, стоявшие внизу, поймали брошенные с крыши концы каната и привязали их к основанию березы, у которой я стоял. Подбежавший старик оттолкнул меня в сторону. Между канатами просунули вагу и стали крутить ее наподобие пропеллера до упора.
Вдруг, словно взвившаяся змея, канат стремительно свинтился вторым узлом. Эта вдвойне скрученная спираль стала медленно и напряженно удлиняться, и в этот момент я на секунду поднял голову и увидел высокий белый купол и над ним крест, еще неподвижный…
Один из мужиков у березы крикнул что-то и всем телом упал на упругий канат. Его примеру последовали другие. Они набросились на звенящий канат и начали в такт раскачиваться на нем до тех пор, пока основание купола не стало поддаваться. Кладка начала крошиться, из нее вываливались кирпичи, и крест стал медленно крениться в сторону.
И вот, сначала все сооружение рухнуло вниз на железную крышу, потом с оглушительным грохотом на землю посыпались обломки кирпича, подымая клубы дыма, и, не успев закрыть глаза, я, ослепленный, уже почти ничего не видел, а только, кашляя, задыхаясь, вытирал ладонью слезы. Снова что-то обрушилось и, ломая длинные, до самой земли ветви берез, со скрежетом ударилось о землю… По другую сторону церкви раздавались злые крикливые голоса, все так же глухо падали камни, что-то гремело и сыпалось с нарастающим шумом.
Купола лежали у подножий исковерканных берез, лопнувшие, раздавленные, с засиженными птицами, погнутыми крестами… Вокруг церкви стояли бабы, мелко крестились и вытирали слезы».
Конечно, отец рассказывал сыну о тех событиях в Симоновской слободе, свидетелями которых они стали с его матерью. Событиях, увы, нередких в ту пору в Москве. Событиях, после которых становилось пусто не только в городе, но и на душе.
Арсений и Маруся идут по пустому выстуженному городу, взявшись за руки.
Пахнет дровами и углем, дворники сгребают снег, собаки сонно бродят вдоль деревянных покосившихся заборов, неохотно лают, более для того, чтобы согреться.
Дома холодно.
Котельная встала еще в начале зимы.
Буржуйка держит тепло недолго, да и дров хватает только на одну закладку в сутки.
Но можно согреть чайник, завернуться в плед или шерстяное одеяло и мечтать о лете, воспоминания о котором непременно согреют. С Волги будет едва доноситься далекий гудок буксира, что долго блуждает над поверхностью воды, а затем и растворяется в уходящем до горизонта лесу.
И Маруся будет спешить из Москвы в Завражье к милому Арсику, потому что он просит жену немедленно к нему приехать – ему плохо, ему исполняется двадцать четыре года, он чувствует себя разбитым стариком, он устал, он мучительно переживает одиночество. Все разговоры о том, что Марусе хотелось бы сдать выпускные экзамены и получить свидетельство об окончании ВГЛК, уже позади. Арсений, разумеется, не против, но и один он оставаться тоже не может.
Тут надо выбирать…
24 июня 1930 года, как раз перед началом экзаменов, Маруся уехала из Москвы. Таким образом, вопрос о получении выпускной корочки был закрыт.
Но зато теперь они могли вместе гулять по высоким волжским берегам, строить планы на будущее. Арсений читал своей жене стихи и явственно ощущал, как настроение его улучшалось. Маруся была рядом, а это значит, что он мог успокоиться и соблюдать рекомендации врача, прописавшего «усиленное питание и парное молоко».
Известно, что Тарковский страдал наследственным холециститом (отсюда желтоватый оттенок кожи его лица), у него были слабые легкие, при том что он курил безостановочно, да и «умение ничего не есть по два дня подряд» не могло не сказаться на его не столько физическом, сколько психическом и психологическом состоянии. Болезненность была не только результатом различных объективных дисфункций организма, но и чертой характера Арсика.
По воспоминаниям Марины Арсеньевны Тарковской, излишняя впечатлительность, порой доходящая до гипертрофированной мнительности, отличала Арсения еще в детстве, когда после гибели в 1919 году старшего брата Валерия родители, Александр Карлович и Мария Даниловна, посвящали ему все свое время, воспитав в нем комплекс собственной уникальности. Когда же впоследствии Арсений ощущал дефицит этого внимания, то он буквально заболевал.
Так недомогание стало частью поэтического образа, образа благородного, недоступного рядовому обывателю и предназначенного страданию. Было в этом что-то Печоринское. Впрочем, это и понятно, ведь подаренный родителями юному Арсюше в 1913 году томик стихов Лермонтова, по его словам, изменил его жизнь.
Итак, областью этих глубоко личных переживаний, разумеется, становится чувственное, крайне неустойчивое, а порой и иллюзорное восприятие действительности, людей, человеческих отношений. В этом эмоциональном потоке женщина начинает восприниматься как образ некой идеальной женщины, которой поэт отдает все свое сердце без остатка. Отдает с безумной страстью.
Действительно, Тарковский искренно не понимал, каким может быть мир Маруси Вишняковой, если в этом мире ему не находится места. Какие у нее могут быть интересы, кроме его интересов, ведь она часть его поэтического мира, он дышит ею и ею вдохновляется? Он не мог жить без нее.
Но при сближении и более тесном общении происходило прямо противоположное – оказывалось, что жена вовсе не является тем мифическим полубожественным существом, которое занимало горячее сердце поэта и будоражило его воображение. Она была обычной живой женщиной, у которой были свои интересы и мечты (она хотела заниматься литературным творчеством), свои дурные привычки (она, как и Арсений, постоянно курила), в быту она была непритязательна до аскетизма и строга, в ней не было того шика, который нравился Тарковскому в женщинах и который приличествовал, как он был уверен, спутнице жизни байронического красавца с худым бледным лицом и ярким чувственным ртом.
По сути это было столкновение яви и сна, ночи и дня, открытых и закрытых глаз.
Именно в эти годы поэт напишет:
Все ты ходишь в платье черном.
Ночь пройдет, рассвета ждешь,
Все не спишь в дому просторном,
Точно в песенке живешь.
Веет ветер колокольный
В куполах ночных церквей,
Пролетает сон безвольный
Мимо горницы твоей.
Хорошо в дому просторном —
Ни зеркал, ни темноты,
Вот и ходишь в платье черном
И меня забыла ты.
Сколько ты мне снов развяжешь,
Только имя назови
Вспомнишь обо мне – покажешь
Наяву глаза свои.
Если ангелы летают
В куполах ночных церквей,
Если розы расцветают
В темной горнице твоей.