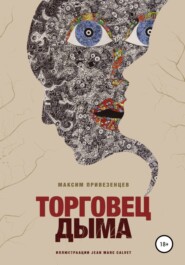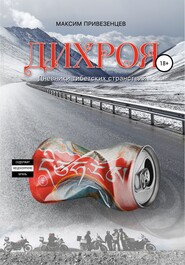По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шотландский ветер Лермонтова
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не думала, что было бы, если бы после развода ты все-таки вернулась в Россию? Насколько это повлияло бы на твое творчество, на то, что ты создаешь, что вкладываешь в свои произведения? Или обстановка не настолько сильно влияет на твой внутренний мир?
– Знаешь, как сказал чешский писатель Милан Кундера в своей книге «Невыносимая легкость бытия»: «Нет никакой возможности проверить, какое решение лучше, ибо нет никакого сравнения: мы проживаем все разом, впервые и без подготовки». То есть нельзя с уверенностью сказать, какой была бы жизнь, поступи мы так или иначе, потому что жизнь – вот она, здесь и сейчас. Не законченный рисунок, а набросок, который никак нельзя исправить. То есть ты не можешь просто стереть часть жизненной линии и начертить новую, с нужного тебе момента. Поэтому вообразить себе, что было бы, очень трудно. Другое дело, что обстановка, конечно же, влияет на твое творчество через твое восприятие.
– Высказывание Милана Кундеры навевает мысли о фатализме, – заметил я… – Не думаешь, что твое творчество в России было бы более… фатальным?
Видя на лице Жени легкое недоумение, я торопливо добавил:
– Сейчас поясню. Смотри: я, безусловно, разделяю точку зрения, что история не терпит сослагательного наклонения. Но при этом вопрос «если бы» – он же всегда живет во многих умах. И вот я, путешествуя по Шотландии, часто задумывался, что было бы, если бы Лермонтов не только узнал о своих корнях, но и перебрался бы сюда? Могло ли это как-то изменить его судьбу? Например, помочь ему избежать той нелепой дуэли, на которую он нарвался, ища смерти… Смог бы свежий шотландский ветер прояснить его мысли?
– С одной стороны, конечно, смена обстановки точно сделала бы из Лермонтова другого человека, – медленно ответила Женя. – С другой, не стоит все-таки забывать, что Шотландия в те годы тоже не была курортом. Когда приезжаешь куда-то в гости, все кажется более… дружелюбным, легким, потому что ты на каникулах. Но когда ты именно переезжаешь – это совсем иное чувство. Плюсы – они всегда на поверхности больше, чем минусы. Во времена Лермонтова, впрочем, и гостем сюда приезжать было нежелательно: Шотландия переживала труднейшие времена. Нет, безусловно, если бы он приехал сюда за «бурей», то обязательно ее нашел.
– Да, наверное, ты права – я под впечатлением от Шотландии и потому сужу несколько поверхностно. В 1840-е годы, насколько я помню, тут была эпоха больших перемен и безработица?
– Именно. Промышленность активно развивалась, но рабочих мест все равно не хватало, и народ массово эмигрировал, а кто не мог – прозябал в бедности. Плюс были серьезные эпидемии в Глазго и других городах. Другое дело, что Лермонтов относился все-таки к знати, наверняка, у него была бы земля и прочее… Сложно. Знаешь, я большая поклонница Пушкина. И вот у меня тоже был период, когда я ломала голову, мог ли он избежать дуэли с Дантесом? Наверное, они все-таки так или иначе нашли бы свою смерть – может, чуть позже, но нашли бы непременно. Фатализм это или что-то другое – не берусь судить…
Время летело незаметно. Мы бродили по этому царству ярких красок, ароматов меда, корицы и других приправ, и везде нас встречали улыбками – будь то случайные прохожие или же администраторы-волонтеры. После обеда Женя презентовала публике книгу стихов своего друга, Шуры Шихварга – русского литератора со сложной судьбой, с которым они дружили последние лет пятнадцать. После презентации мы перекусили и направились на север – к сценам, на которых начинался разогрев перед гала-концертом.
Масштабы поражали. Я сам уже десять лет ежегодно провожу блюз-байк фестивали в Суздале, но это были несравнимые величины. У нас речь идет о нескольких тысячах человек. Здесь же, в Беллардуме, стабильно собиралось около сотни тысяч – колоссальная масса людей, от которых исходила невероятно мощная энергетика. Перед самым концертом мы познакомились с друзьями Жени – позитивными шотландцами, которые приветствовали нас так, будто знали всю жизнь. В радиусе нескольких десятков километров царила атмосфера дружбы, любви и культурного единения.
Мы веселились до позднего вечера – ходили от сцены к сцене, стремясь побывать везде. Уже сидя за рулем «Бонневиля» и глядя на дорогу перед собой, я поймал себя на мысли, что тихо напеваю одну из услышанных на фестивале песен:
Just hold on me
If you find yourself starting to be
Nothing but a wholesome soul survival
Losingyourtime…
(Просто держись за меня,
Если ты начинаешь постепенно находить себя,
Помни: все, что угодно, кроме душевного покоя,
Просто потеря времени…
– TheSnuts, «Seasons».)
* * *
1841
– Петр Алексеевич! – зычно воскликнул кто-то.
Уваров открыл глаза и уставился в потолок. Было едва за полдень, но Петр Алексеевич забылся сном – пожалуй, здесь, в Кисловодске, других развлечений, кроме чтения книг и дремы, не водилось: стояла невыносимая жара, и даже ветер не дарил живительной прохлады, а, напротив, обжигал кожу.
– К вам гости!
Уваров приподнялся на локте, чтобы взглянуть на невидимого горлопана, но тут же сморщился: резкое движение отдалось болью в правый бок.
«Проклятые черкесы с их ружьями…» – подумал Петр Алексеевич, потирая ребра ладонью.
На самом деле, конечно, Уварову следовало винить в случившемся только самого себя: в отличие от прочих участников «кружка шестнадцати», его никто не заставлял отправляться в самое пекло войны. Сам Петр Алексеевич поначалу никак не мог понять, отчего его товарищи уезжают на Кавказ один за другим, покуда Монго и Гагарин не рассказали о разговорах, на которые их вызывал Бенкендорф. В них он – разумеется, ничуть не настаивая – предлагал собеседникам отправиться в горы, дабы проявить лучшие свои качества, защищая Отчизну от грязных посягательств тамошних жителей. При этом Бенкендорф всячески подчеркивал, что отрицательный ответ от людей столь благородных кровей, как Гагарин, Монго и прочие, может быть расценен престолодержцем чуть ли не как государственная измена.
– А тебя – вызывали? – поинтересовался Столыпин, заехав в гости к Уварову незадолго до отъезда на Кавказ.
– Нет, – покачал головой Петр Алексеевич.
– Понятно… – протянул Монго.
– Что – понятно? – не понял Уваров.
Осознание догнало его мгновение спустя, и он, изменившись в лице, осторожно спросил:
– Думаешь, это Анна опять пожаловалась Бенкендорфу?
– Возможно… Впрочем, думаю, он и без ее подсказок давно о нас знал, просто до дуэли с де Барантом не обращал особого внимания. Что ж, остается мне только порадоваться за тебя, мон шер. – Монго выдавил улыбку. – Ни к чему тебе ужасы войны.
Столыпин уехал, оставив друга наедине с его невеселыми мыслями. На сей раз судьба в лице царя, графа Бенкендорфа и «любимой» кузины Анны лишила Петра Алексеевича не только Лермонтова, но и всего кружка шестнадцати.
«А ведь мы так сблизились за эти годы… Что с ними будет, на войне? Все ли вернутся? Вернется ли вообще кто-то?»
Бои на Кавказе шли с переменным успехом, а потому предсказать что-то не представлялось возможным, тем более что даже удачный ход очередного боя подразумевал потери – просто меньшие, чем у врага.
«А я сижу себе, читаю книги, пью чай, пока мои друзья рискуют жизнью…» – с такой мыслью Уваров засыпал, с ней и просыпался.
С ней же и просил разрешения отправить его на Кавказ добровольцем.
Противиться никто не стал, но уже по приезде в Грозный прапорщика Уварова настигло письмо от разгневанного дяди, который обвинял племянника в «малодушии» и «неблагодарности». Тем самым отец Анны косвенно подтвердил догадку Монго, что Хитрова каким-то образом поучаствовала в этой мутной истории – возможно, фактически обменяв службу других членов кружка на спокойную жизнь своего непутевого брата. Разумеется, в глазах родных Уваров выглядел идиотом – тебя всячески оберегают от смерти, а ты к ней сам же рвешься – но разве мог бы Петр Алексеевич потом смотреть в лица друзей, если бы остался в Петербурге? Конечно же, нет.
Увы, Кавказ принял Уварова плохо. Спустя месяц во время одного из боев его контузило, после лечения Петр Алексеевич вернулся – но, как выяснилось позже, лишь для того, чтобы вскорости вновь лечь на больничную койку: один из черкесов попал в него из ружья. Пуля, по счастью, не задела жизненно важных органов, но из-за болей вернуться на поле брани Уваров не мог. Июль он проводил в Кисловодске на водах – восстанавливал поврежденное здоровье – и весть о госте, решившем его навестить, застала Петра Алексеевича врасплох.
Когда же Уваров увидел, кто к нему пожаловал, удивление только усилилось – это был не Монго, не Гагарин или Жерве, и даже не Шувалов.
В дверях комнаты, грустно взирая на Петра Алексеевича, стоял никто иной, как Лев Пушкин – младший брат погибшего поэта. Возле Пушкина стоял дородный санитар, который, видимо, и зазывал прапорщика Уварова.
– Лев? – удивился Петр Алексеевич. – Какими судьбами?
С печальной улыбкой на устах Пушкин подошел к кровати, на которой лежал Уваров, и опустился на самый край – пружины протестующе скрипнули, но тут же смолкли. Многозначительно посмотрел на санитара, и тот вышел, закрыв за собой дверь.
– Привез тебе чрезвычайно дурную весть, – сказал Лев с трудом. – Лермонтов убит на дуэли.
Уваров обмер. Пожалуй, даже хорошо, что он не успел подняться, иначе точно не устоял бы на ногах от такой новости. Петр Алексеевич ощутил сквозящую пустоту внутри – будто это его самого, а не Лермонтова, неизвестный стрелок продырявил пулей из пистолета. Цвета вокруг померкли, мир словно разом перестал существовать; в нем остались только Уваров и эхо от слов Пушкина:
«Лермонтов… убит… на дуэли…»
Никогда нельзя подготовиться к смерти того, кто тебе дорог – уход из жизни родителя, супруги или друга непременно застанет тебя врасплох – однако же достойная, логичная причина может несколько усмирить с неизбежностью. Допустим, поручика Лермонтова мог тяжело ранить или вовсе убить на месте кто-то из горцев во время очередного боя за ничтожную пядь земли, и таковая кончина вызвала бы бесконечную грусть, но не стала бы настолько обидной.
– Знаешь, как сказал чешский писатель Милан Кундера в своей книге «Невыносимая легкость бытия»: «Нет никакой возможности проверить, какое решение лучше, ибо нет никакого сравнения: мы проживаем все разом, впервые и без подготовки». То есть нельзя с уверенностью сказать, какой была бы жизнь, поступи мы так или иначе, потому что жизнь – вот она, здесь и сейчас. Не законченный рисунок, а набросок, который никак нельзя исправить. То есть ты не можешь просто стереть часть жизненной линии и начертить новую, с нужного тебе момента. Поэтому вообразить себе, что было бы, очень трудно. Другое дело, что обстановка, конечно же, влияет на твое творчество через твое восприятие.
– Высказывание Милана Кундеры навевает мысли о фатализме, – заметил я… – Не думаешь, что твое творчество в России было бы более… фатальным?
Видя на лице Жени легкое недоумение, я торопливо добавил:
– Сейчас поясню. Смотри: я, безусловно, разделяю точку зрения, что история не терпит сослагательного наклонения. Но при этом вопрос «если бы» – он же всегда живет во многих умах. И вот я, путешествуя по Шотландии, часто задумывался, что было бы, если бы Лермонтов не только узнал о своих корнях, но и перебрался бы сюда? Могло ли это как-то изменить его судьбу? Например, помочь ему избежать той нелепой дуэли, на которую он нарвался, ища смерти… Смог бы свежий шотландский ветер прояснить его мысли?
– С одной стороны, конечно, смена обстановки точно сделала бы из Лермонтова другого человека, – медленно ответила Женя. – С другой, не стоит все-таки забывать, что Шотландия в те годы тоже не была курортом. Когда приезжаешь куда-то в гости, все кажется более… дружелюбным, легким, потому что ты на каникулах. Но когда ты именно переезжаешь – это совсем иное чувство. Плюсы – они всегда на поверхности больше, чем минусы. Во времена Лермонтова, впрочем, и гостем сюда приезжать было нежелательно: Шотландия переживала труднейшие времена. Нет, безусловно, если бы он приехал сюда за «бурей», то обязательно ее нашел.
– Да, наверное, ты права – я под впечатлением от Шотландии и потому сужу несколько поверхностно. В 1840-е годы, насколько я помню, тут была эпоха больших перемен и безработица?
– Именно. Промышленность активно развивалась, но рабочих мест все равно не хватало, и народ массово эмигрировал, а кто не мог – прозябал в бедности. Плюс были серьезные эпидемии в Глазго и других городах. Другое дело, что Лермонтов относился все-таки к знати, наверняка, у него была бы земля и прочее… Сложно. Знаешь, я большая поклонница Пушкина. И вот у меня тоже был период, когда я ломала голову, мог ли он избежать дуэли с Дантесом? Наверное, они все-таки так или иначе нашли бы свою смерть – может, чуть позже, но нашли бы непременно. Фатализм это или что-то другое – не берусь судить…
Время летело незаметно. Мы бродили по этому царству ярких красок, ароматов меда, корицы и других приправ, и везде нас встречали улыбками – будь то случайные прохожие или же администраторы-волонтеры. После обеда Женя презентовала публике книгу стихов своего друга, Шуры Шихварга – русского литератора со сложной судьбой, с которым они дружили последние лет пятнадцать. После презентации мы перекусили и направились на север – к сценам, на которых начинался разогрев перед гала-концертом.
Масштабы поражали. Я сам уже десять лет ежегодно провожу блюз-байк фестивали в Суздале, но это были несравнимые величины. У нас речь идет о нескольких тысячах человек. Здесь же, в Беллардуме, стабильно собиралось около сотни тысяч – колоссальная масса людей, от которых исходила невероятно мощная энергетика. Перед самым концертом мы познакомились с друзьями Жени – позитивными шотландцами, которые приветствовали нас так, будто знали всю жизнь. В радиусе нескольких десятков километров царила атмосфера дружбы, любви и культурного единения.
Мы веселились до позднего вечера – ходили от сцены к сцене, стремясь побывать везде. Уже сидя за рулем «Бонневиля» и глядя на дорогу перед собой, я поймал себя на мысли, что тихо напеваю одну из услышанных на фестивале песен:
Just hold on me
If you find yourself starting to be
Nothing but a wholesome soul survival
Losingyourtime…
(Просто держись за меня,
Если ты начинаешь постепенно находить себя,
Помни: все, что угодно, кроме душевного покоя,
Просто потеря времени…
– TheSnuts, «Seasons».)
* * *
1841
– Петр Алексеевич! – зычно воскликнул кто-то.
Уваров открыл глаза и уставился в потолок. Было едва за полдень, но Петр Алексеевич забылся сном – пожалуй, здесь, в Кисловодске, других развлечений, кроме чтения книг и дремы, не водилось: стояла невыносимая жара, и даже ветер не дарил живительной прохлады, а, напротив, обжигал кожу.
– К вам гости!
Уваров приподнялся на локте, чтобы взглянуть на невидимого горлопана, но тут же сморщился: резкое движение отдалось болью в правый бок.
«Проклятые черкесы с их ружьями…» – подумал Петр Алексеевич, потирая ребра ладонью.
На самом деле, конечно, Уварову следовало винить в случившемся только самого себя: в отличие от прочих участников «кружка шестнадцати», его никто не заставлял отправляться в самое пекло войны. Сам Петр Алексеевич поначалу никак не мог понять, отчего его товарищи уезжают на Кавказ один за другим, покуда Монго и Гагарин не рассказали о разговорах, на которые их вызывал Бенкендорф. В них он – разумеется, ничуть не настаивая – предлагал собеседникам отправиться в горы, дабы проявить лучшие свои качества, защищая Отчизну от грязных посягательств тамошних жителей. При этом Бенкендорф всячески подчеркивал, что отрицательный ответ от людей столь благородных кровей, как Гагарин, Монго и прочие, может быть расценен престолодержцем чуть ли не как государственная измена.
– А тебя – вызывали? – поинтересовался Столыпин, заехав в гости к Уварову незадолго до отъезда на Кавказ.
– Нет, – покачал головой Петр Алексеевич.
– Понятно… – протянул Монго.
– Что – понятно? – не понял Уваров.
Осознание догнало его мгновение спустя, и он, изменившись в лице, осторожно спросил:
– Думаешь, это Анна опять пожаловалась Бенкендорфу?
– Возможно… Впрочем, думаю, он и без ее подсказок давно о нас знал, просто до дуэли с де Барантом не обращал особого внимания. Что ж, остается мне только порадоваться за тебя, мон шер. – Монго выдавил улыбку. – Ни к чему тебе ужасы войны.
Столыпин уехал, оставив друга наедине с его невеселыми мыслями. На сей раз судьба в лице царя, графа Бенкендорфа и «любимой» кузины Анны лишила Петра Алексеевича не только Лермонтова, но и всего кружка шестнадцати.
«А ведь мы так сблизились за эти годы… Что с ними будет, на войне? Все ли вернутся? Вернется ли вообще кто-то?»
Бои на Кавказе шли с переменным успехом, а потому предсказать что-то не представлялось возможным, тем более что даже удачный ход очередного боя подразумевал потери – просто меньшие, чем у врага.
«А я сижу себе, читаю книги, пью чай, пока мои друзья рискуют жизнью…» – с такой мыслью Уваров засыпал, с ней и просыпался.
С ней же и просил разрешения отправить его на Кавказ добровольцем.
Противиться никто не стал, но уже по приезде в Грозный прапорщика Уварова настигло письмо от разгневанного дяди, который обвинял племянника в «малодушии» и «неблагодарности». Тем самым отец Анны косвенно подтвердил догадку Монго, что Хитрова каким-то образом поучаствовала в этой мутной истории – возможно, фактически обменяв службу других членов кружка на спокойную жизнь своего непутевого брата. Разумеется, в глазах родных Уваров выглядел идиотом – тебя всячески оберегают от смерти, а ты к ней сам же рвешься – но разве мог бы Петр Алексеевич потом смотреть в лица друзей, если бы остался в Петербурге? Конечно же, нет.
Увы, Кавказ принял Уварова плохо. Спустя месяц во время одного из боев его контузило, после лечения Петр Алексеевич вернулся – но, как выяснилось позже, лишь для того, чтобы вскорости вновь лечь на больничную койку: один из черкесов попал в него из ружья. Пуля, по счастью, не задела жизненно важных органов, но из-за болей вернуться на поле брани Уваров не мог. Июль он проводил в Кисловодске на водах – восстанавливал поврежденное здоровье – и весть о госте, решившем его навестить, застала Петра Алексеевича врасплох.
Когда же Уваров увидел, кто к нему пожаловал, удивление только усилилось – это был не Монго, не Гагарин или Жерве, и даже не Шувалов.
В дверях комнаты, грустно взирая на Петра Алексеевича, стоял никто иной, как Лев Пушкин – младший брат погибшего поэта. Возле Пушкина стоял дородный санитар, который, видимо, и зазывал прапорщика Уварова.
– Лев? – удивился Петр Алексеевич. – Какими судьбами?
С печальной улыбкой на устах Пушкин подошел к кровати, на которой лежал Уваров, и опустился на самый край – пружины протестующе скрипнули, но тут же смолкли. Многозначительно посмотрел на санитара, и тот вышел, закрыв за собой дверь.
– Привез тебе чрезвычайно дурную весть, – сказал Лев с трудом. – Лермонтов убит на дуэли.
Уваров обмер. Пожалуй, даже хорошо, что он не успел подняться, иначе точно не устоял бы на ногах от такой новости. Петр Алексеевич ощутил сквозящую пустоту внутри – будто это его самого, а не Лермонтова, неизвестный стрелок продырявил пулей из пистолета. Цвета вокруг померкли, мир словно разом перестал существовать; в нем остались только Уваров и эхо от слов Пушкина:
«Лермонтов… убит… на дуэли…»
Никогда нельзя подготовиться к смерти того, кто тебе дорог – уход из жизни родителя, супруги или друга непременно застанет тебя врасплох – однако же достойная, логичная причина может несколько усмирить с неизбежностью. Допустим, поручика Лермонтова мог тяжело ранить или вовсе убить на месте кто-то из горцев во время очередного боя за ничтожную пядь земли, и таковая кончина вызвала бы бесконечную грусть, но не стала бы настолько обидной.