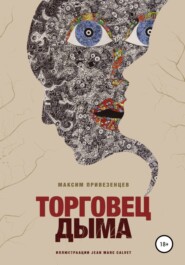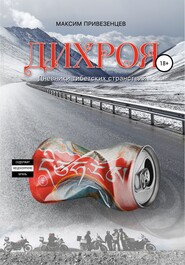По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шотландский ветер Лермонтова
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А что, не должен был? – прищурился Вадим.
– Ну, я ж знаю, что тебе не особо интересны были Лермонты и все их замки, – с улыбкой произнес я. – А здесь мы, тем более, уже были…
– Ну, а тебе не особо интересны кабачки и дегустации виски, – хмыкнул Чиж. – И что ж теперь? Я, как и ты, стараюсь искать позитив во всем, что со мной происходит. И находил его.
Он шумно затянулся и, выпустив в небо облако сизого дыма, добавил:
– Мне все понравилось, Макс. От и до. Новые впечатления, новые места. А Бивитт? Помнишь, как он пел?
– Томас пел мощно, – согласился я.
– Угу… В общем, за месяц впечатление не изменилось – классно прокатились. Я бы еще куда-нибудь съездил, если позовешь…
– Позову обязательно, – с улыбкой ответил я. – Даже не сомневайся.
Чиж протянул мне руку:
– Ладно, Макс. Раз мы тут так быстро закончили, съезжу по делам. Как раз успею заскочить в пару мест…
– Давай, Вадик. До встречи и удачи.
Распрощавшись, мы побрели в разные стороны – к своим машинам.
– Да, кстати!.. – на полпути спохватился Чиж.
Я оглянулся.
– Я тут на одном сайте вычитал, что у Лермонтова был 39-й размер ноги. Он очень из-за этого комплексовал и потому всегда брал обувь чуть больше, чтобы не выглядеть нелепо.
– Ну… интересно, – неуверенно пожал плечами я. – Если это правда, конечно…
– А в другом месте, – будто не слыша меня, продолжил Вадик, – было сказано, что у Лермонтова – 45-й. И он, опять же, переживал из-за этого, а потому носил обувь меньшего размера. А самое смешное, что на обоих сайтах скверный характер Лермонтова объясняли в том числе и тем, что он носил сапоги не по ноге.
Чиж расплылся в улыбке и, открыв дверь машины, забрался внутрь. Несколько мгновений спустя его авто уже неслось по дороге в направлении Москвы.
Глядя вслед, я усмехнулся. До чего же сильно могут отличаться интересы двух разных людей, пусть даже и таких хороших друзей, как мы с Чижом!.. Высокие материи, фатализм, романтизм Лермонтова мало волновали Вадика, а вот размер ноги, умение кататься на лыжах или ездить верхом – очень даже.
Покончив с сигарой, я сел в свою машину, завел мотор и тронулся с места. Не успел, однако, проехать и пятисот метров, как зазвонил телефон. Я покосился на экран – неизвестный номер, притом с кодом Великобритании.
«Кто это? Женя? Томас Бивитт? Или Дэвид Скотт из Сент-Эндрюса?»
Сбавив скорость, я включил громкую связь:
– Да?
– Максим? – пробормотала трубка хрипловатым старческим баритоном.
– Да, это я.
– Это Шура Шихварг, друг Жени Вронской. Она говорила, вы хотели со мной пообщаться?
– Да… да, хотел, Александр.
Я включил поворотник и остановился у обочины. Звонок Шуры, признаться, застал меня врасплох. Я-то хотел созвониться с ним из дома и задать ряд обдуманных вопросов, а не общаться в пути, однако сворачивать разговор показалось невежливым. Я вытащил из сумки блокнот и ручку: нужно было хотя бы попытаться зафиксировать на бумаге все самое интересное.
– Извините, что не смог встретиться с вами в ваш приезд, – тихо сказал Шура. – Здоровье в последнее время… шалит. Поэтому я постарался позвонить сразу, как только нашел в себе силы.
«Ну вот, тем более нельзя упускать возможность».
– Как вам понравилась Шотландия? – спросил Шихварг. – Вы, как я понял, приезжали, в первую очередь, из-за интереса к корням Лермонтова?
– Да, именно.
– Судя по рассказам Жени, вы тоже ощутили магию тех мест, где жили его предки?
– Да, магия – очень верное слово. Замки Балкоми, Дерси, Сент-Эндрюс… Развалины Башни Томаса – поэта, влюбленного в королеву фей… Как считаете, кстати, Лермонтов унаследовал дар пророка от своего великого предка?
– А что вы вкладываете в понятие «пророк», Максим?
– Ну, в широком смысле пророк – предсказатель. Ветхозаветные пророки, от которых берет начало этот термин, были посланцами Бога, указывали на грехи людей и общества и предавали их проклятию. Пророки, скажем так, создавали духовный облик народа.
– Да, в таком смысле Лермонтов действительно был пророком. Грустная ирония заключается в том, что в России писатели всегда знали: за указание на грехи людей и критику общества они заплатят своей судьбой. И в итоге развитие русской культуры оказалось неотрывно связанно с жертвенностью ее творцов. Один из ярчайших мыслителей того времени, Петр Яковлевич Чаадаев, заплатил самую дорогую цену за критику общества.
– Николай I, насколько я помню, объявил его безумным?
– Да, именно. Вы читали книгу «Чаадаев» Бориса Николаевича Тарасова, известного филолога?
– К сожалению, нет.
– Там приводится показательная реакция на «Философическое письмо», опубликованное в журнале «Телескоп» в октябре 1836 года: тогда студенты Московского университета пришли к председателю цензурного комитета графу Строганову и заявили, что готовы с оружием в руках вступиться за оскорбленную Россию. Отвечать на слово силой оружия – классический пример варварства, когда в ответ на критику пророков в них летят камни от разъяренной толпы. Но хуже всего было то, что царь поддерживал такой дикарский подход: указом Николая журнал «Телескоп» был запрещен, а вместе с ним – и журнал «Молва», планирующий печать лермонтовскую драму «Маскарад».
– Интересно, Лермонтову досталось по совокупности – за «Маскарад» и поддержку Чаадаева?
– Как знать, как знать… Доподлинно известно лишь, что «Маскарад» тоже был запрещен, а жизнь Чаадаева после публикации «Философического письма» оказалась буквально разрушена. Его вынуждали ежедневно посещать царского лекаря, дабы следить за умственным состоянием «пророка»; общество отвергло его; здоровье расшатывалось, а нервы окончательно расстроились. Постоянный страх умереть привел к тому, что до конца жизни Чаадаев находился в одиночестве.
– Ну, насколько я знаю, Белинский, Хомяков и часть московских литературных кругов продолжали поддерживать с ним связь, – заметил я. – Так же достоверно известно и о личной встрече Лермонтова с Чаадаевым 9 мая 1840 года на обеде у Гоголя в честь именин.
– Не думаю, что салонный успех был панацеей от одиночества, – мягко сказал Шура. – Тот же Лермонтов – он ведь едва не разделил участь Чаадаева. Да, безусловно, стихотворение на смерть Пушкина сделало его знаменитым, но оно же отвернуло от Михаила Юрьевича царя. Что характерно: Николай искренне считал любого, кто выступает с критикой в его адрес, безумцем, сумасшедшим. Он и к Лермонтову лекаря посылал, чтобы убедиться в его душевном здоровье. И только потом велел арестовать.
– То есть обличительный и гневный тон статьи Чаадаева и «Смерть поэта» Лермонтова были настолько дискомфортны русскому обществу, что оно пыталось объяснить позицию авторов следствием помешательства?
Шура грустно усмехнулся
– Конечно, сегодня, опираясь на работы Гоголя, Толстого, Достоевского говорить о пророках в русской литературе значительно легче. Но в первой половине XIX столетия для власти и общества то, что русские литераторы взяли на себя обличительную роль, действительно было шоком. Тот же Лермонтов, кажется, лишь за несколько месяцев до смерти в стихотворении «Пророк» полностью осознает трагическую судьбу поэта-гражданина, взвалившего на себя эту непосильную ношу.
– Я хотел вспомнить известное высказывание, что «нет пророка в своем отечестве», но, получается, именно пророческие произведения стали хребтом русской литературы!
– Да, безусловно, – согласился Шура. – Историк литературы Владислав Ходасевич однажды очень верно заметил: «Ни одна литература не была так пророчественна, как русская. Если не каждый русский писатель – пророк в полном смысле слова (как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский), то нечто от пророка есть в каждом, ибо пророчествен самый дух русской литературы. И вот поэтому – древний, неколебимый закон, неизбежная борьба пророка с его народом, в русской истории так часто и так явственно проявляется. Дантесы и Мартыновы сыщутся везде, да не везде у них столь обширное поле действий».
– Ну, я ж знаю, что тебе не особо интересны были Лермонты и все их замки, – с улыбкой произнес я. – А здесь мы, тем более, уже были…
– Ну, а тебе не особо интересны кабачки и дегустации виски, – хмыкнул Чиж. – И что ж теперь? Я, как и ты, стараюсь искать позитив во всем, что со мной происходит. И находил его.
Он шумно затянулся и, выпустив в небо облако сизого дыма, добавил:
– Мне все понравилось, Макс. От и до. Новые впечатления, новые места. А Бивитт? Помнишь, как он пел?
– Томас пел мощно, – согласился я.
– Угу… В общем, за месяц впечатление не изменилось – классно прокатились. Я бы еще куда-нибудь съездил, если позовешь…
– Позову обязательно, – с улыбкой ответил я. – Даже не сомневайся.
Чиж протянул мне руку:
– Ладно, Макс. Раз мы тут так быстро закончили, съезжу по делам. Как раз успею заскочить в пару мест…
– Давай, Вадик. До встречи и удачи.
Распрощавшись, мы побрели в разные стороны – к своим машинам.
– Да, кстати!.. – на полпути спохватился Чиж.
Я оглянулся.
– Я тут на одном сайте вычитал, что у Лермонтова был 39-й размер ноги. Он очень из-за этого комплексовал и потому всегда брал обувь чуть больше, чтобы не выглядеть нелепо.
– Ну… интересно, – неуверенно пожал плечами я. – Если это правда, конечно…
– А в другом месте, – будто не слыша меня, продолжил Вадик, – было сказано, что у Лермонтова – 45-й. И он, опять же, переживал из-за этого, а потому носил обувь меньшего размера. А самое смешное, что на обоих сайтах скверный характер Лермонтова объясняли в том числе и тем, что он носил сапоги не по ноге.
Чиж расплылся в улыбке и, открыв дверь машины, забрался внутрь. Несколько мгновений спустя его авто уже неслось по дороге в направлении Москвы.
Глядя вслед, я усмехнулся. До чего же сильно могут отличаться интересы двух разных людей, пусть даже и таких хороших друзей, как мы с Чижом!.. Высокие материи, фатализм, романтизм Лермонтова мало волновали Вадика, а вот размер ноги, умение кататься на лыжах или ездить верхом – очень даже.
Покончив с сигарой, я сел в свою машину, завел мотор и тронулся с места. Не успел, однако, проехать и пятисот метров, как зазвонил телефон. Я покосился на экран – неизвестный номер, притом с кодом Великобритании.
«Кто это? Женя? Томас Бивитт? Или Дэвид Скотт из Сент-Эндрюса?»
Сбавив скорость, я включил громкую связь:
– Да?
– Максим? – пробормотала трубка хрипловатым старческим баритоном.
– Да, это я.
– Это Шура Шихварг, друг Жени Вронской. Она говорила, вы хотели со мной пообщаться?
– Да… да, хотел, Александр.
Я включил поворотник и остановился у обочины. Звонок Шуры, признаться, застал меня врасплох. Я-то хотел созвониться с ним из дома и задать ряд обдуманных вопросов, а не общаться в пути, однако сворачивать разговор показалось невежливым. Я вытащил из сумки блокнот и ручку: нужно было хотя бы попытаться зафиксировать на бумаге все самое интересное.
– Извините, что не смог встретиться с вами в ваш приезд, – тихо сказал Шура. – Здоровье в последнее время… шалит. Поэтому я постарался позвонить сразу, как только нашел в себе силы.
«Ну вот, тем более нельзя упускать возможность».
– Как вам понравилась Шотландия? – спросил Шихварг. – Вы, как я понял, приезжали, в первую очередь, из-за интереса к корням Лермонтова?
– Да, именно.
– Судя по рассказам Жени, вы тоже ощутили магию тех мест, где жили его предки?
– Да, магия – очень верное слово. Замки Балкоми, Дерси, Сент-Эндрюс… Развалины Башни Томаса – поэта, влюбленного в королеву фей… Как считаете, кстати, Лермонтов унаследовал дар пророка от своего великого предка?
– А что вы вкладываете в понятие «пророк», Максим?
– Ну, в широком смысле пророк – предсказатель. Ветхозаветные пророки, от которых берет начало этот термин, были посланцами Бога, указывали на грехи людей и общества и предавали их проклятию. Пророки, скажем так, создавали духовный облик народа.
– Да, в таком смысле Лермонтов действительно был пророком. Грустная ирония заключается в том, что в России писатели всегда знали: за указание на грехи людей и критику общества они заплатят своей судьбой. И в итоге развитие русской культуры оказалось неотрывно связанно с жертвенностью ее творцов. Один из ярчайших мыслителей того времени, Петр Яковлевич Чаадаев, заплатил самую дорогую цену за критику общества.
– Николай I, насколько я помню, объявил его безумным?
– Да, именно. Вы читали книгу «Чаадаев» Бориса Николаевича Тарасова, известного филолога?
– К сожалению, нет.
– Там приводится показательная реакция на «Философическое письмо», опубликованное в журнале «Телескоп» в октябре 1836 года: тогда студенты Московского университета пришли к председателю цензурного комитета графу Строганову и заявили, что готовы с оружием в руках вступиться за оскорбленную Россию. Отвечать на слово силой оружия – классический пример варварства, когда в ответ на критику пророков в них летят камни от разъяренной толпы. Но хуже всего было то, что царь поддерживал такой дикарский подход: указом Николая журнал «Телескоп» был запрещен, а вместе с ним – и журнал «Молва», планирующий печать лермонтовскую драму «Маскарад».
– Интересно, Лермонтову досталось по совокупности – за «Маскарад» и поддержку Чаадаева?
– Как знать, как знать… Доподлинно известно лишь, что «Маскарад» тоже был запрещен, а жизнь Чаадаева после публикации «Философического письма» оказалась буквально разрушена. Его вынуждали ежедневно посещать царского лекаря, дабы следить за умственным состоянием «пророка»; общество отвергло его; здоровье расшатывалось, а нервы окончательно расстроились. Постоянный страх умереть привел к тому, что до конца жизни Чаадаев находился в одиночестве.
– Ну, насколько я знаю, Белинский, Хомяков и часть московских литературных кругов продолжали поддерживать с ним связь, – заметил я. – Так же достоверно известно и о личной встрече Лермонтова с Чаадаевым 9 мая 1840 года на обеде у Гоголя в честь именин.
– Не думаю, что салонный успех был панацеей от одиночества, – мягко сказал Шура. – Тот же Лермонтов – он ведь едва не разделил участь Чаадаева. Да, безусловно, стихотворение на смерть Пушкина сделало его знаменитым, но оно же отвернуло от Михаила Юрьевича царя. Что характерно: Николай искренне считал любого, кто выступает с критикой в его адрес, безумцем, сумасшедшим. Он и к Лермонтову лекаря посылал, чтобы убедиться в его душевном здоровье. И только потом велел арестовать.
– То есть обличительный и гневный тон статьи Чаадаева и «Смерть поэта» Лермонтова были настолько дискомфортны русскому обществу, что оно пыталось объяснить позицию авторов следствием помешательства?
Шура грустно усмехнулся
– Конечно, сегодня, опираясь на работы Гоголя, Толстого, Достоевского говорить о пророках в русской литературе значительно легче. Но в первой половине XIX столетия для власти и общества то, что русские литераторы взяли на себя обличительную роль, действительно было шоком. Тот же Лермонтов, кажется, лишь за несколько месяцев до смерти в стихотворении «Пророк» полностью осознает трагическую судьбу поэта-гражданина, взвалившего на себя эту непосильную ношу.
– Я хотел вспомнить известное высказывание, что «нет пророка в своем отечестве», но, получается, именно пророческие произведения стали хребтом русской литературы!
– Да, безусловно, – согласился Шура. – Историк литературы Владислав Ходасевич однажды очень верно заметил: «Ни одна литература не была так пророчественна, как русская. Если не каждый русский писатель – пророк в полном смысле слова (как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский), то нечто от пророка есть в каждом, ибо пророчествен самый дух русской литературы. И вот поэтому – древний, неколебимый закон, неизбежная борьба пророка с его народом, в русской истории так часто и так явственно проявляется. Дантесы и Мартыновы сыщутся везде, да не везде у них столь обширное поле действий».