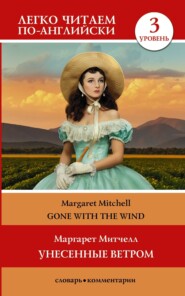По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Унесенные ветром. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А они мне не нужны. Я их не люблю. Если честно, они даже не мои.
– А чьи?
Память мгновенно вернула ее в тот спокойный жаркий полдень, в глубокую сельскую тишь «Тары» – и к мертвецу в синей форме, растянувшемуся в холле.
– Они остались у меня от… одного человека, он умер. Так что они мои, тут все в порядке. Возьмите. Я не хочу их. Я бы предпочла вместо них деньги.
– Великий Боже! – воскликнул он, потеряв терпение. – Вы что же, вообще ни о чем не можете думать, только о деньгах?
– Да, – свободно ответила она, жестко вскинув на него зеленые глаза. – И если бы вам пришлось пройти через то, что испытала я, вы бы тоже ни о чем другом не помышляли. Я обнаружила, что самая важная вещь на свете – это деньги, и перед Богом говорю: я не намерена опять остаться без них. – Она вспомнила жгучее солнце, мягкую красную землю у себя под щекой, тошнотворную вонь от негритянских хижин позади развалин «Двенадцати дубов», вспомнила, как сердце пульсировало в такт словам: «Я никогда больше не буду голодать. Я никогда больше не буду голодать». – Когда-нибудь у меня будут деньги, много денег, и я буду есть что захочу. И на моем столе никогда не будет мамалыги и вареных бобов. И у меня будет красивая одежда и все – шелковое…
– Все?
– Все, – коротко ответила она, даже не потрудившись изобразить смущение, хотя и поняла, что он подразумевает. – У меня будет вполне достаточно денег, чтобы янки никогда не смогли отнять у меня «Тару». Я настелю там новую кровлю, поставлю новую изгородь, заведу отличных мулов для пахоты, а хлопка у меня будет столько, что вы и вовек не увидите. И Уэйд не узнает, что значит жить без самого необходимого. Он не будет знать нужды ни в чем. Никогда! У него будет все на свете. И вся моя семья – никто из них больше не будет голодать. Я знаю, что говорю. Отвечаю за каждое слово. Вам этого не понять, в игре «охотники и дичь» вы всегда охотник, гончий пес. Саквояжники не пытались выгнать вас вон. Вы не мерзли, не ходили в отрепьях, и вам не нужно было горбатиться, чтобы не умереть с голоду.
Он сказал спокойно:
– Я провел восемь месяцев в армии конфедератов. Для голодной смерти более подходящего места не придумать.
– В армии! Ах! А собирать хлопок вам никогда не приходилось? А пропалывать кукурузу не пробовали? А… И не смейте ухмыляться! Что смешного во мне?!
Он опять взял ее руки в свои и заговорил жестко и хрипло:
– Я смеюсь не над вами. Меня смешит другое: насколько ваша внешность отличается от того, что вы собой представляете на самом деле. Я вспоминаю, какой я вас увидел в первый раз, на барбекю в доме Уилксов. На вас было зеленое платье и маленькие зеленые туфельки, вы по колено утопали в мужчинах и были полны собой. Бьюсь об заклад, вы тогда понятия не имели, сколько центов в долларе. Одна идея всецело владела вашим умом – как заманить в ловушку Эш…
Она резко выдернула у него свои руки:
– Ретт, если мы хотим в дальнейшем поддерживать какие-то отношения, вы должны прекратить обсуждать Эшли Уилкса. Мы всякий раз будем ссориться, потому что вы его не понимаете.
– А для вас он открытая книга, я полагаю, – ядовито протянул Ретт. – Нет, Скарлетт, если я ссужаю вам деньги, то оставляю за собой право обсуждать Эшли Уилкса с любых позиций, какие меня устроят. Я могу пренебречь правом на проценты по займу, но этим правом – нет. В этом молодом человеке есть много такого, что мне хотелось бы понять.
– Я не стану обсуждать его с вами, – сухо ответила она.
– А придется, однако! Ведь это я дергаю за веревочки, вы же видите. Настанет день, вы разбогатеете и сможете тогда проделывать то же самое с другими. Очевидно, он все еще дорог вам…
– Он мне безразличен.
– О да! Поэтому вы и ринулись так ретиво на его защиту. Вы…
– Я не допущу, чтобы издевались над моими друзьями.
– Хорошо, давайте оставим это пока. А он все еще неравнодушен к вам или Рок-Айленд заставил забыть? А может быть, он узнал и оценил наконец, что за драгоценность его жена?
При одном упоминании о Мелани Скарлетт стало трудно дышать, она еле удержалась, чтобы не выложить ему всю историю – что только честь не позволяет Эшли оставить Мелани. Она даже начала было говорить, но тут же закрыла рот.
– О! Значит, у него все еще маловато ума или чувства, чтобы оценить миссис Уилкс? И тюремные лишения не притупили его страсти к вам?
– Я не вижу необходимости обсуждать этот предмет.
– Зато я желаю его обсуждать, – сказал Ретт. В голосе его послышалась тихая, низкая нота; Скарлетт не поняла, что это значит, но уху было очень неприятно. И тем же тоном Ретт продолжал: – Клянусь Богом, я буду обсуждать этот предмет и жду, что вы ответите мне. Он все еще любит вас?
– И что, если так? – крикнула Скарлетт, доведенная до белого каления. – Я не хочу обсуждать это с вами, потому что вы не понимаете его и для вас непостижима такого рода любовь. Единственный вид любви, который вам известен, – это… в общем, это отношения, какие вы поддерживаете с существами типа этой Уотлинг!
– О, – мягко откликнулся Ретт. – То есть я способен только на плотские желания, только на похоть?
– Вы сами знаете, что это правда.
– В таком случае я считаю похвальным ваше нежелание дискутировать на эту тему со мной. Мои нечистые руки и губы оскверняют непорочность его любви.
– М-м-м… примерно так, да.
– А меня вот как раз интересует чистая любовь.
– Не будьте таким мерзким, Ретт. Если у вас хватает низости думать, что между нами было что-то дурное…
– О, подобная мысль никогда не приходила мне в голову, поверьте. Поэтому я и заинтересовался. Так все-таки: по какой именно причине между вами не было ничего дурного?
– Если вы полагаете, что Эшли стал бы…
– Ах, так, значит, это Эшли, а не вы – вот кто вел сражение за непорочность! Право, Скарлетт, вам не следовало отступаться так легко.
Скарлетт, смятенная и негодующая, буравила взглядом его невозмутимое лицо, по которому ничего нельзя было прочесть.
– Все, покончим с этим, и денег ваших я не хочу. Так что убирайтесь вон.
– О нет, вы очень даже хотите моих денег, и раз уж мы зашли с этой темой так далеко, то зачем останавливаться? Да и какой вред может принести обсуждение столь целомудренной идиллии – ведь ничего дурного меж вами не происходило. Итак, Эшли вас любит за ваш ум и душу, за высокое благородство характера?
Каждое слово было пыткой. Все верно, именно это Эшли любит в ней. И если знаешь это, то жить можно. Да, жизнь становится сносной, когда понимаешь, что Эшли, связанный честью, любит ее издали за внутреннюю красоту, за прекрасные душевные качества, видимые лишь ему одному. Но почему-то эти качества не кажутся столь уж прекрасными, будучи вытащены на свет Реттом, да еще этим его обманчиво бархатным голосом, в котором скрыт сарказм.
– Оказывается, и такая любовь может существовать в нашем отвратительном мире, – продолжал он. – Это возвращает меня к моим мальчишеским идеалам. Значит, ничего плотского нет в его любви к вам? И все было бы точно так же, если бы вы были уродливы и ваша кожа не блистала белизной? И совершенно ни при чем эти зеленые глаза, наводящие мужчину на мысль: а интересно, что она будет делать, если я прямо сейчас заключу ее в объятия? А эта походка с легким покачиванием бедер – соблазн для любого мужчины, хоть и под девяносто? А губки… Ну хорошо, я не должен навязываться тут со своей похотью. Но Эшли – разве он ничего этого не видит? Или видит – и это ничуть его не трогает?
Против воли Скарлетт вернулась в тот день, когда Эшли обнимал ее у изгороди в саду; она вспомнила, как дрожали его руки, как горячи были его губы на ее губах, и казалось, что он никогда ее от себя не отпустит. Она заалела, как маков цвет, и ее смущение не прошло незамеченным для Ретта.
– Та-ак, – протянул он, и в голосе явственно проступила вибрирующая нотка злости. – Я понимаю. Он любит вас исключительно за ваш интеллект.
Как он смеет копаться в ней своими грязными лапами, принижая и опошляя единственно прекрасное и святое, что есть у нее в жизни? Холодно и целенаправленно он крушил последнюю линию оборонительных умолчаний, и то, что он домогался узнать, неминуемо должно было открыться.
– Да, это правда! – крикнула она, пытаясь затолкать в глубины памяти поцелуи Эшли.
– Дорогая моя, да он и знать не знает, что у вас имеется ум. Если бы его привлекал ваш интеллект, то ему не было бы нужды воевать с вами, отстаивая – назовем это так – «святость» своей любви. Жил бы себе спокойно – в конце концов, мужчина может восхищаться умом и душевной красотой женщины, оставаясь при этом достопочтенным джентльменом и храня верность своей жене. Должно быть, ему трудно совместить понятие чести Уилксов с мужской тягой к вашему телу.
– Вы судите всех мерой собственной низости!
– А я никогда и не отрицал вашей для меня притягательности – если вы это подразумеваете под низостью. Но меня, слава богу, не заботят вопросы чести. Что я хочу, то и беру, если могу достать, и не противлюсь ни ангелам, ни бесам. А Эшли… Веселенький же ад вы для него устроили!
– Я? Я устроила ему ад?
– Да, вы. Вы всегда перед ним – постоянный соблазн, извечное искушение, но он, подобно большинству из его породы, предпочитает взлету любви то, что в здешних краях сходит за честь. И сдается мне, что теперь наш бедолага потерял и любовь, и честь, которая так его согревала.
– А чьи?
Память мгновенно вернула ее в тот спокойный жаркий полдень, в глубокую сельскую тишь «Тары» – и к мертвецу в синей форме, растянувшемуся в холле.
– Они остались у меня от… одного человека, он умер. Так что они мои, тут все в порядке. Возьмите. Я не хочу их. Я бы предпочла вместо них деньги.
– Великий Боже! – воскликнул он, потеряв терпение. – Вы что же, вообще ни о чем не можете думать, только о деньгах?
– Да, – свободно ответила она, жестко вскинув на него зеленые глаза. – И если бы вам пришлось пройти через то, что испытала я, вы бы тоже ни о чем другом не помышляли. Я обнаружила, что самая важная вещь на свете – это деньги, и перед Богом говорю: я не намерена опять остаться без них. – Она вспомнила жгучее солнце, мягкую красную землю у себя под щекой, тошнотворную вонь от негритянских хижин позади развалин «Двенадцати дубов», вспомнила, как сердце пульсировало в такт словам: «Я никогда больше не буду голодать. Я никогда больше не буду голодать». – Когда-нибудь у меня будут деньги, много денег, и я буду есть что захочу. И на моем столе никогда не будет мамалыги и вареных бобов. И у меня будет красивая одежда и все – шелковое…
– Все?
– Все, – коротко ответила она, даже не потрудившись изобразить смущение, хотя и поняла, что он подразумевает. – У меня будет вполне достаточно денег, чтобы янки никогда не смогли отнять у меня «Тару». Я настелю там новую кровлю, поставлю новую изгородь, заведу отличных мулов для пахоты, а хлопка у меня будет столько, что вы и вовек не увидите. И Уэйд не узнает, что значит жить без самого необходимого. Он не будет знать нужды ни в чем. Никогда! У него будет все на свете. И вся моя семья – никто из них больше не будет голодать. Я знаю, что говорю. Отвечаю за каждое слово. Вам этого не понять, в игре «охотники и дичь» вы всегда охотник, гончий пес. Саквояжники не пытались выгнать вас вон. Вы не мерзли, не ходили в отрепьях, и вам не нужно было горбатиться, чтобы не умереть с голоду.
Он сказал спокойно:
– Я провел восемь месяцев в армии конфедератов. Для голодной смерти более подходящего места не придумать.
– В армии! Ах! А собирать хлопок вам никогда не приходилось? А пропалывать кукурузу не пробовали? А… И не смейте ухмыляться! Что смешного во мне?!
Он опять взял ее руки в свои и заговорил жестко и хрипло:
– Я смеюсь не над вами. Меня смешит другое: насколько ваша внешность отличается от того, что вы собой представляете на самом деле. Я вспоминаю, какой я вас увидел в первый раз, на барбекю в доме Уилксов. На вас было зеленое платье и маленькие зеленые туфельки, вы по колено утопали в мужчинах и были полны собой. Бьюсь об заклад, вы тогда понятия не имели, сколько центов в долларе. Одна идея всецело владела вашим умом – как заманить в ловушку Эш…
Она резко выдернула у него свои руки:
– Ретт, если мы хотим в дальнейшем поддерживать какие-то отношения, вы должны прекратить обсуждать Эшли Уилкса. Мы всякий раз будем ссориться, потому что вы его не понимаете.
– А для вас он открытая книга, я полагаю, – ядовито протянул Ретт. – Нет, Скарлетт, если я ссужаю вам деньги, то оставляю за собой право обсуждать Эшли Уилкса с любых позиций, какие меня устроят. Я могу пренебречь правом на проценты по займу, но этим правом – нет. В этом молодом человеке есть много такого, что мне хотелось бы понять.
– Я не стану обсуждать его с вами, – сухо ответила она.
– А придется, однако! Ведь это я дергаю за веревочки, вы же видите. Настанет день, вы разбогатеете и сможете тогда проделывать то же самое с другими. Очевидно, он все еще дорог вам…
– Он мне безразличен.
– О да! Поэтому вы и ринулись так ретиво на его защиту. Вы…
– Я не допущу, чтобы издевались над моими друзьями.
– Хорошо, давайте оставим это пока. А он все еще неравнодушен к вам или Рок-Айленд заставил забыть? А может быть, он узнал и оценил наконец, что за драгоценность его жена?
При одном упоминании о Мелани Скарлетт стало трудно дышать, она еле удержалась, чтобы не выложить ему всю историю – что только честь не позволяет Эшли оставить Мелани. Она даже начала было говорить, но тут же закрыла рот.
– О! Значит, у него все еще маловато ума или чувства, чтобы оценить миссис Уилкс? И тюремные лишения не притупили его страсти к вам?
– Я не вижу необходимости обсуждать этот предмет.
– Зато я желаю его обсуждать, – сказал Ретт. В голосе его послышалась тихая, низкая нота; Скарлетт не поняла, что это значит, но уху было очень неприятно. И тем же тоном Ретт продолжал: – Клянусь Богом, я буду обсуждать этот предмет и жду, что вы ответите мне. Он все еще любит вас?
– И что, если так? – крикнула Скарлетт, доведенная до белого каления. – Я не хочу обсуждать это с вами, потому что вы не понимаете его и для вас непостижима такого рода любовь. Единственный вид любви, который вам известен, – это… в общем, это отношения, какие вы поддерживаете с существами типа этой Уотлинг!
– О, – мягко откликнулся Ретт. – То есть я способен только на плотские желания, только на похоть?
– Вы сами знаете, что это правда.
– В таком случае я считаю похвальным ваше нежелание дискутировать на эту тему со мной. Мои нечистые руки и губы оскверняют непорочность его любви.
– М-м-м… примерно так, да.
– А меня вот как раз интересует чистая любовь.
– Не будьте таким мерзким, Ретт. Если у вас хватает низости думать, что между нами было что-то дурное…
– О, подобная мысль никогда не приходила мне в голову, поверьте. Поэтому я и заинтересовался. Так все-таки: по какой именно причине между вами не было ничего дурного?
– Если вы полагаете, что Эшли стал бы…
– Ах, так, значит, это Эшли, а не вы – вот кто вел сражение за непорочность! Право, Скарлетт, вам не следовало отступаться так легко.
Скарлетт, смятенная и негодующая, буравила взглядом его невозмутимое лицо, по которому ничего нельзя было прочесть.
– Все, покончим с этим, и денег ваших я не хочу. Так что убирайтесь вон.
– О нет, вы очень даже хотите моих денег, и раз уж мы зашли с этой темой так далеко, то зачем останавливаться? Да и какой вред может принести обсуждение столь целомудренной идиллии – ведь ничего дурного меж вами не происходило. Итак, Эшли вас любит за ваш ум и душу, за высокое благородство характера?
Каждое слово было пыткой. Все верно, именно это Эшли любит в ней. И если знаешь это, то жить можно. Да, жизнь становится сносной, когда понимаешь, что Эшли, связанный честью, любит ее издали за внутреннюю красоту, за прекрасные душевные качества, видимые лишь ему одному. Но почему-то эти качества не кажутся столь уж прекрасными, будучи вытащены на свет Реттом, да еще этим его обманчиво бархатным голосом, в котором скрыт сарказм.
– Оказывается, и такая любовь может существовать в нашем отвратительном мире, – продолжал он. – Это возвращает меня к моим мальчишеским идеалам. Значит, ничего плотского нет в его любви к вам? И все было бы точно так же, если бы вы были уродливы и ваша кожа не блистала белизной? И совершенно ни при чем эти зеленые глаза, наводящие мужчину на мысль: а интересно, что она будет делать, если я прямо сейчас заключу ее в объятия? А эта походка с легким покачиванием бедер – соблазн для любого мужчины, хоть и под девяносто? А губки… Ну хорошо, я не должен навязываться тут со своей похотью. Но Эшли – разве он ничего этого не видит? Или видит – и это ничуть его не трогает?
Против воли Скарлетт вернулась в тот день, когда Эшли обнимал ее у изгороди в саду; она вспомнила, как дрожали его руки, как горячи были его губы на ее губах, и казалось, что он никогда ее от себя не отпустит. Она заалела, как маков цвет, и ее смущение не прошло незамеченным для Ретта.
– Та-ак, – протянул он, и в голосе явственно проступила вибрирующая нотка злости. – Я понимаю. Он любит вас исключительно за ваш интеллект.
Как он смеет копаться в ней своими грязными лапами, принижая и опошляя единственно прекрасное и святое, что есть у нее в жизни? Холодно и целенаправленно он крушил последнюю линию оборонительных умолчаний, и то, что он домогался узнать, неминуемо должно было открыться.
– Да, это правда! – крикнула она, пытаясь затолкать в глубины памяти поцелуи Эшли.
– Дорогая моя, да он и знать не знает, что у вас имеется ум. Если бы его привлекал ваш интеллект, то ему не было бы нужды воевать с вами, отстаивая – назовем это так – «святость» своей любви. Жил бы себе спокойно – в конце концов, мужчина может восхищаться умом и душевной красотой женщины, оставаясь при этом достопочтенным джентльменом и храня верность своей жене. Должно быть, ему трудно совместить понятие чести Уилксов с мужской тягой к вашему телу.
– Вы судите всех мерой собственной низости!
– А я никогда и не отрицал вашей для меня притягательности – если вы это подразумеваете под низостью. Но меня, слава богу, не заботят вопросы чести. Что я хочу, то и беру, если могу достать, и не противлюсь ни ангелам, ни бесам. А Эшли… Веселенький же ад вы для него устроили!
– Я? Я устроила ему ад?
– Да, вы. Вы всегда перед ним – постоянный соблазн, извечное искушение, но он, подобно большинству из его породы, предпочитает взлету любви то, что в здешних краях сходит за честь. И сдается мне, что теперь наш бедолага потерял и любовь, и честь, которая так его согревала.