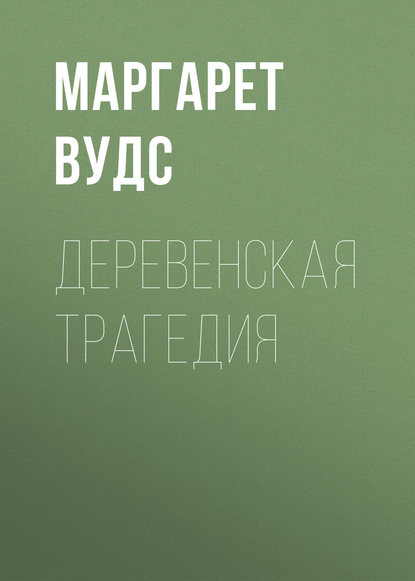По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Деревенская трагедия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Разъяренная мистрис Понтин не переставала кричать, пока Анна бежала в гору к ней на встречу. Она схватила ее за узкия, слабые плечи и начала трясти, как двухлетнего ребенка.
– Ах, ты, дрянь эдакая! ах, ты, потаскушка! – вопила она. – Вот так поведение, нечего сказать! Целуется да таскается по большим дорогам со всякою дрянью из дома призрения! Ах, ты, скверная, хитрая девчонка, – вот я тебя! Иди сейчас со мной, – и она потащила ее за собой к воротам фермы. – Так ведут себя только такие негодницы, как твоя мать, – продолжала она кричать, – а, конечно, не я и ни одна честная женщина так себя вести не станет. Один позор от неё, да и от тебя тоже… всякой порядочной семье остается только плюнуть на вас. Что же та молчишь, отродье негодное? – и она снова тряхнула ее.
Но Анна ничего не отвечала. Ярость тетки только вызвала в ней то привычное пассивное сопротивление, с которым она раньше встречала брань матери, причем она, как зверок, пряталась в свою скорлупу. В оправдание мистрис Понтин надо заметить, что, несмотря на её постоянную раздражительность, никогда еще молодая девушка не видела ее в таком бешенстве. Кроме смертельного отвращения, которое она питала к такого рода проступкам юности, приходилось еще приписать многое томительным часам, проведенным ею с больною коровой, которые тяжело отозвались на нервах заботливой хозяйки. С криками и бранью, как ураган, промчалась она, таща за собою свою жертву, через двор фермы, где даже свиньи, лежа на боку в виде громадных, неподвижных, синевато-багровых мешков, взглянули на них, мигая от удивления, и влетела вверх по крутой лестнице в мансарду, не переставая все время окачивать Анну самою грязною и отборною бранью.
– Сиди здесь до возвращения дяди! – крикнула тетка, швырнув ее на кровать. – Я все расскажу ему, все, все, как было, он все узнает. Боже мой! кто бы подумал, что его племянница такая бесстыдница, ходит да целуется на большой дороге? Не знаю, потерпит ли он, чтобы ты жила после этого у него в доме!
Анна почувствовала себя задетой и не могла больше молчать.
– Я и не останусь, если ему не хочется, – с гордостью отвечала она. – Я могу идти в услужение, как и другие девушки.
– Скажите на милость! – фуркнула ей тетушка в ответ. – Да кто тебя возьмет, неуклюжее отродье, потерявшее всякий стыд? Если ты думаешь, что я буду тебя рекомендовать, так очень ошибаешься, – на меня не рассчитывай! – Затем последовал длинный перечень всех действительных и предполагаемых недостатков Анны, в конце которого тетка объявила ей: – Так вот и сиди здесь, пока дядя не вернется. Ужина не жди, – не получишь.
Она затем вылетела из комнаты таким же вихрем, каким вошла, повернула ключ в замке и, тяжело ступая, спустилась с лестницы.
Долго лежала Анна на постели, уткнув лицо в подушку, и долго мочила она ее слезами. Выплакавшись, девушка села на кровать. Комната была совсем темна, а в доме полная тишина. Ни единого звука кругом, только ветер завывал и дождик шумел по листьям вязов, стоящих перед домом. Анна встала, обмыла лицо и закрыла окошко; затем, дрожа от холода, она начала раздеваться, испытывая тошноту, которую не знала чему приписать, голоду ли, или чему другому. Она только успела снять с себя башмаки и чулки, как вдруг на крутой лесенке, ведущей в её мансарду, послышался странный шум, точно что-то очень тяжелое пыталось взбежать вверх по ступенькам и, спотыкаясь в темноте, свалилось вниз, пыхтя, со стонами и проклятиями. Анна вся похолодела. Она вспомнила, как однажды в Лондоне одна из жилиц подняла на лестнице такой же шум, как дверь их комнаты с треском отворилась и женщина с сжатыми кулаками, распухшим лицом и с пеной у искривленного рта покатилась на пол к ним в комнату. В ту же минуту она вообразила, что у тетушки тоже начинается припадок и что она добирается до неё. Что ей было делать? Она бросилась искать спички в темноте, но спичек не было, и ей ничего не оставалось делать, как стоять и ждать, пока чья-то дрожащая рука ощупывала снаружи дверь, сразу не находя ключа и ручки, наконец, повернув ключ, дернула за ручку двери.
Анна даже почувствовала что-то вроде облегчения, когда в комнату скорее ввалилась, чем вошла, мистрис Понтин и тяжело опустилась на низкий деревянный ящик, стоявший у двери. В её руках был фонарь; она поставила его на пол так, что её лицо ярко осветилось снизу. При таком освещении всякое лицо производит странное впечатление, так как все тени, поднимаясь кверху, искажают черты лица; лицу мистрис Понтин это придало безобразный и страшный вид. Все оно было темно-красного цвета и распухло, надутые жилы выпячивались на лбу и на шее, двойной подбородок и большие синия губы тряслись; она с трудом дышала и захлебывалась, пытаясь что-то сказать. Не долго думая, Анна окунула губку в холодную воду и подбежала с ней к тетке, намереваясь приложить ей губку ко лбу, но в то же мгновение губка была вырвана из её рук и, прежде чем молодая девушка успела опомниться, тонкия кисти её рук попали в могучие тиски мистрис Понтин и она была отброшена, с ревом и силой дикого зверя, к противуположной стене комнаты; вслед за ней около самой её головы о ту же стену шлепнулась и мокрая губка, а оттуда на пол, образуя вокруг себя небольшую лужу воды. Мистрис Понтин сидела, яростно поводя и сверкая маленькими глазками, раскрасневшимися как у разъяренного животного; она вся дрожала и, казалось, от бешенства все волосы у неё стали дыбом, как щетина.
– Господи, что с вами, тетя? – закричала Анна.
Два или три раза мистрис Понтин судорожно открывала рот, пытаясь заговорить, но губы её отказывались произносить членораздельные звуки. Тогда, сделав страшное усилие над собой, она тяжело приподнялась с низкого ящика и, направляясь прямо в Анне, стоявшей у стены, подошла так близко, что лицо девочки почти касалось её собственного лица. Тяжело придавив рукой плечо Анны, тетка проговорила хриплым шепотом:;
– Ах, ты, дьявол!
Несмотря на ужас, овладевший Анной, она успела подметить, что от тетки пахло водкой, и была этим тем более поражена, что мистрис Понтин была совершенно трезвая женщина, вполне удовлетворявшаяся двумя стаканами пива в день. Вслед за хриплым возгласом последовало молчание; тут Анна успела совершенно ясно представить себе страшную пустоту дома, в котором не было ни одной живой души, кроме них двух, а также и отдаленность его от всяких соседей. При этой мысли она еще больше испугалась.
– Да что такое случилось? – удалось ей опять спросить тоже шепотом.
Способность говорить тем временем мало-помалу возвращалась к мистрис Понтин.
– Где мои индейки? – проговорила она, хотя все еще хриплым голосом, но уже громче прежнего.
– Какие индейки? – спросила Анна, не понимая.
– Какие индейки? такие – громко и резко крикнула мистрис Понтин. – Ах, ты, негодная! смеешь еще хитрить и делать вид, что не знаешь, каких индеек тебе приказано было запереть в хлев!
– Я заперла молодой выводок, – сказала Анна.
– Заперла, ты говоришь, заперла?… Га, га! только того недоставало, га, га!.. – и тут мистрис Понтин разразилась сумасшедшим, истерическим хохотом. Затем, впадая снова в злобную ярость, она схватила руку девушки у самого плеча своими короткими пальцами и ущипнула ее изо всех сил.
– Ты отъявленная лгунья, вот что! – проревела она, приходя в еще большую ярость, быть может, потому, что жертва её не закричала от боли.
Схватив после этого фонарь, она потащила Анну к двери.
– Дайте мне хоть надеть башмаки, тетя, – просила Анна с тем внешним спокойствием, которое так часто скрывало испытываемый внутренний ужас, – мои ноги не обуты.
– Хотя бы ты была совершенно голая и тогда не дала бы я тебе ни одной минуты оставаться здесь! – с бешенством крикнула тетка, и потащила ее, шатаясь, по крутой лестнице. Им пришлось пройти через птичий двор, чтобы достигнуть фруктового сада. Анна чувствовала, как во дворе гравий резал и царапал ей голые ноги, а в саду их мочила мокрая и холодная трава. Небо было покрыто тучами, но не сплошь, так что на нем еще отражалось то серое, рассеянное мерцание света, которое бывает в летнюю ночь именно в Англии. Подойдя к свиному хлеву, они и без помощи фонаря увидели, что дверь его была широко раскрыта. Тетка выпустила Анну и молча, с трагическим жестом, указала на нее; после чего, не то со стоном, не то с воплем, она уперлась головой в открытые ворота и разразилась неудержимыми рыданиями, которые трясли и раскачивали во все стороны её громадное туловище.
– Такого большего выводка никогда не бывало у меня, – жалобно голосила она, – и это последний на нынешний год, другого уже не будет… а теперь лисица их всех до одного заберет.
– Ах, нет, тетя! – сказала Анна, – я не знаю, каким образом они вышли из хлева, но лисица не могла еще всех их передавить; они забились куда-нибудь в фруктовом саду.
Мистрис Понтин при этих словах забыла свои жалобы и снова перешла в неистовство.
– И почему бы им забиваться в фруктовом саду, я бы хотела знать, – завизжала она, – когда они все до единого могли свободно пройти в гороховое поле? Если уж тебя так хотелось бежать к любезному, так, по крайней мере, ты бы могла не оставлять ворот отворенными.
– Я ворот даже не отворяла, – отвечала Анна, – я перелезла через них, а сначала заперла дверь хлева.
– Не смей врать! – крикнула мистрис Понтин и, схватив длинный прут, оставленный Анной у хлева, хлестнула им по ней.
– Тетушка, тетушка! – взмолилась девушка, кусая себе губы от боли, – не делайте этого, прошу вас. Уверяю вас, я заперла индюшек в хлев и, право, не отпирала ворот, уверяю вас. Не знаю, кто мог выпустить их, разве только Альберт. Вечером он был тут и напугал индеек, а я ударила его.
– В самом деле? Как бы не так! – и снова тетка опять стегнула ее прутом по спине. – Я тебя проучу, если ты будешь мучить несчастного мальчика, да взваливать затем все свои проказы на него, беднягу! Я бы, кажется, содрала с тебя кожу, если бы могла!
Она опять стегнула ее прутом, еще раз и еще, до тех пор, пока из стиснутых и побледневших губ девушки не вырвался крик. Тогда, как бы удовлетворенная, мистрис Понтин бросила прут и потащила Анну за собой в ворота, которые, действительно, были раскрыты, и начала безумно метаться во все стороны по широкому, отлогому гороховому полю и поисках за потерянным выводком.
– И корова пала, и индейки пропали, – все это хоть кого с ног собьет, – стонала тетушка. Она вытащила новую свечу из кармана, зажгла и вставила ее дрожащими руками в фонарь. – Ты выпустила индеек, ты и искать их должна. Если ты их не найдешь, так и оставайся с ними всю ночь в поле. Без них не возвращайся домой, если не хочешь, чтобы я тебе переломала все ребра.
Говоря это, она сунула фонарь в руку Анны, толкнула ее еще раз на прощанье и исчезла во мраке. Серая, прозрачная пелена кругом начинала сгущаться; тяжелая и низкая туча надвигалась с отдаленного горизонта, который тоже в свою очередь окунулся в мрачную, непроглядную тьму. Одни только тяжело листные вязы, темнее самой ночи, обрисовывались еще над изгородями, шепча и раскачиваясь от налетавших по временам порывов ветра и дождя. В отблеске фонаря, неотступно следующем за Анной, было что-то зловещее; благодаря ему, иногда от неё тянулась дрожащая, причудливая тень по крутым изворотам и колеям дороги, но большею частью им освещалось поле, на котором в июне еще горох цвел красивыми рядами, а теперь стоял голый, высохший и черный, в виде целой армии ободранных скелетов.
В первую минуту для Анны было уже облегчением то, что она освободилась от мистрис Понтин, и она с жаром начала было искать потерянный выводок, но постепенно её старания начали, ослабевать и превратились вскоре в машинальную ходьбу. Мало-помалу девушку начал охватывать чисто-детский ужас перед безграничною ночною темнотой, среди которой, за исключением её самой, не видно было ни одной человеческой души, перед слабыми таинственными звуками в виде вздохов, долетавшими до неё от далекой невидимой равнины, перед резким, необъяснимым шуршаньем и треском, раздающимся вокруг неё в листве и в траве, но в особенности страшилась она ярко-белого светового пятна, окруженного черною движущеюся каймой ночного мрака, которое следовало за ней всюду, куда бы она ни шла. Больно было и голым ногам, и всему телу. Мелкий дождь покрапывал по временам; наконец, с равнины принесло ветром сильный ливень; тогда Анна подползла под терновый куст у самой изгороди и попыталась закрыть фонарь, чтобы освободиться от преследующего ее отсвета, но её усилия были тщетны, так как фонарь оказался испорченным. Спрятав тогда лицо между коленями, она решила об этом не думать и направить мысли на другой предмет.
IV
Анна чувствовала себя в страшном одиночестве не только в поле, но и в целом мире. Все, что произошло с того утра, когда она говорила с дядей насчет Джеса, вспомнилось ей с удивительною отчетливостью, теперь ей казалось, будто она опять все это переживает. Припоминая позорные, несправедливые слова и жестокие удары, она чувствовала теперь их оскорбительность больнее, чем тогда, когда переносила их в действительности; и тело, и душа её страдали от причиненных им ран, ей было и холодно, и больно, и никого не было, кто бы мог придти к ней на помощь. Весь ход жизни на ферме был Анне слишком хорошо известен, чтобы она могла надеяться на поддержку со стороны дяди против тетки, к тому же, Анна была слишком молода и неопытна для того, чтобы взвесить, сколько было преувеличенного в сильных выражениях тетки. Жизнь представлялась ей бесконечно-тяжелой впереди и лишенной всякой радости. Никого не было у неё, кого бы она могла любить, ее тоже никто не любил, за исключением бедного Джеса, а быть его другом ей помешают. Зачем, ах, зачем умер её отец? Он умер и лежал глубоко под землей, вдали от неё, и не мог слышать её, как бы громко она ни звала его; она, все-таки, не могла удержаться и громко позвала: «Отец! отец!» Звук её собственного голоса испугал ее; Анну внезапно охватило другое, противуположное течение чувств, и она даже присела от страха, еще крепче закрыв глаза обеими руками. В эту минуту ей в голову пришла отчетливая и страшная мысль, что если она оглянется, то увидит отца, одетого как в гробу и сидящего около неё в узком белом просвете фонаря. Ей казалось одинаково невозможным оставаться на том месте, невозможным и двинуться с него, но терпеть долее такую муку, во всяком случае, она не могла. Бежать куда-нибудь надо было и, при своем паническом страхе, она могла придумать только одно место, могла вспомнить об одном только человеке. Сделав страшное усилие над собой, она вскочила на ноги, схватила фонарь и побежала, чувствуя, как воображаемые преследователи хватали ее сзади и как сердце её отчаянно билось. Мигом перелезла она через ворота и пробралась через дорогу в поле, прилегающее к господскому дому. В самом воздухе было тут уже что-то успокоивающее и ободряющее для неё, даже в громком фырканье старого белого пони чувствовалось что-то родное. Первым движением её было пробраться прямо к двери Джеса и позвать его; но, подойдя поближе к восьмиугольному домику, она остановилась: действительность со всею её суровою реальностью предстала вновь перед ней и она вспомнила, какое объяснение дадут её поступку, конечно, не Джес, а всякий другой, кто узнает о нем. В той среде, в которой она жила, молодая девушка не может оставаться в неведении зла. Впрочем, среди темноты и уединения окружающей её ночи, представлялось мало вероятности, чтобы это сделалось известным. Вдобавок ко всему этому, в Анне проявлялась иногда странная черта какой-то беспечности и равнодушие к последствиям, которая, казалось, ничего общего не имела с основными свойствами её характера, как будто частица бессердечной беззаботности Селины перешла к ней вместе с более скромною, серьезною и любящею натурой отца. «Не все ли равно, – думалось ей, – как я буду жить, хорошо или дурно, если меня незаслуженно уже теперь позорят самою грязною бранью?» Тут она бросила горсть песку в окно, а большим камнем начала стучать в дверь. Джес услыхал шум, открыл окно и высунул голову, чтобы узнать, кто стучался.
– Это я… Анна, – сказал чей-то голос тихо, но для него вполне явственно.
Послышалось восклицание, чирканье спички, затем настала тишина, пока Джес набрасывал на себя необходимые одежды, и, наконец, он спустился со свечой в руках и отпер дверь. Его лицо выразило самое непритворное удивление, даже без примеси какой бы то ни было радости, когда он увидел Анну.
– Что такое, пожар у вас в доме? – спросил он, не будучи в состоянии придумать другой, соответствующей необычайным обстоятельствам, причины.
– Нет, нет… но… Ах, Джес! она меня выгнала из дому, да, выгнала… – Говоря это, Анна прислонилась головой к каменному косяку двери и залилась слезами.
Джес поставил свечку на кирпичный пол и ввел девушку в нижнюю комнату, в которой ничего не было, кроме мешков и старой сбруи. Положив голову на плечо Джеса, она, рыдая, несвязными словами рассказала ему все, что случилось. Не в его характере было выражать свои чувства бранью, но даже он не выдержал и сказал, что мистрис Понтин «хуже всякого животнаго».
– Посмотри, Анна, ты совсем промокла и продрогла, – сказал он, ощупывая её платье и руки.
Действительно, на ней не было сухой нитки. Напряжение нервов стало ослабевать, а физическая боль начала брать верх и настойчиво напоминать о себе.
– Здесь, внизу, нет камина, ничего нет, – продолжал он, – а у меня наверху заготовлены дрова в камине и все, что нужно для утреннего чая, – я все с вечера приготовил. Зайди ко мне, Анна, просушись немного, а я тем временем приготовлю тебе чашку чая.
На одно мгновение она задумалась.
– Зайди, Анна, – настаивал он и прибавил с укоризной: – Неужели ты не веришь мне и можешь думать что-нибудь дурное про меня?
– О, нет, я думаю не о тебе, – отвечала она, – а что скажут другие? Впрочем, внизу ли я буду, наверху ли, не все ли равно?