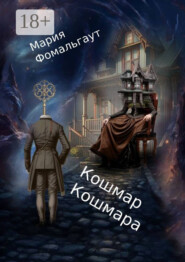По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шедевремя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
…а можно не сожжение, что угодно, только не сожжение, ну пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, ну пусть будет хотя бы снос, или нет, снос тоже не надо, или пусть меня просто оставят, буду тихонько ветшать, а там, может, кто-нибудь еще забредет в мои залы, и еще чьи-нибудь белые кости будут лежать в подвале…
Они подходят, их четверо, почему я не вижу в их руках факелы, или сейчас это делается как-то иначе, они останавливаются даже не на крыльце, а возле крыльца, боятся войти…
– Ну что… выбор у вас небольшой…
Меня коробит, оказывается, у меня еще есть выбор, сгореть дотла или взлететь на воздух…
– …или вас ликвидируют, или… есть одно дело… одно путешествие…
– Где вы видели, чтобы дома отправлялись в путешествия?
– Не беспокойтесь, мы вас отправим.
– …и я, конечно же, уже не вернусь живым.
– Ну, это как повезет…
Найти здесь хоть что-нибудь – в этой мертвой безжизненной пустыни, где нет даже дыхания смерти, потому что нет воздуха, в пустыне, где я даже самого себя не могу назвать единственным живым существом, потому что я уже не живой. Идти в пустоту, поглядывая на мираж дома, отступать, когда мне начинает казаться, что призрачный дом приближается.
Это было каких-то полчаса назад, если здесь вообще можно говорить о времени.
А сейчас…
…в голове вертится только одна-единственная фраза, выученная где-то когда-то – о поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями…
Мертвыми костями…
Их здесь десятки, сотни, тысячи, истлевшие скелеты, которые когда-то были людьми – мужчины, женщины, содрогаюсь, когда вижу останки детей. Что случилось, спрашиваю я у мертвых, от кого вы так бежали, кто вас убил, – мертвые не отвечают, и странно, что я, мертвый, не могу говорить с мертвыми, что-то здесь не так…
Подбираю клочок бумаги, долго не могу разобрать знаки, уже готовлюсь сказать самому себе, что это вообще какие-то инопланетные записи, не меньше, когда в голове что-то торкает – болгарский, нет, не то, больше на русский похоже. Выжимаю из памяти никудышные познания языка Пушкина и Достоевского, кое-как пытаюсь разобрать:
…знак, который повторяется чаще всего – знак принадлежности чего-то кому-то, – мой, свой…
…знак отрезка времени, потерянного во времени – вопрос когда.
…знак отрезка времени, у которого известно, что в начале и что в конце, но неизвестно, что в середине – вопрос – как, каким образом…
Киваю кому-то никому, ага, все очень понятно, понятнее некуда. Оглядываю равнину, смотрю на песок, когда-то сожженный раскаленным солнцем, ну не солнцем, ну не знаю я, что там должно светиться в этом небе, – начинаю понимать, вернее, ничего не понимать, потому что от солнца (или что там) бесконечно далеко, и траектория планеты ну уж никак не позволит ей приблизиться к звезде так сильно, чтобы сжечь дотла тысячи и тысячи людей в городе, который умер, не успев появиться…
Светает.
Черт меня дери, светает, я и не знал, что на этой стороне планеты может светать, проклятая планета, вращается как хочет, поворачивается как хочет и куда хочет, сама не знает, чего хочет, а нет, знаю, хочет убить меня, вот что.
Кажется, эта линия называется терминатором, линия темноты и света там, где нет атмосферы, линия, неумолимо ползущая на меня, чтобы испепелить меня дочиста, расплавить, как кусочек льда, с содроганием представляю себе, как истлевшие куски плоти отваливаются с моего костяка… Бегу – со всех ног, изо всех сил, здесь надо задыхаться от стремительного бега, только мне уже не нужно дышать. Интересно, как я вообще двигаюсь, или лучше об этом не думать, иначе мое тело спохватится, что оно больше не живое, свалится замертво. Что-то блестящее, звенящее выскальзывает из кармана, – какого черта я поворачиваюсь, какого черта я отчаянно нашариваю что-то в песке, нет, это не мой ключ, у меня не было никакого… стоп, как не было, был, еще как был, в кармане, вот он и есть, а теперь хватай, и скорей-скорей-скорей прочь от палящего солнца…
…понимаю, что остается только одно, бегу к дому – со всех ног, прошу кого-то непонятно кого, чтобы дом не уничтожил меня, ну хотя бы не сразу, а еще лучше совсем никогда, и вообще, может, он только живых убивает, а мертвых не трогает, ну мало ли, потому что… потому что как вообще можно убить мертвого, в самом-то деле…
Толкаю дверь, черт, заперто, ну еще бы оно было не заперто, не сразу вспоминаю про ключ в кармане, кусочки мозаики встают на свои места, открываю дверь – ключ поддается удивительно легко – вхожу в темноту холла, лампы, замаскировавшиеся под свечи, включаются сами собой. Оглядываюсь, где бы спрятаться, как будто в доме можно спрятаться от дома, демонстративно сажусь в кресло в маленькой нише с камином, экран камина оживает, играют языки пламени…
– Ну, наконец-то вы пришли…
Оглядываюсь, ищу того, кто мог это сказать, не нахожу, не сразу понимаю, что говорит сам дом, а ведь верно, дом…
Догадываюсь:
– Вы… вас тоже отправили сюда?
– Как видите.
Хочу спросить, – за что, не спрашиваю, и так все понятно. Вместо этого вертится на языке совсем другой вопрос, но настолько невежливый…
– …а вас сюда за что? – спрашивает дом.
Вздрагиваю.
– …вы поджигали дома, не так ли? – не выдерживает дом, – и сколько домов вы сожгли?
Меня передергивает:
– Уважаемый дом, я же не спрашиваю, скольких людей вы убили?
– Одного, – отвечает дом удивительно спокойно.
– Да, и как вы объясните нагромождение скелетов в подвале?
Дом отвечает удивительно спокойно:
– Я убил одного.
Не знаю, сколько бы мы еще так пререкались, и чем бы все это кончилось, если бы не…
…бежим со всех ног, как будто у дома могут быть ноги, спотыкаемся о самих себя, падаем, когда начинает дрожать земля, – что-то происходит там, за горизонтом, как будто планета беспокойно ворочается, оживает, – что-то темное, исполинское тянется из земли, пустыня превращается в огромный землеворот, готовый затянуть нас куда-то в бездны…
…не сразу понимаю, что все кончилось, по крайней мере, ненадолго – планета успокаивается, остаемся наедине с домом, домом-убийцей, интересно, сколько останков у него в подвале… Только теперь начинаю понимать, почему меня отправили сюда, меня, поджигателя домов, – чтобы я спалил дотла еще один дом, дом-убийцу, знать бы еще, как это сделать в мире, где нет воздуха, хорошенький вопрос, как взорвать дом в мире, где нет воздуха, ну существуют же какие-нибудь перекиси чего-то там и оксиды чего-нибудь, поискать в доме какой-нибудь учебник химии, который расскажет мне про хлор, фтор и бром, поискать в пустыне этот самый хлор-фтор-бром, и…
…дом все понимает, дом догадывается – еще в тот момент, когда я выискиваю на книжных полках что-нибудь по химии, – дом оживает, ощеривается колоннами, лестницы змеятся, выпускают раздвоенные языки, комнаты кувыркаются, пытаясь сбросить меня в бездны, – вр-р-ешь, не возьмешь, топорик, топорик, где этот топорик, – одним ударом рассекаю готовую упасть на меня колонну, вторым ударом разрубаю оконную раму, дом не сдается, дом атакует, чувствую, что из этой схватки победителем не выйдет ни один из нас…
Замираю, осененный внезапной догадкой, дом тоже замирает, кажется, он тоже догадался, если о таких вещах вообще можно догадаться, а ведь все сходится, как ни крути…
Еще раз смотрю на останки в подвале, на истлевшие остовы, раз за разом повторяющие обрывки моей одежды…
Усаживаюсь в кресло, слишком растерянный, чтобы что-то говорить и что-то делать, дом услужливо зажигает свет в камине, осторожно прошу его не делать этого, а то я растаю как снег по весне.
– Все еще не могу поверить… – говорю не столько дому, сколько самому себе, – я снова и снова сжигал дом, который убивает людей, а вы снова и снова убивали человека, который сжигает дома… века и века… тысячи тысяч инкарнаций…
– Я бы сказал, что инкарнация была только одна, но здесь что-то связано с замкнувшимся временем…
Киваю.