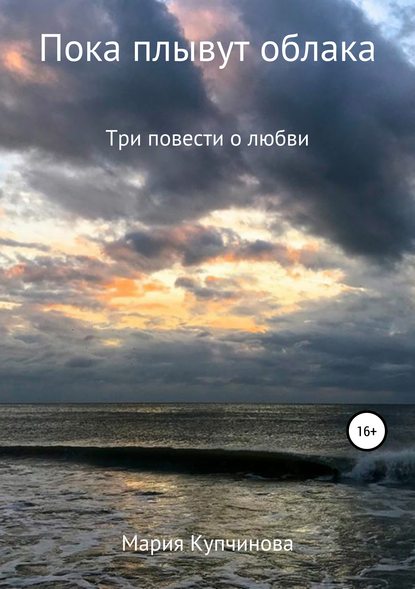По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пока плывут облака
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
У нее свои воспоминания. В них все черное. Небо, дома, улицы, руины… И главное – страх.
В самом жутком сне веселой и беззаботной девчонке, мечтавшей о театре и красивой любви, не могло присниться увиденное наяву в том сошедшем с ума девятнадцатом: рабочие, повешенные на Большой Садовой генералом Кутеповым.
Она не помнила свои сны, но просыпалась с криком, в слезах.
Муж вздыхал: «У беременных всегда – нервы».
Отец и муж убеждали: это ответ на красное насилие.
Но ей-то было страшно оттого, что они, такие милые, интеллигентные, находили слова оправдания. Она знала – это не их вина. Безжалостное время: две войны и две революции научили убивать.
Отец, прощаясь, сказал:
– Пойми, Зина, бывают времена, когда невозможно болтаться посередине проруби. Хочешь жить – приходится выбирать, к какому берегу прибиваться. Это не то же самое, что крутануть шарик и ждать: выпадет белое или красное. Жизнь, прожитая раньше, всегда перевешивает. Даже если захочешь зачеркнуть ее – в новой ты будешь чужим.
Зина понимала его правоту. Но знала и то, что за все смерти когда-нибудь придется держать ответ. На том ли свете, на этом… Было безумно страшно, что вина эта может упасть на ее маленькую дочку. Потому и пыталась отгородиться от всех: защитить, уберечь…
Замуж согласилась выйти за этого мальчика; подумала: судьбу можно обмануть.
Мальчик оказался мужчиной. Даже поверилось, что и правда, с ним – не страшно.
***
А потом началась война.
Бомбежки. Бесконечное: «Граждане! Воздушная тревога!» по радио, старательно подавляемый ради детей страх, постоянно сосущий под ложечкой, полыхающая факелом гостиница «Дон». Она с детьми в соседнем доме, и единственное, что в ее силах – только прижать их к себе и закрыть шестилетнему Руслану глаза и уши, чтобы отодвинуть этот ад.
Трупы на улицах. Невозможность осознать ту зыбкую грань, которая отделяет еще мгновение назад живого человека, со всеми его страстями, желаниями, страхами от бесчувственного слова «труп».
Страшная неделя в холодном ноябре, когда немцы первый раз взяли Ростов, и вторая оккупация, продлившаяся семь месяцев. Голод…
Оказалось, это все было не самым страшным. Горе – не вспоминается, оно живет в ней постоянно. Уже много лет.
***
– Мадам Зинаида, поверьте: мы, немцы – разные…
Французский язык обер-штаб-интенданта хорош, но акцент все-таки слышен.
– У вашей дочки большой талант. Вы сами знаете: Господь Бог дал ей голос, красоте которого позавидуют многие оперные примы. Она должна петь на сценах лучших театров мира. Но для этого надо просто выжить сегодня, в этой сумасшедшей бойне, которая когда-нибудь обязательно закончится.
Она почти не слышит, что говорит немец… Ганс… Он хочет, чтобы она называла его Гансом. Наверное, он захочет, чтобы она расплатилась за то, что сегодня он опять спас Нору. Без него – ее обязательно угнали бы в Германию.
Спиридоновна уже который раз смеется ей в глаза:
– Что, радуешься, вражья душа? Думаешь, твои пришли? Вот пусть и едет доченька твоя ненаглядная работать у них в свинарниках. Будет там свои арии распевать…
– Ваша уполномоченная по дому – истинная большевичка, – слово «большевичка» Ганс с удовольствием выговорил по-русски, – она с таким упорством включает Нору в списки тех, кто подлежит отправке на земли фатерлянда, что в конце концов добьется своего. Я завтра уезжаю во Францию и берусь доставить фройлен Нору к своему другу в Париж. Он профессор музыки. Я знаю, он сочтет за честь заниматься с вашей дочкой и подготовить ее к оперной карьере.
Этого не может быть. Они сидят в комнате с окнами, перечеркнутыми крест-накрест бумажными лентами, в пальто, перчатках и мерзнут. Утром, пока не рассвело, она ходила на набережную, к вагонам, в которых перевозили зерно. Сегодня ей повезло: сумела незаметно залезть в вагон и намести сумочку ячменя. А прошлый раз вернулась с пустыми руками: встреченный немец приказал накормить его лошадь…
О какой оперной карьере говорит этот нелепый Ганс?
Обер-штаб-интендант истолковывает удивленный взгляд фрау Зинаиды по-своему:
– Понимаю, я должен был бы взять и вас с мальчиком. Но не могу. Это будет невозможно объяснить.
– О нас речь не идет: однажды я уже сделала свой выбор, а Руслан – слишком мал для того, чтобы решать. Скажите, Ганс, зачем вам это?
Седой немец снимает очки, долго протирает стекла, наконец пожимает плечами:
– Попытаюсь спасти хоть одну душу. Может, когда-нибудь мне это зачтется.
***
Когда наступающие войска подошли к Дону, сердце Ипполита оборвалось. На правом берегу не было видно гостиницы «Дон». Совсем. Тогда первый раз ноги онемели и отказались подчиняться… Но он их заставил. По льду через Дон, стреляя, отстреливаясь, ничего не видя, не замечая, туда, к своим… В ночь на четырнадцатое февраля выпал снег, а утром сразу оттепель. Потоки воды по улицам уносили грязь и кровь…
В насквозь промокших валенках ворвался на третий этаж – от последнего авиационного налета стекла все-таки вылетели, сорвалась дверь с петель, в комнате пол засыпан обвалившейся штукатуркой, но вот она, Зиночка, вот Руслан…
Обхватила, прижалась и зарыдала. Сколько лет вместе прожито, никогда больше с ней такого не было. Она умела прятать свои чувства. Но тогда… Била его кулачками в грудь, трясла, кричала: «Где ты был так долго?» …
***
– Зиночка, ты только посмотри, какая радуга.
– Да, родной.
Ей не хочется открывать глаза, но ведь он так ждет этого. И она открывает, смотрит, даже улыбается… пусть он не беспокоится за нее: она сильная, она сможет…
3
Жаркий ветер несет в комнату сладкий аромат. Еще один летний день жизни. Зина так любит лето…
– Чувствуешь, Зиночка? Медом пахнет. Наверное, акация зацвела. Мне кажется, я отсюда вижу ее белые гроздья.
– Ты фантазер, Ипполит, – на нашей улице растет желтая акация, и то – далековато.
– Все равно… Мы с тобой счастливые, правда? Сначала ждали, когда сирень зацветет, потом черемуха, акация. Если повезет, еще и цветения липы дождемся.
Не важно, говорят они словами или взглядами. Главное – понимают друг друга.
– Да, родной, конечно…
Праздникам так никогда не радовались, как этой весной – ароматам цветущих кустов и деревьев. Впрочем, много ли их было, этих праздников? И были ли вообще?
Разве что, когда изредка ходили на концерты приезжих оперных знаменитостей в филармонию. Ирина Архипова, молоденькая Леночка Образцова…
Зиночке казалось: это поет Нора. После концертов Зина плакала, стараясь скрыть слезы, а он прижимал ее к себе, уговаривал: «Мы просто ничего не знаем, Нора жива, я верю. Ты же знаешь: она не может написать нам».