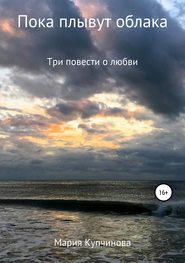По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Зов. Сборник рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты не знаешь этих людей. Разные, конечно, бывают, но есть и такие, кто дышит этими формулами, вместо воздуха… Хочешь расскажу случай из жизни? Как-то пришел ко мне домой аспирант, Миша Левцов. Сидим, работаем, а Рустама вдруг восточное гостеприимство обуяло: во чтобы то ни стало надо ему в неформальной обстановке с молодым поколением побеседовать о физике. Пришлось стол накрыть. Рустам редко пьет, но с возрастом стал быстро пьянеть. Я Мишке намекаю, что уходить пора, а Рустам его за плечи обнимает: «Ты мой гость, я тебя проводить должен, хоть до троллейбуса». Не могу же я одного мужа в таком состоянии отпустить, пришлось смиренно, как истинной восточной жене, – тут Дашка, прорвавшаяся сквозь солидность Дарьи Сергеевны, хихикнула, и Марина ее поддержала, – склонить глаза долу и сопровождать этих пьянчужек. На троллейбусной остановке, как назло, пивной ларек. Мишка сразу за пиво, ну, он молодой, ему хоть бы что, а я за Рустама испугалась: вдруг сердце прихватит, что тогда делать? На лавочке возле остановки какой-то грязный бомж развалился, даже присесть негде. Физики мои вспомнили последнее заседание Ученого совета, обсуждают представленную на защиту диссертацию, Мишка горячится: «Представляете, Рустам Ибрагимович, диссертант ссылается на формулу, в которой в знаменателе выражение к нулю сводится. Бред это все. Не может такого быть». Рустам головой кивает, а я смотрю: бомж глаза приоткрыл и время от времени на спорщиков моих внимательно поглядывает. Тут троллейбус подошел. Бомж метнулся в троллейбус, и с подножки кричит: «Ребята, вы не правы. Выражение, стремящееся к нулю, очень даже может стоять в знаменателе. Возможны разные варианты. И может быть очень интересная физическая интерпретация». Ой, Маринка, видела бы ты лица и Рустама, и Мишки… По-моему, оба сразу протрезвели. И еще около месяца потом различные варианты просчитывали. Хорошую работу сделали, опубликовали в журнале Physical Review с посвящением: «Неизвестному советчику, указавшему верное направление». Ладно, Маринка, пойдем, поздно уже.
Они уже расплатились и встали, когда к столику приблизился юноша-флейтист:
– Простите, вижу, что опоздал: слишком долго собирался с духом. Может быть… – вздохнул и замолчал.
– Смелее, молодой человек.
Музыкант смущенно пробормотал:
– Хотел сыграть для вас. Не думайте, не из-за денег…
Поднял голову, на серо-голубые глаза упала темно-русая мальчишечья челка.
– Дома нельзя заниматься: соседи говорят, мешаю. Папа, когда был жив, умел укрощать их, а у меня не получается, – застенчиво улыбнулся, – здесь, в кафе – кто-то, как вы, прислушается – и радостно становится: не зря учился…
Марина мягко улыбнулась, села сама, потянула Дашу за руку:
– Садись. Как вас звать, юноша?
– Гарик. Извините, Игорь…
– Конечно, Игорь, мы с радостью послушаем.
– А я с радостью сыграю, – он поднес флейту к губам, взглянул виновато, – простите, грустно будет. Папа говорил: флейта в любом оркестре одинока…
Тягучая мелодия флейты парила над столиками кафе, пробуждая в душах томление о безвозвратно утерянном, обещая несбывшееся, уводя за собой…
***
Дома Дарья Сергеевна долго не могла уснуть. Чтобы не будить мужа и дочек, стояла на кухне у окна, рассматривала знакомую до мелочей площадку возле дома, на которой разноцветными кляксами застыли автомобили; кроны лип, подсвеченные уличными фонарями, вглядывалась в темнеющие на противоположной стороне улицы силуэты зданий. Она давно знала наперечет те немногочисленные окна, в которых и ночью горит свет.
Мелькали огоньки проезжающих машин, по выложенному плиткой тротуару тянулись редкие полуночники. Мелькнула одинокая девичья фигурка в сарафанчике с распущенными волосами, вспомнилась протяжная мелодия, рожденная флейтой и сжалось сердце.
Заснула бывшая Дашка только под утро, когда забрезжил еще несмелыми сероватыми бликами рассвет. И будто сразу перенеслась на залитую жарким солнцем итальянскую улочку. Стены домов выкрашены в разные оттенки желтого и оранжевого, словно солнце оставило на них отпечатки своих ладоней. На окнах – коричневые ставни-жалюзи и ящики с геранью, с верхних этажей свисает старый запыленный плющ. Среди кустиков герани на втором этаже умывается кот, какая-то пичуга весело щебечет и все время пикирует на него, заигрывая и требуя внимания. Кот лениво отмахивается.
Вдали видна лестница, ведущая к церкви Сан-Лоренцо, а на фасаде одного из старинных домов висит табличка: «Via Panisperna». Из распахнутых настежь окон выглядывают милые итальянские старушки в замысловатых шляпках, доносится запах жареного лука.
– Buongiorno, синьор Майорана, – несется из окон.
Мимо проходит коренастый мужчина в темном двубортном пиджаке, широких немодных брюках и с круглыми очками на носу. Он не отвечает на приветствия старушек, только наклоняет голову, ускоряя шаг…
– Вот, всегда он такой, – судачат старушки, словно бабушки на российской завалинке, – странные эти ученые, не от мира сего.
– И не говори, – подхватывают в другом окне. – То вообще несколько лет сиднем сидел в своей квартире, никого в дом впускать не хотел. Племянница моя, Эмили, еду ему приносила, так едва дверь приоткрывал. Теперь хоть на улицу вышел, да и то молчит, слова никому не скажет.
Неожиданно мужчина разворачивается и оказывается лицом к лицу с Дарьей Сергеевной. Давно нестриженые темные волосы, густые сросшиеся брови, черные глаза, выразительность которых не скрывают даже очки с сильными диоптриями линз, толстоватый нос, пухлые губы, ямочка на подбородке… Он вздрагивает, бормочет:
– Сил больше нет. О чем с ними разговаривать, синьора профессор, скажите, о чем? Вы ведь меня понимаете?
Дарья Сергеевна неуверенно кивает.
– У меня два брата, две сестры, но их интересует только луковый суп да не пора ли мне жениться, – Этторе горько смеется. – Пусть не волнуются: их детям больше достанется. А мир… не хочу быть вершителем судеб. Единственное, что мне нужно: наконец обрести покой.
Он вздрагивает и передергивает плечами, словно холод пронзает душу.
– Проводите меня, сеньора профессор, вы ведь тоже знаете, что такое одиночество, не правда ли?
Майорана поднимается на палубу парохода. За его спиной на бухте корабельного каната сидит девчоночка в цветастом сарафанчике, рядом трепетно и пронзительно играет на флейте паренек в великоватом концертном пиджаке. Бабочка отстегнута и торчит из верхнего кармана пиджака.
И совсем уж непостижимым образом черные глаза Этторе превращаются в прячущиеся в морщинках ярко-синие, шевелюра сменяется коротко постриженным русым ежиком… Тот, кто стоит теперь на палубе, хмурится и негромко говорит:
– Не плачь, Дашка. Ничего не поделаешь, так получилось…
Перед рассветом
– Что бы мы ни писали, всегда пишем про себя. Даже если переносимся в другие времена, города или страны, в которых никогда не были. Если у наших героев другие имена, фамилии, профессии – все равно, все про себя… – старая писательница вздохнула.
– Ну, про себя, так про себя… Пусть героиня будет без имени, просто «она». А начнется рассказ так: «Она стояла у окна и смотрела на велосипедиста. В маечке, с рюкзаком за спиной он равномерно и сосредоточено крутил педали, точно планировал непременно сегодня доехать до самого края земли, начисто забыв, что Земля – круглая… Часы показывали четыре утра. Еще дремали многоэтажки через дорогу, наконец выключив свет даже в окнах полуночников, не шуршали колеса и не ревели двигатели неугомонных автомобилей, лишь этот торопыга стремился…»
– Плохая из меня писательница, – усмехнулась стоящая у окна женщина. – Кто-то другой уже давно придумал бы романтическую историю о большой и чистой любви или детектив с бандитами, догоняющими велосипедиста, а я…
Словно старый негр на саксе в приоткрытое окно подвывал ветер, вздрагивала от его порывов тоненькая рябинка… Всю ночь напролет эти двое танцевали медленный танец, почти не дотрагиваясь друг до друга. Только изредка ветер вздыхал особенно сильно, листья рябины трепетали от его прикосновений, будто вспоминая что-то давно забытое, а потом опять тянулся нескончаемый томительный блюз.
Откровенно говоря, писательницей она была средней. Несколько книг, когда-то изданных местным издательством, никого ни в чем не убедили, в первую очередь, не убедив ее саму в праве называться «писателем». Судьбой своих книг она не слишком интересовалась: изредка в букинистическом наталкивалась на них и смотрела, смущенно улыбаясь, точно на близких знакомых, оставивших ее навсегда. С годами тех, кто оставил ее, становилось все больше, и все меньше тех, кто пока оставался рядом. Впрочем, думать об этом не хотелось.
Болели ноги. Попыталась опереться на подоконник, и ладонь опустилась на что-то гладкое, круглое. Вспомнила: каштан, который принесла с прогулки. Осень для нее всегда начиналась с разбросанных под ногами блестящих коричневых зародышей будущей жизни. С трудом наклоняясь, она подбирала их, выискивая такие, чтобы одна сторона была чуть вогнутой. По впадине было хорошо проводить пальцем, придумывая разные истории. Казалось, стоит слегка прикоснуться к ней, и каштан перенесет… ну, например, в бар на небольшом греческом острове.
***
Маленький столик под тентом на деревянном помосте, за спиной – южная ночь и звезды, падающие в Ионическое море, справа на стене реклама на английском языке, обещающая «пиво, ледяное, как сердце вашей бывшей девушки»; молоденький официант приносит графин домашнего вина, на ломаном русском сообщает: «Презент барышням от папы, бонус». Две очень немолодые барышни благодарят, смеются: «Греция – страна настоящих мужчин».
Они познакомились утром на пляже. Случайно встретились глазами, услышав русскую речь, почувствовали взаимную симпатию, и до самой ночи не расставались, обсудив уже вроде все, что возможно: и как, в отличие от Черного, по-женски ласково прозрачно-бирюзовое Ионическое море, и сложившееся у обоих странное впечатление, что женщина в Греции ощущает себя именно женщиной, неотразимой, достойной того, чтобы ее любили.
– Это в нашем-то, далеко не самом молодом возрасте! – изумляется одна из них. Зачесанные назад седые волосы открывают высокий лоб, на загорелом лице смеются умные карие глаза в разбегающихся морщинках.
Собеседница, отводя с лица заброшенные ночным бризом пряди светло-русых волос, рассказывает какую-то нескончаемую историю чужой любви, а она вдруг совершенно отчетливо вспоминает свое: ямочки на его щеках, улыбку… То, как растягивались кончики его губ, ямочки превращались в трещинки, а улыбающееся лицо становилось смущенным и чуть виноватым. Подумаешь, большое дело: ямочки, улыбка, прямой чубчик русых волос, да серые глаза… Это она тогда так думала. Ей ведь казалось, что жизнь будет долгой-долгой, и впереди еще так много всего…
«Есть вещи, о которых все равно никогда не напишешь, вот, как о ладошке… – вздохнула старая писательница. – Как вообще люди умудряются писать эротическую прозу… То есть, придумать, наверное, можно, но написать о чем-то, пережитом тобой – немыслимо, все равно, что выбросить на помойку полученные любовные письма. Нет, лучше о другом…»
***
Легкое прикосновение к каштану, и в комнате звучат радостные молодые голоса: «Лизонька, душа наша!»
Вот и Лизонька, во всем цвете своих восемнадцати: облако светлых волос, широко распахнутые зеленые глаза. Лиф белого кисейного платья облегает высокую грудь, юбка спереди укорочена до щиколоток, сзади – веерная складка из косых клиньев, вставленных в шов. Лизонька церемонно приседает перед стоящими в дверях братьями, тут же заливается смехом и, подняв руки, медленно кружится, демонстрируя обновку. Широкие присборенные рукава платья превращают девичью фигуру в распускающийся бутон, веерная складка на юбке раскрывается, удлиняя силуэт, подчеркивая тонкую талию и грациозность именинницы…
Как давно это было. Елизавета Ивановна зажмуривается, стараясь вспомнить подробности. Вместо крохотного помещения, в котором с трудом помещаются буржуйка, стул да железная кровать, встает перед глазами огромный зал с высокими, от пола до потолка окнами, задрапированными недавно вошедшими в моду тюлевыми занавесями и тяжелыми малиновыми шторами. С потолка, украшенного лепниной, свисает на золоченых цепях хрустальная люстра, на стенах – барельефы на античные сюжеты, картины и зеркала. На обитой темно-малиновым бархатом кушетке стопочкой сложены подарки. Отдельно – толстый фолиант в кожаном переплете. Под одной обложкой первые два тома сочинений господина Тургенева, подарок братьев. Чуть поодаль – маленькая сафьяновая коробочка, подарок Андрея.
Андрей, ее Андрейка… Необыкновенно серьезный, он держится за спинами братьев, не сводя с Лизоньки восхищенных глаз. И она, озорно поглядывая из-под длинных ресниц, любуется его серыми глазами, легким румянцем на щеках, зачесанными на прямой пробор иссиня-черными, на зависть восточным красавицам, волосами. Отличник, получивший по результатам выпускных экзаменов первый класс, Андрей получил право после летних лагерей быть произведенным в подпоручики гвардии. А пока на нем все еще форменный мундир Михайловского артиллерийского училища: на воротнике из черного бархата и обшлагах – алая выпушка, на плечах – такого же цвета погоны с желтым вензелем великого князя Михаила Николаевича в виде буквы «М».