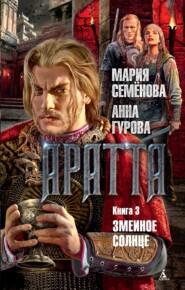По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Братья. Книга 3. Завтрашний царь. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он приблизился. Убрал руки в широкие рукава. Обвёл взглядом крепкие бородатые лица.
– Подтверждаете ли, каменотёсцы, что ответчик сказал?
Они закачались, загудели вразнобой.
– Верно ли разумею притчу печальную? – терпеливо продолжал Ознобиша. – Вас Латыня-ватажок в поле вёл, расчистке назначенное. Узрели в том поле камень-помеху…
– Так, господин правдивый райца, всё так, – пробормотал самый решительный.
– Камень безвиден был? Или как-то отмечен?
– Безвиден, господин. Грязен вельми.
– Вручая урок на работу, поминали вам о святыне?
– Ни словом, господин. Ни намёком.
– А от людей на Верхнем исаде что-нибудь слышали?
– Нет, господин. Уж какой болтовни… но всё про иное…
Дымка вроде успокоилась. Села, начала умываться. Эрелис внимательно слушал допрос. Топтама ловил взгляд Вагурки. Гайдияр прохаживался, усмехался. Светильники опять понемногу начинали подымливать, но Ознобише недосуг было за ними следить.
– А свергая сей камень, заметили вы хоть малое требище? Уголья, остатки?
– Не заметили, господин…
– На молотках о сказанном присягнёте?
Могучих каменотёсцев шатало буйными ветрами. Ознобиша изрядно дал им напужки, понудив говорить перед праведными, но присяга!.. Присяга страшна, это клятва Богам, это всё мечется в кон, и земная жизнь, и посмертная!
Хорошие ватаги недаром зовут мирскими дружинами. Где один, там и знамя! Всё тот же, самый решительный, метнул оземь шапку, смятую в кулачище. Бухнулся на колени:
– А присягнём, господин правдивый! Не спятим!
Ватага согласно шумела, опускаясь на пол за коноводом. Ознобиша поклонился мужеству трудников, потом престолу. Эрелис глядел очень спокойно, лишь бьющаяся жилка выдавала его. Там свивала гнездо боль, готовая насесть без пощады, когда спадёт напряжение.
Он неторопливо кивнул:
– Я хочу слышать твою правду, райца.
Ознобиша подавил приступ икоты.
– Слушай же, о судья и праведный государь. Этот райца нашёл, что ватага трудника Латыни, свергшая памятный камень, учинила обиду вдове Званице без умысла и разумения. Означенные ватажники свидетельствуют сие прямым словом, готовые, если нужно, возложить на алтарь свои кирочки. Впрочем, бремя их вины таково, что я не усматриваю необходимости в столь суровом дознании.
Дымка вылизывала заднюю лапку.
Взгляд Эрелиса был обманчиво рыбьим.
«Спроси меня, на котором законе или судебном случае я советую основать приговор…»
Перед Ознобишей с готовностью развернулись страницы, читанные едва ли не в Пятери, но Эрелис сказал:
– Поистине, вся эта тяжба не перевесит пера чайки, витающей над Верхним исадом. Подобные дела миряне решают между собой, не тратясь на судебную продажу. Однако и торгового приговора я не могу в полной мере назначить, ибо не вижу ответчика.
Гайдияр хотел встрять. Эрелис поднял руку. Из-под малого венца выползла капля пота.
– Я здесь вижу лишь трудников, убравших камень с дороги. Где тот, кто забыл указать им, который обломок дозволено трогать, который нет? Где тот, кто никак не отметил место славы и смерти? С кого взыщем за это? С юного сына, выросшего без отца? С вдовы, искавшей пропитания детям? Или с воинских старшин, не взявших заботы ни о живых, ни о мёртвых? Во имя ловчей сети, готовой опутать виновного и разрешить правого! Наказав камнеделов, мы уподобимся младенцу, что бросает в печь колотушку, прибившую палец. Итак, если справедливость требует кары, пусть передо мной обличат допустившего небрежение. В остальном же я могу лишь воззвать к неписаному обычаю андархов, освятив его словом писаного закона.
В знак уважения к Правде Эрелис встал с судейского кресла. Народ склонил головы.
– Вот мой приговор. Я велю Латыне с ватагой вернуть камень на место и всё ухитить как прежде, дабы любящие могли чтить память героя. Ещё велю означенному Латыне с ватажниками собрать мировой пир, где вдова Званица сидела бы хозяйкой, да на том оставить обиды.
И скрепил, как печатью, напрямую произнеся своё имя, чего люди всуе не делают:
– Я, Эрелис, сын Эдарга, так решил и так говорю.
Позоряне выслушали приговор в почтительной тишине. Потом стали шуметь – радостно, с облегчением. На сером лице Латыни проступила краска жизни, работный старшина приподнялся, заплакал, начал бормотать нечто хвалебное… так, по крайней мере, понял его сбивчивую речь Ознобиша.
Возвращаясь на своё место позади престола, он уже мысленно отодвинул разрешённое дело, готовясь сосредоточиться на новом, ещё неведомом испытании своих знаний…
Тут всё и произошло. Всё разом. В один миг, ставший бездонным.
Ледяной сквознячок, донимавший Ознобишу из-за грани обычного восприятия, вдруг стал очень вещественным. Обрёл силу вихря. Метнулось пламя над фитилями, ахнул народ, а сам Ознобиша не удержал равновесия, шагнув мимо ступеньки.
– Поговори мне тут! – зарычал Гайдияр. – Ещё недоволен?!
«Кому это он? О чём? Я…»
Вся выучка воинского пути оказалась бессильна. Ознобиша падал в чёрный, пахнущий могилой зев поруба. Падал с кляпышем во рту, связанный по рукам и ногам…
Ткнулся в Сибира.
Великан стоял как скала. Свой, надёжный, несокрушимый. Он подхватил Ознобишу рукой, отнятой от бердыша, и жуткий морок рассеялся.
Зато в уши ударил кошачий боевой клич.
«Государь!..»
Нет, с Эрелисом ничего не случилось. Царевич всего лишь удерживал Дымку, подхваченную в прыжке. Лапы с выпущенными когтями грозили… кому? Через круг от Эрелиса стоял Гайдияр, полный гнева и презрения. А между праведными, ткнувшись головой в каменный пол и нелепо выставив зад, застрял несчастный Латыня. Вот, значит, кого желал попрекнуть великий порядчик. Вовсе не шегардайского наследника и не его райцу.
Латыня стал заваливаться на бок.
Медленно… безжизненно…
– Не всякому дано раскаяние снести, – бросил Гайдияр. – Уберите, пока судебню не осквернил!
Сибир тихонько выпустил ожившего Ознобишу. Тот встал на подвысь позади судейского кресла, дыша, сглатывая, держась за гребень отслона… а потом с удивлением понял: его слабости почти никто не заметил. Люди смотрели на Дымку, на поверженного Латыню. Топтама с неприкрытым восхищением наблюдал за Площадником. Подумаешь, райца поскользнулся. Бывает.
– Подтверждаете ли, каменотёсцы, что ответчик сказал?
Они закачались, загудели вразнобой.
– Верно ли разумею притчу печальную? – терпеливо продолжал Ознобиша. – Вас Латыня-ватажок в поле вёл, расчистке назначенное. Узрели в том поле камень-помеху…
– Так, господин правдивый райца, всё так, – пробормотал самый решительный.
– Камень безвиден был? Или как-то отмечен?
– Безвиден, господин. Грязен вельми.
– Вручая урок на работу, поминали вам о святыне?
– Ни словом, господин. Ни намёком.
– А от людей на Верхнем исаде что-нибудь слышали?
– Нет, господин. Уж какой болтовни… но всё про иное…
Дымка вроде успокоилась. Села, начала умываться. Эрелис внимательно слушал допрос. Топтама ловил взгляд Вагурки. Гайдияр прохаживался, усмехался. Светильники опять понемногу начинали подымливать, но Ознобише недосуг было за ними следить.
– А свергая сей камень, заметили вы хоть малое требище? Уголья, остатки?
– Не заметили, господин…
– На молотках о сказанном присягнёте?
Могучих каменотёсцев шатало буйными ветрами. Ознобиша изрядно дал им напужки, понудив говорить перед праведными, но присяга!.. Присяга страшна, это клятва Богам, это всё мечется в кон, и земная жизнь, и посмертная!
Хорошие ватаги недаром зовут мирскими дружинами. Где один, там и знамя! Всё тот же, самый решительный, метнул оземь шапку, смятую в кулачище. Бухнулся на колени:
– А присягнём, господин правдивый! Не спятим!
Ватага согласно шумела, опускаясь на пол за коноводом. Ознобиша поклонился мужеству трудников, потом престолу. Эрелис глядел очень спокойно, лишь бьющаяся жилка выдавала его. Там свивала гнездо боль, готовая насесть без пощады, когда спадёт напряжение.
Он неторопливо кивнул:
– Я хочу слышать твою правду, райца.
Ознобиша подавил приступ икоты.
– Слушай же, о судья и праведный государь. Этот райца нашёл, что ватага трудника Латыни, свергшая памятный камень, учинила обиду вдове Званице без умысла и разумения. Означенные ватажники свидетельствуют сие прямым словом, готовые, если нужно, возложить на алтарь свои кирочки. Впрочем, бремя их вины таково, что я не усматриваю необходимости в столь суровом дознании.
Дымка вылизывала заднюю лапку.
Взгляд Эрелиса был обманчиво рыбьим.
«Спроси меня, на котором законе или судебном случае я советую основать приговор…»
Перед Ознобишей с готовностью развернулись страницы, читанные едва ли не в Пятери, но Эрелис сказал:
– Поистине, вся эта тяжба не перевесит пера чайки, витающей над Верхним исадом. Подобные дела миряне решают между собой, не тратясь на судебную продажу. Однако и торгового приговора я не могу в полной мере назначить, ибо не вижу ответчика.
Гайдияр хотел встрять. Эрелис поднял руку. Из-под малого венца выползла капля пота.
– Я здесь вижу лишь трудников, убравших камень с дороги. Где тот, кто забыл указать им, который обломок дозволено трогать, который нет? Где тот, кто никак не отметил место славы и смерти? С кого взыщем за это? С юного сына, выросшего без отца? С вдовы, искавшей пропитания детям? Или с воинских старшин, не взявших заботы ни о живых, ни о мёртвых? Во имя ловчей сети, готовой опутать виновного и разрешить правого! Наказав камнеделов, мы уподобимся младенцу, что бросает в печь колотушку, прибившую палец. Итак, если справедливость требует кары, пусть передо мной обличат допустившего небрежение. В остальном же я могу лишь воззвать к неписаному обычаю андархов, освятив его словом писаного закона.
В знак уважения к Правде Эрелис встал с судейского кресла. Народ склонил головы.
– Вот мой приговор. Я велю Латыне с ватагой вернуть камень на место и всё ухитить как прежде, дабы любящие могли чтить память героя. Ещё велю означенному Латыне с ватажниками собрать мировой пир, где вдова Званица сидела бы хозяйкой, да на том оставить обиды.
И скрепил, как печатью, напрямую произнеся своё имя, чего люди всуе не делают:
– Я, Эрелис, сын Эдарга, так решил и так говорю.
Позоряне выслушали приговор в почтительной тишине. Потом стали шуметь – радостно, с облегчением. На сером лице Латыни проступила краска жизни, работный старшина приподнялся, заплакал, начал бормотать нечто хвалебное… так, по крайней мере, понял его сбивчивую речь Ознобиша.
Возвращаясь на своё место позади престола, он уже мысленно отодвинул разрешённое дело, готовясь сосредоточиться на новом, ещё неведомом испытании своих знаний…
Тут всё и произошло. Всё разом. В один миг, ставший бездонным.
Ледяной сквознячок, донимавший Ознобишу из-за грани обычного восприятия, вдруг стал очень вещественным. Обрёл силу вихря. Метнулось пламя над фитилями, ахнул народ, а сам Ознобиша не удержал равновесия, шагнув мимо ступеньки.
– Поговори мне тут! – зарычал Гайдияр. – Ещё недоволен?!
«Кому это он? О чём? Я…»
Вся выучка воинского пути оказалась бессильна. Ознобиша падал в чёрный, пахнущий могилой зев поруба. Падал с кляпышем во рту, связанный по рукам и ногам…
Ткнулся в Сибира.
Великан стоял как скала. Свой, надёжный, несокрушимый. Он подхватил Ознобишу рукой, отнятой от бердыша, и жуткий морок рассеялся.
Зато в уши ударил кошачий боевой клич.
«Государь!..»
Нет, с Эрелисом ничего не случилось. Царевич всего лишь удерживал Дымку, подхваченную в прыжке. Лапы с выпущенными когтями грозили… кому? Через круг от Эрелиса стоял Гайдияр, полный гнева и презрения. А между праведными, ткнувшись головой в каменный пол и нелепо выставив зад, застрял несчастный Латыня. Вот, значит, кого желал попрекнуть великий порядчик. Вовсе не шегардайского наследника и не его райцу.
Латыня стал заваливаться на бок.
Медленно… безжизненно…
– Не всякому дано раскаяние снести, – бросил Гайдияр. – Уберите, пока судебню не осквернил!
Сибир тихонько выпустил ожившего Ознобишу. Тот встал на подвысь позади судейского кресла, дыша, сглатывая, держась за гребень отслона… а потом с удивлением понял: его слабости почти никто не заметил. Люди смотрели на Дымку, на поверженного Латыню. Топтама с неприкрытым восхищением наблюдал за Площадником. Подумаешь, райца поскользнулся. Бывает.