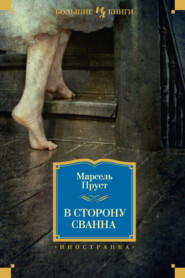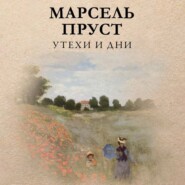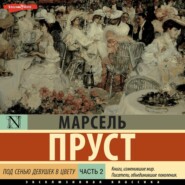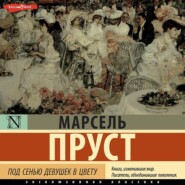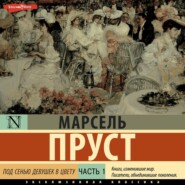По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Содом и Гоморра
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как мы помним, в день приема у принцессы Германтской, перед визитом к герцогу и герцогине, о котором я не так давно рассказывал, я долго подкарауливал их приход и, пока дожидался, сделал одно открытие, касавшееся, собственно, г-на де Шарлюса, но и само по себе такое важное, что до сих пор я не спешил о нем сообщать, откладывая это до момента, когда сумею уделить ему надлежащее место. Раньше я упоминал, что покинул свой замечательно удобный наблюдательный пункт на самом верху дома, откуда открывался великолепный вид на неровные склоны, тянувшиеся до самого особняка Брекиньи, которые совершенно по-итальянски весело осеняла розовая башенка над каретным сараем маркиза де Фрекура. Полагая, что герцог и герцогиня вот-вот вернутся, я решил, что разумнее будет устроиться на лестнице. Немного жаль было покидать мое возвышение. Но теперь, сразу после обеда, уходить оттуда было не так досадно, как раньше, ведь я бы все равно уже не увидел утренних крошечных фигурок, вписанных в картины, – фигурок, в которые превращались, если смотреть издали, слуги из особняка Брекиньи и Тремов, медленно возносившиеся по крутизне с метелками из перьев в руках между двумя широкими листами прозрачной слюды, так славно выделявшимися на фоне красных выступов в стене. Но меня интересовала не столько геология, сколько ботаника; я засмотрелся на видневшиеся между ставнями окна?, выходившего на двор, кустик герцогини и драгоценное растение, которые были выставлены на видном месте, как невесты на выданье, и гадал, не слетит ли к ним по счастливой случайности нечаянное насекомое и не опустится ли на заждавшийся и готовый принять гостя пестик. Понемногу под влиянием любопытства расхрабрившись, я спустился до окна первого этажа; оно тоже было открыто, и ставни были притворены только до половины. Я слышал явственно, как собирается на работу Жюпьен; меня он заметить не мог, потому что я притаился за шторой, но потом мне пришлось резко отпрянуть, чтобы меня не заметил г-н де Шарлюс, который медленно пересекал двор, направляясь к г-же де Вильпаризи; при свете дня он показался мне одутловатым, постаревшим и седым. Только нездоровье маркизы (настигшее ее из-за болезни маркиза де Фьербуа, с которым сам г-н де Шарлюс состоял в смертельной ссоре) и было способно подвигнуть его на визит в это время дня, быть может, впервые в жизни. Ведь одной из особенностей Германтов было то, что они не подчинялись светским правилам, а меняли их сообразно собственным привычкам, полагая, что у них-то привычки нисколько не светские, а значит, в угоду им позволительно попирать светскость как нечто, не имеющее ценности: г-жа де Марсант, например, принимала приятельниц не в какой-то определенный день, а каждое утро с десяти до полудня; барон же приберегал утренние часы для чтения, для походов по антикварным лавкам, а визиты наносил исключительно с четырех пополудни до шести. В шесть он ехал в Жокей-клуб или на прогулку в Булонский лес. Тут я еще больше попятился, чтобы меня не заметил Жюпьен; скоро ему пора было идти на службу, откуда возвращался он только к ужину, а теперь иной раз и позже, потому что неделю назад его племянница уехала со своими мастерицами за город дошивать платье заказчице. Потом я сообразил, что никто не может меня заметить, и решил больше себя не утруждать, чтобы как-нибудь не упустить – если уж этому чуду суждено свершиться – прибытия насекомого, которое, вопреки всем препятствиям, расстоянию, зловредным угрозам и опасностям, явится издалека, ниспосланное девственнице, что давно уже его поджидает. Я знал, что ее снедает то же нетерпение, что и мужчину-цветок, чьи пестики непроизвольно разворачиваются, чтобы насекомому было сподручнее на них опуститься; а женщина-цветок здесь, на окне, если прилетит насекомое, кокетливо выгнет свои «столбики» и, помогая ему поглубже в себя проникнуть, незаметно сама проделает половину работы, подобно лицемерной, но пылкой юной барышне. Есть над законами растительного царства иные, высшие законы, которые ими правят. Обычно для оплодотворения цветка необходимо появление насекомого, приносящего пыльцу, потому что самооплодотворение, оплодотворение цветка самим собой, подобно браку внутри одной и той же семьи, приводит к вырождению и бесплодию, а перекрестное опыление с помощью насекомых заряжает следующие поколения этого вида бодростью, неведомой его предкам. Но приток энергии может оказаться излишним, а развитие вида – чрезмерным; и тогда, подобно тому как антитоксин защищает от заболевания, как щитовидная железа регулирует нашу полноту, как поражение карает гордыню, а усталость – наслаждение, и подобно тому как сон в свой черед исцеляет усталость, точно так же акт самооплодотворения в исключительных случаях исправляет положение, срабатывает как тормоз и возвращает в границы нормы тот цветок, что заметно вырвался за ее пределы[4 - …прибытия насекомого… – …цветок, что заметно вырвался за ее пределы. – См. «Разум цветов» Мориса Метерлинка (1907 г.; пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, гл. XI) и особенно «Опыление орхидеи» Дарвина (фр. пер. 1870; рус. пер.: собр. соч. в 9 т., т. 6, 1950). Пруст постоянно пользовался этими книгами, работая над «Содомом и Гоморрой».]. Мои раздумья развивались все дальше в направлении, о котором я еще расскажу позже, и из кажущейся хитрости цветов я уже сделал некоторые выводы о доле бессознательного в литературном произведении, как вдруг увидел г-на де Шарлюса, выходившего от маркизы. Он пробыл у нее всего несколько минут. Вероятно, он узнал от своей старой родственницы или просто от кого-нибудь из слуг, что ей уже гораздо лучше или, вернее, что она уже вполне исцелилась от своего незначительного, в сущности, недомогания. Полагая, что никто на него не смотрит, он слегка прикрыл глаза, пряча их от солнца, и с лица его сошло напряжение, стерлась та искусственная живость, которую поддерживали возбуждение, вызванное разговором, и сила воли. Его крупный нос и тонкие черты белого, как мрамор, лица не озарялись волевым взглядом, который мог бы как-то переосмыслить их, исказить их прекрасную лепку; он был сейчас просто Германтом, словно уже превратился в статую Паламеда XV в комбрейской часовне. Но на лице г-на де Шарлюса эти общие для всей семьи черты были отмечены бо?льшим изяществом, большей одухотворенностью, а главное, большей нежностью. Мне было обидно за него, – обидно, что он вечно выставляет напоказ несвойственные ему жестокость, неприятные странности, злоязычие, черствость, обидчивость, высокомерие и прячет под наигранной грубостью ту доброту, то дружелюбие, которые так простодушно проступили у него на лице в тот миг, когда он выходил от г-жи де Вильпаризи. Щурясь на солнце, он чуть не улыбался, его лицо приобрело какое-то спокойное, естественное выражение и показалось мне таким добродушным, беззащитным, что я невольно представил, как бы рассвирепел г-н де Шарлюс, если бы знал, что на него смотрят, потому что внезапно чертами лица, мимолетным выражением, улыбкой этот человек, безмерно влюбленный в мужественность, беспредельно гордившийся тем, какой сам он мужественный, человек, которому все подряд казались отвратительно женоподобными, напомнил мне женщину.
Я как раз собрался еще раз переменить положение, чтобы он меня не заметил, мне это было ни к чему, да и некогда. И что же я увидел! Барон внезапно широко открыл глаза и с невероятным вниманием смотрел на Жюпьена – они раньше никогда не встречались и теперь впервые столкнулись лицом к лицу, ведь г-н де Шарлюс приходил в особняк Германтов только в послеобеденные часы, когда бывший жилетник был в конторе – а тот замер на пороге своей мастерской, не в силах двинуться с места, словно пустил корни, подобно растению, и с восхищением загляделся на брюшко стареющего барона. То, что произошло дальше, было еще поразительней: г-н де Шарлюс шевельнулся – и Жюпьен, словно повинуясь законам некоего тайного искусства, тоже шевельнулся и принял позу, гармонировавшую с новой позой барона. Теперь г-н де Шарлюс пытался скрыть впечатление, которое произвела на него встреча, и притворялся равнодушным, но по его походке, движениям, взгляду, устремленному вдаль, по тому, как старательно он придавал своим прекрасным глазам чарующее выражение, напускал на себя самодовольный, небрежный, нелепый вид, заметно было, что уходить ему не хочется. А Жюпьен, всегда, сколько я его знал, такой смиренный и добродушный, теперь немедленно и совершенно симметрично барону вскинул голову, приосанился, подбоченился с гротескно нахальным видом, выпятил зад, и все это с кокетством орхидеи, чающей приближения шмеля. Я и не знал, что он может выглядеть так неприятно. Однако я не знал за ним и способности без всякой подготовки так сыграть свою роль в этой немой сцене: она казалась прекрасно отрепетированной, даром что он впервые столкнулся с г-ном де Шарлюсом; такое инстинктивное совершенство дается человеку, повстречавшему в чужой стране земляка, с которым при первом знакомстве понимаешь друг друга с полуслова и выражаешь свои мысли одинаково.
Причем в этой сцене не было ничего особенно смешного, скорее в ней проглядывало, если угодно, нечто странное и все явственней проступала какая-то изначальная красота. Г-н де Шарлюс рассеянно, с притворным равнодушием опускал веки, но тут же глаза его широко раскрывались и метали на Жюпьена внимательный взгляд. Вероятно, он чувствовал, что именно в этом месте подобную сцену нельзя затягивать – не то по причинам, о которых будет сказано позже, не то из ощущения быстротечности всего на свете, из-за которого мы заботимся о том, чтобы каждый удар попадал в цель, и умиляемся при виде чужой любви; так или иначе, казалось, что, взглядывая на Жюпьена, г-н де Шарлюс всякий раз что-то говорит, поэтому его взгляды отличались от того, как мы обычно смотрим на знакомых или незнакомых; он вглядывался в Жюпьена пристально, будто вот-вот произнесет: «Простите ради бога, но у вас к спине пристала длинная белая нитка», или «По-моему, я не ошибся, вы ведь тоже из Цюриха, мне сдается, я часто встречал вас у одного антиквара». Глаза г-на де Шарлюса поминутно допытывались о чем-то у Жюпьена, и это напоминало бесконечно повторяющиеся через равный промежуток времени вопросительные фразы у Бетховена, всякий раз превосходно подготовленные и предвещающие новую тему, или переход в другую тональность, или вступление другого инструмента. Но источником красоты, сквозившей во взглядах г-на де Шарлюса и Жюпьена, было, напротив, то, что эти взгляды, казалось, ни к чему не вели, во всяком случае теперь. Я впервые заметил в бароне и Жюпьене эту красоту. Глаза у обоих озарились светом небес – но не тех небес, что над Цюрихом, а тех, что раскинулись над каким-то восточным городом, и я еще не догадывался, что это за город. Каков бы ни был общий интерес, привлекавший и г-на де Шарлюса, и жилетника, они уже, казалось, заключили соглашение, а взгляды, которыми они теперь обменивались, – это были ритуальные прелюдии, сами по себе не нужные, что-то вроде торжественных приемов, предшествующих свадьбе, когда она уже назначена. Если же мы прибегнем к сравнениям, которые еще ближе к природе (ведь разнообразие этих сравнений вполне оправдано уже тем, что один и тот же человек, если смотреть на него несколько минут подряд, представляется наблюдателю то человеком, то человеком-птицей, то человеком-насекомым), то с этой точки зрения они были похожи на двух птиц, самца и самочку, причем самец стремился вперед, а самочка – Жюпьен – никак не откликалась на его уловки и смотрела на нового друга без удивления, с пристальным вниманием, которое, наверно, представлялось ей более волнующим и единственно полезным, пока самец делает первые шаги, и лишь приглаживала себе перья клювом. Наконец Жюпьену стало мало казаться равнодушным; теперь всего один шаг отделял его от уверенности, что барон загорелся и готов устремиться за ним вдогонку; он решился идти в свою контору и вышел из ворот. Но прежде чем выскользнуть на улицу, он два или три раза оглянулся, и барон, трепеща от страха потерять его из виду (но все же беспечно насвистывая и не забыв бросить «до свидания» полупьяному швейцару, который принимал гостей у себя в комнатушке за кухней и даже его не услышал), проворно бросился вслед за ним. В тот момент, когда г-н де Шарлюс выходил из ворот, бурча себе под нос наподобие шмеля, во двор влетел другой шмель, настоящий. Кто знает, быть может, именно его, этого нового пришельца, заждалась орхидея на окне, быть может, именно он принес ей драгоценную пыльцу, без которой она будет прозябать нетронутой? Но я отвлекся от наблюдений за кружением насекомого, потому что переключил внимание на Жюпьена, которого, по-видимому, так взволновало появление г-на де Шарлюса, что он оставил дома пакет, который хотел взять с собой (хотя, возможно, пакет был забыт по более простой причине), и теперь вернулся его забрать, а вслед за Жюпьеном вернулся барон. Г-н де Шарлюс, решившись форсировать события, попросил у жилетника огонька, но тут же добавил: «Я попросил у вас огонька, но оказывается, я забыл дома сигары». Законы гостеприимства одержали верх над правилами кокетства: «Входите, я дам вам все необходимое», – произнес жилетник, и презрение на его лице сменилось радостью. Дверь мастерской затворилась за ними, и больше я ничего не услышал. Шмеля я потерял из виду и не знал, то? ли это насекомое, которое нужно орхидее, но я больше не сомневался, что редчайшее насекомое и прикованный к месту цветок чудесным образом получили возможность соединиться; тем временем (заметим просто для сравнения двух счастливых, каждая в своем роде, случайностей, позволяющих без притязаний на какую бы то ни было научность сопоставить законы ботаники с тем, что иногда весьма неудачно называют гомосексуальностью) г-н де Шарлюс, годами приходивший в этот дом в часы, когда Жюпьена здесь не было, благодаря случайному недомоганию г-жи де Вильпаризи встретился с жилетником, а вместе с ним повстречал и удачу, уготованную для таких, как он, человеком, подобным Жюпьену, который мог бы оказаться и моложе, и красивее Жюпьена и чье предназначение на земле – дарить наслаждение таким, как барон, потому что этому человеку нравятся только пожилые мужчины.
Впрочем, все сказанное я понял только спустя несколько минут, потому что реальность накрепко связана с невидимостью, от которой ее могут очистить лишь какие-нибудь особые обстоятельства. Как бы то ни было, в тот момент мне было очень досадно, что я больше не слышал разговора жилетника с бароном. Тут на глаза мне попалась мастерская, которая отдавалась внаем; от лавки Жюпьена ее отделяла лишь тонкая перегородка. Чтобы туда проникнуть, мне достаточно было вернуться в нашу квартиру, зайти в кухню, оттуда спуститься по черной лестнице в подвал и пройти по нему вдоль всего двора, а добравшись до подвального помещения, где еще несколько месяцев назад столяр собирал свои изделия, а теперь Жюпьен рассчитывал хранить уголь, подняться по нескольким ступенькам, которые вели в лавочку. Таким образом я мог пробраться туда украдкой, и никто бы меня не увидел. Это было самое разумное решение. Но я выбрал другой способ и прошел прямо по двору, стараясь остаться незамеченным. Мне это удалось – полагаю, скорее случайно, чем из благоразумия. И в сущности, то, что я предпринял такую рискованную попытку, хотя пройти подвалом было совершенно безопасно, можно объяснить одной из трех причин, если вообще на то была причина. Прежде всего, моим нетерпением. Потом, возможно, смутной памятью о сцене в Монжувене, когда я прятался перед окном мадмуазель Вентейль. На самом деле, когда мне случалось присутствовать при такого рода вещах, я всегда умудрялся поставить себя в самое опрометчивое и неправдоподобное положение, как будто такие открытия даются только в награду за тайный и в высшей степени рискованный демарш. И наконец, в третьей причине, которою я бессознательно руководствовался больше всего, мне совестно признаваться: уж больно она смахивает на ребячество. С тех пор как я со всей дотошностью следил за событиями Англо-бурской войны[5 - …за событиями Англо-бурской войны… – Англо-бурская война (1899–1902) – война Великобритании против двух республик Южной Африки, населенных колонистами родом из Голландии, – Оранжевого свободного государства и Трансвааля, закончившаяся победой англичан и превращением обеих республик в английские колонии.], ища доказательств тому, что военные принципы Сен-Лу не оправдываются на деле, я принялся перечитывать старые книги о путешествиях и научных экспедициях. Эти книги увлекали меня и придавали храбрости в повседневной жизни. Когда из-за приступов я по нескольку дней и ночей кряду не мог спать и, мало того, не в силах был ни прилечь, ни поесть, ни попить, в те минуты, когда я доходил до истощения и мне делалось до того худо, что казалось, этому не будет конца, я думал о каком-нибудь путешественнике, выброшенном на прибрежный песок, одурманенном ядовитыми травами, дрожащем от лихорадки в своей промокшей от морской воды одежде, – но вот уже спустя два дня он чувствует себя лучше и наугад пускается в путь, на поиски туземцев, хоть они ведь могут оказаться и людоедами. Такие примеры меня бодрили, возвращали мне надежду, и мне стыдно было, что я на мгновение пал духом. Теперь я думал о бурах, которые, столкнувшись лицом к лицу с английскими войсками, смело шли вперед по открытой местности, чтобы достичь зарослей, где можно будет укрыться; «не хватало еще мне, – думал я, – малодушничать, когда театр военных действий – это всего-навсего наш двор, ведь я несколько раз без малейшего страха дрался на дуэли во времена дела Дрейфуса[6 - …я несколько раз… во время дела Дрейфуса… – В декабре 1894 г. офицер французской армии Альфред Дрейфус (1859–1935) был несправедливо обвинен в шпионаже в пользу Германии и приговорен к разжалованию и пожизненной ссылке. Французские интеллектуалы того времени, в том числе Эмиль Золя, Анатоль Франс, Жорж Клемансо и молодой Марсель Пруст, стали требовать пересмотра дела и в конце концов в 1906 г. добились окончательного оправдания Дрейфуса. Пруст и сам однажды дрался на дуэли во времена дела Дрейфуса (1896–1906), а именно в 1897 г., хотя повод для поединка не имел отношения к этому делу: он вызвал критика Жана Лоррена, опубликовавшего оскорбительную рецензию на его первую книгу «Радости и дни».], а теперь-то бояться нечего, разве что меня увидят соседи, у которых есть дела поважнее, чем выглядывать во двор».
Но когда я очутился в мастерской, изо всех сил стараясь ни в коем случае не скрипнуть половицей и понимая, что здесь у меня слышен малейший шорох из лавки Жюпьена, мне стало ясно, как неосторожно вели себя Жюпьен и г-н де Шарлюс и как им повезло.
Я не смел шевельнуться. Конюх Германтов, пользуясь, вероятно, тем, что хозяева в отъезде, перенес в мастерскую столяра лестницу-стремянку, до того стоявшую в каретном сарае. И если бы я на нее взобрался, я бы мог открыть оконце, прорезанное в перегородке, и слышать все так, будто находился в мастерской Жюпьена. Но я боялся шуметь. Да это было и не нужно. Мне даже не пришлось жалеть, что я потратил несколько минут, чтобы добраться до моей комнатушки. Судя по тому, что первое время из мастерской Жюпьена доносились только нечленораздельные звуки, можно было предположить, что слов прозвучало очень немного. Правда, в этих звуках было столько свирепости, что, если бы параллельно им всякий раз не раздавались октавой выше жалобные стоны, можно было бы подумать, что рядом со мной один человек перерезает горло другому, а затем убийца вместе с воскресшей жертвой принимают ванну, чтобы скрыть следы преступления. Позже я пришел к выводу, что от наслаждения бывает шуму не меньше, чем от страданий, особенно когда за ним немедленно следует страх зачать ребенка (о чем в данном случае и речи быть не могло, если пренебречь малоубедительным примером из «Золотой легенды»)[7 - «Золотая легенда» – сборник средневековых легенд и житий святых, который составил в XIII в. Джакопо да Варацце (Иаков из Ворагина). Однако историй о том, как мужчина рожал дитя, там нет. Пруст, по всей вероятности, опирается на книгу Эмиля Маля «Религиозное искусство XIII века во Франции» (1898), которую брал у друзей, использовал для своих статей о Рёскине и прекрасно знал; говоря о влиянии Джакопо да Варацце на средневековую иконографию, Маль упоминает рассказ о Нероне, который во что бы то ни стало желал, чтобы его возлюбленный родил ему ребенка, и требовал от докторов, чтобы они изыскали для этого средство. Если верить легенде, в результате угроз Нерона и усилий медицины на свет появилась… лягушка.] или забота о чистоте. Наконец примерно через полчаса (за это время я крадучись забрался на стремянку, чтобы подсматривать в окошко, но так и не открыл его) завязался разговор. Жюпьен энергично отказывался от денег, которые хотел ему дать г-н де Шарлюс.
Затем г-н де Шарлюс вышел из мастерской. «Зачем вы так выбриваете подбородок? – ласково сказал жилетник барону. – Хорошая борода – это так красиво!» – «Фи, терпеть не могу», – возразил барон. Однако в дверях он задержался, расспрашивая Жюпьена о нашем квартале. «Вы знаете что-нибудь о продавце каштанов там, на углу, не о том, что слева, это ужас, а о том, что по четной стороне, – такой здоровенный чернявый парень? А в аптеке напротив лекарства развозит очень славный велосипедист». Эти расспросы, очевидно, обидели Жюпьена. С видом оскорбленной в своих чувствах кокетки он приосанился и заметил: «А вы повеса, как я посмотрю». Его печальный, холодный, манерный упрек, видимо, задел г-на де Шарлюса за живое, и, стремясь загладить дурное впечатление от своего любопытства, он стал о чем-то просить Жюпьена, слишком тихо, чтобы я мог расслышать слова, но понятно было, что для исполнения его просьбы им придется вернуться в мастерскую и что эта просьба тронула и утешила жилетника, потому что он впился в пухлое и налитое кровью лицо барона, обрамленное сединой, долгим, счастливым взглядом человека, услыхавшего что-то чрезвычайно лестное для его самолюбия, согласился исполнить то, о чем просил барон, и, отпустив несколько непочтительных замечаний, вроде: «Да уж, филейная часть у вас что надо!», просиял и сказал с волнением, благодарностью и превосходством в голосе: «Да иди уже, иди, баловник!»
– Я потому возвращаюсь к вопросу о водителе трамвая, – настойчиво продолжал г-н де Шарлюс, – что, кроме всего прочего, это бы скрасило мне обратный путь. Я иногда как халиф, который бродил по Багдаду под видом простого купца[8 - Я иногда как калиф, который бродил по Багдаду под видом простого купца… – Это одна из многочисленных ссылок на сборник арабских сказок «Тысяча и одна ночь», рассеянных по роману Пруста. Так, в сказке «Рассказ о носильщике и трех девушках» читаем: «…в эту ночь халиф Харун аль-Рашид вышел пройтись и послушать, не произошло ли чего-нибудь нового, вместе со своим визирем… (а халиф имел обычай переодеваться в одежды купцов)» (пер. М. Салье).], снисхожу до того, чтобы погнаться за какой-нибудь занятной особой, чей облик показался мне примечательным. – Я обратил внимание на ту же характерную черту в его речи, которую раньше заметил у Берготта. Если бы ему когда-нибудь пришлось давать показания в суде, он бы употреблял не те выражения, которые скорее убедят судей, а те берготтескные фразы, которые ему с ходу подсказывал его неповторимый литературный темперамент и которые ему приятно было произносить. Вот и г-н де Шарлюс разговаривал с жилетником тем же языком, что со светскими знакомыми, и даже злоупотребляя своими излюбленными словечками: робость, с которой он пытался бороться, не то оборачивалась чрезмерной гордыней, не то побуждала его безотчетно (ведь мы смущаемся в обществе людей не нашего круга) приоткрывать свое истинное «я», а оно в самом деле было полно гордыни и несколько безумно, как говорила герцогиня Германтская. «Чтобы не сбиться со следа, – продолжал он, – я, как какой-нибудь скромный учитель или молодой красавчик врач, вскакиваю в тот же трамвай, что эта особа, которую я упоминаю в женском роде лишь потому, что так полагается, ведь говорим же мы о принце: „августейшая особа“. Если она пересаживается с трамвая на трамвай, я приобретаю, заодно, вероятно, с чумной бациллой, билетик на „пересадку“, номерной, причем номер у него далеко не всегда первый, хотя это ведь мой номер! Таким манером я „пересаживаюсь“ раза три, а то и четыре! Иногда я совершенно обессиленный оказываюсь в одиннадцать вечера на Орлеанском вокзале и вынужден ехать назад! И если бы только на Орлеанском вокзале! Однажды, например, мне никак не удавалось завязать разговор, и я доехал до самого Орлеана в одном из этих ужасных вагонов, где между треугольничками устройств, именуемых „багажными сетками“, вам мозолят глаза фотографии главных достопримечательностей, расположенных по этой ветке. Там нашлось только одно свободное место, передо мной в качестве исторического памятника торчал Орлеанский собор, самый уродливый во Франции[9 - …торчал Орлеанский собор… – Собор Святого Креста в Орлеане довольно поздний, он строился с XVII по XIX в. Возможно, г-н де Шарлюс разделяет распространенное в его время мнение, что этот собор в стиле «пламенеющей готики» выглядит неуместно старомодным; вот и Виктор Гюго высказался о нем неодобрительно: «Эта безобразная церковь в Орлеане издали так много обещает, а вблизи нарушает все свои обещания» («Рейн, письма к другу», 1842).], и принудительно на него смотреть было так тяжело, будто разглядываешь его башни в стеклянном шарике внутри одной из этих сувенирных ручек, от которых воспаляются глаза. Я вышел в Обре? вслед за интересовавшей меня молодой особой, которую, увы, на перроне ждала родня, а я-то подозревал ее во всех пороках, кроме этого! Единственным моим утешением, пока я ждал обратного поезда, оказался дом Дианы де Пуатье[10 - Я вышел в Обре?… дом Дианы де Пуатье. – Городок Флери-лез-Обре расположен в трех километрах от Орлеана. Дом Дианы де Пуатье на самом деле – это особняк Кабю, прекрасный образчик Ренессанса, в котором затем находился исторический музей Орлеана, уничтоженный пожаром в 1940 г.; вопреки легенде, он не имеет отношения к Диане де Пуатье (1499–1566), любовнице Генриха II и ярой гонительнице гугенотов.]. Хотя, даром что она очаровала одного из моих венценосных предков, мне по вкусу более осязаемая красота. И вот, чтобы уберечься от тоски одинокого возвращения домой, мне бы хотелось познакомиться с кондукторами спального вагона и омнибуса. Словом, пускай это вас не шокирует, – заключил барон, – это просто манера поведения. Например, я не желаю никакого физического обладания, когда вижу светских молодых людей, но, чтобы успокоиться, мне нужно их задеть, я имею в виду не физически прикоснуться, а задеть их за живое. Как только молодой человек, прежде оставлявший мои письма без ответа, начинает мне беспрестанно писать, как только я почувствую, что его душа в моем распоряжении, так сразу же и успокаиваюсь, вернее, успокоился бы, если бы вскоре меня не начал занимать другой юноша. Любопытно, не правда ли? Кстати, о светских молодых людях, вы никого не знаете среди тех, кто сюда приходит?» – «Никого, детка. Хотя нет, есть один, черноволосый, очень высокий, с моноклем, вечно смеется, вертлявый такой». – «Не пойму, о ком вы говорите». Жюпьен дополнил описание, г-н де Шарлюс не мог взять в толк, о ком речь, ведь он не знал, что жилетник принадлежит к людям, более многочисленным, чем нам кажется, которые не запоминают, какого цвета волосы у малознакомого человека. А я знал об этом недостатке Жюпьена, заменил черные волосы белокурыми, и понял, что портрет точно описывает герцога де Шательро. «Возвращаясь к юношам не из простых, – продолжал барон, сейчас мне вскружил голову один странный паренек, умный маленький буржуа, он ведет себя по отношению ко мне на удивление неучтиво. Он совершенно не представляет себе ни моего необычайного величия, ни того, насколько сам он микроскопический вибрион. В конце концов, что мне за дело, пускай этот осленок ревет сколько ему угодно перед моей величавой епископской ризой». – «Епископской! – вскричал Жюпьен, который не понял ничего из последних слов г-на де Шарлюса, но слово «епископской» его изумило. – Но религия же тут ни при чем», – возразил он. «У меня в роду три папы[11 - У меня в роду три папы. – Вопрос о трех папах изучен французским исследователем Вилли Аше в отдельной статье; г-н де Шарлюс через герцогов Бульонских состоял в родстве с семейством Медичи, то есть с Львом X (был папой в 1513–1521), Клементом VII (1523–1534) и Львом XI (1605).], – пояснил г-н де Шарлюс, – я обладаю наследственным правом облачаться в алый цвет благодаря двоюродному деду-кардиналу, чья племянница передала моему деду по наследству герцогский титул. Вижу, вы глухи к метафорам и равнодушны к французской истории. Впрочем, – добавил он, не столько в заключение своей речи, сколько в предостережение, – пускай меня влечет к молодым особам, которые бегут от меня, из страха, разумеется, поскольку одно лишь почтение запечатывает им уста и не позволяет крикнуть, что они меня любят, мой интерес как-никак требует от них принадлежности к высшей знати. К тому же, как бы я к ним ни тянулся, их напускное равнодушие может произвести на меня действие прямо противоположное. Если по глупости они упорствуют, мне делается противно. Приведу пример из более вам привычного класса общества: когда мой особняк подновляли, я не захотел разжигать ревность среди всех герцогинь, оспаривавших друг у друга честь приютить меня, чтобы потом иметь право мне поминать, что я пользовался их гостеприимством, словом, я на несколько дней перебрался, как говорится, в отель. Я был знаком с одним коридорным, я указал ему на одного занятного юного лакея, закрывавшего дверцы экипажей, но юнец проявил строптивость. В конце концов, доведенный до крайности, я, желая доказать чистоту моих намерений, предложил ему непомерные деньги за то, чтобы он пришел ко мне в номер на пять минут для простого разговора. Я прождал напрасно. Тогда меня охватило такое отвращение, что я выходил из отеля только через служебную дверь, лишь бы не видеть рожицу этого мерзкого маленького шалопая. Позже я узнал, что он не получил ни одного из моих писем, все они были перехвачены, первое коридорным, который ему позавидовал, второе добродетельным дневным швейцаром, а третье ночным швейцаром, который любил мальчишку и спал с ним в тот час, когда на небеса восходит Диана. Однако отвращение у меня не прошло, и, если бы мне доставили этого лакея, как простую дичь, на серебряном блюде, я бы его оттолкнул и меня бы стошнило. Беда в том, что с тем юным буржуа мы говорили о серьезных вещах, а теперь между нами все кончено и надежды мои рухнули. Но вы бы могли оказать мне огромную услугу, могли бы свести нас; нет, нет, от одной мысли об этом я повеселел и чувствую, что еще не все пропало».
С самого начала этой сцены с глаз моих спала пелена, и г-н де Шарлюс мгновенно предстал им в совершенно новом облике, как по мановению волшебной палочки. До сих пор я ничего не понимал, а потому ничего не видел. Порок (для удобства воспользуемся этим словом), любой порок, присущий человеку, сопровождает его, подобно незримому гению, которого люди не замечают, пока не узнают, что он здесь. Доброта, коварство, имя, светские связи не бросаются в глаза, они таятся внутри нас. Даже Одиссей поначалу не узнал Афину[12 - Даже Одиссей поначалу не узнал Афину. – К Одиссею, достигшему пределов Итаки, приходит его покровительница богиня Афина, «…образ приняв пастуха, за овечьим ходящего стадом, / юного, нежной красою подобного царскому сыну» («Одиссея», песнь XIII, перев. В. Жуковского), и Одиссей обращается к ней за помощью, но не узнаёт ее.]. Но боги мигом распознают богов, подобное тянется к подобному, так и г-н де Шарлюс распознал Жюпьена. До сих пор я вел себя с г-ном де Шарлюсом, как рассеянный, который не замечает округлившейся талии своей беременной собеседницы и, слыша, как она с улыбкой твердит ему: «Я что-то устала», упрямо допытывается: «Но быть может, вы нездоровы?» Однако стоит кому-нибудь сказать: «Она ждет ребенка», как он сразу заметит ее живот и уже ничего, кроме живота, замечать не будет. Знание отверзает нам глаза, а развеявшееся заблуждение снабжает нас дополнительным органом восприятия.
Многие не любят признавать, что этот закон имеет к ним хоть какое-то отношение, а ведь они ни в чем не подозревали своих знакомых господ де Шарлюсов, причем довольно долго, пока в один прекрасный день на гладкой поверхности какого-нибудь лица, похожего на все прочие, не проступали буквы, начертанные невидимыми до поры до времени чернилами, и не складывались в слово, любезное древним грекам; чтобы убедить себя, что окружающий мир поначалу представляется им голым, лишенным тысячи прикрас, явленных более просвещенным личностям, этим людям стоит только вспомнить, сколько раз в жизни они оказывались на волосок от того, чтобы совершить бестактность. Ни один признак в лице человека, у которого на лбу ничего не написано, не подсказывал им, что это брат, или жених, или любовник той самой женщины, о которой они уже готовы сказать: «Ну и дрянь!» Но к счастью, сосед вовремя шепнул им словцо, и роковое замечание замерло у них на устах. И тут же, как мене, текел, фарес, всплывают слова: он жених, или брат, или любовник этой женщины, и не подобает при нем обзывать ее дрянью. И это новое сведение, одно-единственное, повлечет за собой полный пересмотр всего, что было ему известно о целой семье: какие-то сведения уйдут в тень, какие-то, наоборот, выступят на первый план. Да, в г-не де Шарлюсе, как конь в кентавре, обитало другое существо, совокуплявшееся не так, как другие мужчины, да, это существо срослось с бароном воедино, но я-то этого никогда не замечал. Теперь абстрактное материализовалось, существо стало понятным, сразу утратило дар невидимости, и превращение г-на де Шарлюса в другого человека оказалось настолько полным, что не только резкие перемены в его лице и голосе, но задним числом даже взлеты и падения в его отношении ко мне, все то, что до сих пор представлялось моему уму непоследовательностью, сделалось ясным, несомненным: так предложение кажется бессмысленным, пока составляющие его буквы разбросаны как попало, но стоит расположить их по порядку – и проступает мысль, которая останется у нас в памяти.
К тому же теперь я понимал, почему недавно, когда г-н де Шарлюс выходил от г-жи де Вильпаризи, мне показалось что он похож на женщину: он и был женщиной! Порода людей, к которой он принадлежал, не так противоречива, как можно подумать: женственность заложена в их натуре, поэтому их идеал – мужественность, и на остальных мужчин они похожи только внешне; внутри их зрачков – отверстий, сквозь которые мы видим вселенную, – заранее запечатлен силуэт не нимфы, но эфеба. Это племя, над которым тяготеет проклятие, племя, обреченное на пожизненную ложь и вероломство, – ведь людям этого племени известно, что их влечение, то, что для всего живого есть наивысшая прелесть бытия, считается достойным кары, постыдным, непристойным; это племя, вынужденное отрекаться от Христа, ведь они, христиане, доведись им предстать перед судом в роли обвиняемых, должны пред Богом и во имя Его отпираться, как от клеветы, от того, что для них главное в жизни; это сыновья, у которых нет матери, ведь они вынуждены лгать ей всю жизнь и даже в час ее кончины; это друзья, лишенные дружбы, хотя часто их бесспорное обаяние привлекает к ним людей и сердца их часто готовы отозваться на дружеский призыв; но разве можно назвать дружбой чувство, которое едва теплится, и то лишь благодаря обману, потому что стоит им хоть раз позволить себе потянуться к кому-нибудь искренне, с доверием – и сразу же их брезгливо оттолкнут; разве что попадется им человек с умом непредвзятым и даже способным на сочувствие, но и он, оставаясь в плену психологических условностей, выведет из услышанного признания, что сам стал предметом чувства, порожденного пороком и глубоко ему чуждого; так судьи иногда скорее готовы простить убийство человеку с необычными склонностями, а измену еврею, оправдывая эти преступления следствием первородного греха и фатальным влиянием расы. И наконец – во всяком случае, согласно теории, которая родилась у меня первоначально (позже, как будет видно, она изменится), есть одно противоречие, которое должно было бы приводить их в особенную ярость, если бы оно не ускользало от них в силу иллюзии, дающей им силу видеть и жить: это любовники, которым почти недоступна та самая любовь, в надежде на которую они черпают силы идти на такой риск, терпеть такое одиночество, ведь влюбляются они как раз не в такого, как они, а в мужчину, у которого нет ничего общего с женщиной, и этот мужчина не может их любить, а значит, их влечение неутолимо, разве только они купят себе взаимность за деньги или призовут на помощь воображение, которое уверит их, что те, кому они отдаются, – настоящие мужчины. Их честь висит на волоске, их свобода всегда мимолетна: они свободны, пока их преступление не раскрыто; положение их ненадежно, как у того поэта, которого вчера славили во всех салонах, рукоплескали ему во всех лондонских театрах, а назавтра его изгоняют из любых меблирашек, и негде ему голову преклонить[13 - …у того поэта, которого вчера славили… и негде ему голову преклонить. – По-видимому, имеется в виду Оскар Уайльд (1856–1900), который в 1895 году попал под суд и в тюрьму за нарушение норм общественной морали. После тюрьмы Уайльду пришлось уехать во Францию, последние годы он жил в бедности и одиночестве.]; они вращают мельничные жернова, как Самсон, и твердят его слова:
Непримиренными два пола встретят смерть[14 - Непримиренными два пола встретят смерть… – Строка из того самого стихотворения Альфреда де Виньи «Гнев Самсона», строки которого Пруст взял эпиграфом ко всему тому.];
и даже сочувствия им не дождаться, разве что в дни великих невзгод, когда вокруг жертвы сплотится как можно больше сочувствующих, как евреи сплотились вокруг Дрейфуса, – но обычно даже у себе подобных это племя не вызывает сострадания: любому отвратительно видеть свое отражение в зеркале, которое ему уже не льстит, а являет все изъяны, которых он не желал замечать у себя; это зеркало твердит им, что их любовь, вернее, то, что они принимали за любовь (и, повинуясь общественному инстинкту, спекулировали этим словом, окружая его всем, что могут добавить к любви поэзия, живопись, музыка, рыцарственность, аскетизм), – что эта любовь порождена не прекрасным идеалом, который они себе избрали, а неизлечимой болезнью; и совсем как евреи (не считая тех, что, желая общаться только с единоплеменниками, вечно твердят ритуальные словечки и отпускают банальные шуточки), они избегают друг друга, ищут тех, кто на них не похож, кто не хочет с ними общаться, и прощают им щелчки по носу, и упиваются их снисходительностью; но остракизм и унижения все же заставляют их льнуть к себе подобным, и в конце концов гонения, сходные с теми, что знакомы Израилю, превращают их в единое племя, с особыми чертами внешности и характера, иногда прекрасными, нередко отталкивающими; и пускай тот, кто лучше приспособился к вражескому племени и полнее с ним слился, безжалостно издевается над теми, кому это не удалось, – все равно для душевного отдыха эти люди общаются с себе подобными и даже находят в них опору, причем, отвергая самую мысль, что они – народ (самое имя этого народа – страшное оскорбление), охотно разоблачают соплеменников, не столько желая им навредить, хотя и не без того, сколько в поисках оправдания для самих себя; как врач ищет аппендицит, так они повсюду выискивают извращения, забираясь в дебри истории и (точь-в-точь как израэлиты приводят в пример Иисуса) не забывая упомянуть, что Сократ тоже был одним из них, причем их не заботит, что никакой нормы не было, пока гомосексуализм был нормой, как не было врагов христианства до Христа, и что преступление – дитя позора, ведь под бременем позора только те и выживают, кого не убедить никакой проповедью, не увлечь никаким примером, не сломить никакой карой; их врожденная предрасположенность настолько сильна, что (хотя иногда ей сопутствуют прекрасные душевные качества) внушает другим людям большее отвращение, чем пороки, свойственные низким душам, – воровство, жестокость, злонамеренность, – пороки, которые обычно легче понять, а потому и простить; их объединяет франкмасонское братство, которое обширнее, действеннее и неуловимее настоящего франкмасонства, потому что основано на совпадении вкусов, потребностей, привычек, опасностей, первоначального опыта, знания, темных дел, запаса слов и понятий; члены этого братства, даже те, что не желают знать друг друга, мгновенно узнают собратьев по естественным признакам или условным знакам, вольным или невольным: нищий распознает себе подобного в важном господине, закрывая дверцу его экипажа, отец – в женихе дочери, тот, кто жаждет излечиться, покаяться, оправдаться перед судом, – во враче, священнике, адвокате; все они вынуждены хранить свою тайну, но посвящены в чужие, о которых остальное человечество не догадывается, а потому самые неправдоподобные приключенческие романы кажутся им правдивыми, ведь в анахроническом мире романа посланник дружит с каторжником, а принц непринужденно выходит из дома герцогини и тут же спешит повидаться с апашем (такая непринужденность дается аристократическим воспитанием и недосягаема для пугливого скромного буржуа); отщепенцы человеческого сообщества, они составляют его важную часть; их выискивают там, где и следа их нет, а они между тем бесстыдно и безнаказанно процветают там, где о них и не подозревают; и везде у них приверженцы – в народе, в армии, в храме, на каторге, на троне; живут они – во всяком случае, многие из них – в лестной и опасной близости к людям другого племени, бросают им вызов, играючи говорят с ними о своем пороке, как будто не имеют к нему отношения; слепота и лицемерие окружающих облегчают им эту игру, так что она может продолжаться годами, пока не разразится скандал и звери не сожрут укротителя; а до тех пор им приходится скрывать свою жизнь, отворачиваться от того, что притягивает взгляд, вглядываться в то, от чего хочется отвернуться, менять в разговоре род многих прилагательных – впрочем, это ограничение со стороны общества кажется им необременительным по сравнению с внутренними ограничениями, которые навязывает им порок или то, что по ошибке зовется пороком, и не чужой порок, а их собственный, притом что сами они никакого порока за собой не чувствуют. Но самые практичные, самые нетерпеливые, не желающие торговаться и усложнять себе жизнь, готовые объединять усилия ради выигрыша во времени, принадлежат сразу к двум обществам, и второе состоит исключительно из таких, как они.
Это поражает в бедных молодых людях, приехавших из провинции: у них нет связей, нет ничего кроме решимости стать когда-нибудь известным врачом или адвокатом; их душа и тело еще пусты, ни убеждений, ни манер, но они надеются быстро заполнить эту пустоту, как комнатку, снятую в Латинском квартале, для которой купили такую же мебель, что приметили и взяли за образец у тех, кто уже «всего добился» в той полезной, серьезной профессии, что должна принять их в свое лоно и прославить; но в иные вечера то особое пристрастие, с которым они, сами того не зная, родились, как рождаются с талантом к рисованию или музыке или с предрасположенностью к слепоте, то, быть может, единственное, что есть в них воистину оригинального, властно приказывает им пренебречь полезным для карьеры собранием людей, чья речь, образ мыслей, одежда и прически служат им примером для подражания. В той части города, где они поселились, обычно они видятся лишь с соучениками, профессорами да несколькими преуспевшими земляками-покровителями, однако успели быстро свести знакомство с другими молодыми людьми, близкими им по особым склонностям: так в небольшом городке находят друг друга учитель старших классов и нотариус, если оба любят камерную музыку или средневековые статуэтки из слоновой кости; прилагая к предмету своего увлечения тот же практический ум, ту же профессиональную хватку, что помогают им делать карьеру, они попадают в среду, куда точно так же не допускают непосвященных, как в кружок любителей старинных табакерок, японских эстампов, редких цветов; в таких компаниях, где каждый рад пополнить знания и ценит возможность обмена, уживаются, как в клубе филателистов, полное взаимопонимание знатоков и яростное соперничество коллекционеров. Впрочем, в кафе, где они всегда занимают один и тот же стол, никто не знает, что это за компания, общество рыболовов, редакция журнала или уроженцы Эндра: они безукоризненно одеты, сдержанны, равнодушны и лишь украдкой осмеливаются глянуть на светских молодых людей, на «львов», которые неподалеку от них шумно хвастаются любовницами; и только двадцать лет спустя, когда первые будут уже без пяти минут академиками, а вторые стареющими салонными щеголями, серьезные молодые люди узнают, что Шарлюс, самый обольстительный когда-то за соседним столом, а теперь толстый и седой, был на самом деле таким же, как они, просто он жил в другом мире, где царили другие символы, где были приняты чуждые им знаки, и эта разница вводила наблюдателей в заблуждение. Но среди объединений одни организованы лучше, другие хуже: «Союз левых» отличается от «Социалистической федерации»[15 - «Союз левых» был создан по требованию консерваторов в итоге выборов в законодательное собрание еще в 1885 г. «Социалистическая федерация Луары», созданная между 1911 и 1914 г., стала прообразом республиканской социалистической партии.], а какое-нибудь «Мендельсоновское музыкальное общество» от «Скола канторум»[16 - …«Мендельсоновское музыкальное общество» от «Скола канторум»… – Основанная в 1894 г., «Скола канторум» была поначалу обществом религиозной музыки, посвященным изучению музыкальных форм прошлого; это общество затем, в 1896 г., было преобразовано в престижную консерваторию, где, в частности, учились Артюр Онеггер, Эрик Сати, Эдгар Варез. С 1897 по 1931 г. там преподавал, а затем и возглавлял это учебное заведение композитор Венсан д’Энди, ярый антисемит, а Мендельсон, чьим именем называлось первое упомянутое общество, был евреем; возможно, в этом и состоит главное различие между двумя музыкальными объединениями.]; так, в иные вечера за соседним столом оказываются экстремисты, позволяющие соседу украдкой надеть им браслет, спрятав его под манжетой, или цепь, которую прикрывает сорочка; они упорными взглядами, гоготом, смешками, бесцеремонностью, с которой поглаживают друг друга, обращают в бегство компанию школьников за соседним столиком, а официант обслуживает их вежливо, но с едва скрываемым негодованием, как в те вечера, когда подает ужин дрейфусарам, при этом если бы не предвкушение чаевых, с удовольствием сбегал бы за полицией.
С точки зрения разума, пристрастия одиночек – полная противоположность таким профессиональным объединениям, и в каком-то смысле это справедливо – разум уподобляется в этом отношении самим одиночкам, полагающим, будто ничего нет общего между организованным пороком и тем, что сами они считают непонятой любовью; но с другой стороны, это все же не вполне справедливо, поскольку, не говоря уж о том, что те и другие относятся прежде всего к разным физиологическим типам, они к тому же в разное время проходят этапы патологической или просто общественной эволюции. Правда, что одиночки не так уж редко вливаются в такие организации – иной раз просто от усталости или для удобства (так некоторые в конце концов ставят у себя телефон, хотя поначалу были его яростными противниками, или соглашаются принимать у себя членов семейства принцев Йенских, или начинают делать покупки у Потена)[17 - …или начинают делать покупки у Потена. – Между прочим, в магазине Феликса Потена на бульваре Мальзерб, 45–47, делала покупки Селеста Альбаре, секретарша, сиделка и домоправительница Пруста. Потен привлекал покупателей снижением цен на некоторые основные продукты, компенсируя это за счет стоимости более изысканных товаров. Кроме магазинов, у Потена была собственная фабрика, сети поставок и большие склады – эти нововведения положили начало принципам работы нынешних крупных супермаркетов.]. Впрочем, обычно они находят там довольно холодный прием, поскольку почти непорочный образ жизни, наложив на них отпечаток неопытности и безудержной мечтательности, придал их натуре исключительно женственный характер, а именно это всячески пытались изжить профессионалы. И нужно признать, что в натуре у некоторых новичков женское начало не только примешивается к мужскому, но и отвратительно бросается в глаза: то их сотрясают истерические судороги, то они заходятся визгливым смехом до дрожи в руках и в коленках, в общем, они похожи на обычных людей не больше, чем мартышки с меланхолическим взглядом обведенных чернотой глаз, с хваткими задними лапами, наряженные в смокинг с черным галстуком; поэтому люди более испорченные считают, что компрометируют себя в обществе этих неофитов, и неохотно допускают их в свой круг, но все же допускают, и тогда они получают доступ к льготам, посредством которых коммерция и предпринимательство преобразили жизнь отдельных людей, предоставив в их распоряжение яства, которые прежде были им не по средствам, да и найти их было трудно, а теперь они очутились среди такого изобилия, о котором, пока были одни, не могли мечтать даже в огромной толпе. Но даже при всех этих бесчисленных отдушинах ограничения, налагаемые обществом, все равно слишком тяжелы для некоторых, особенно для тех, кто никогда не ведал ограничений умственных и кому их вид любви кажется еще более редким, чем на самом деле. Ненадолго оставим в стороне тех, кто по причине своей склонности считает себя выше женщин и презирает их, воображая, что гомосексуальность – привилегия великих умов и славных эпох; эти люди, желая приобщить кого-нибудь к своим пристрастиям, выбирают не тех, кто, как им кажется, имеет к этому склонность, как морфинист к морфию, а тех, кто представляется им наиболее достойным; их обуревает страсть к апостольскому служению; так другие проповедуют сионизм, отказ от военной службы, сен-симонизм, вегетарианство или анархизм. Некоторые, если их застать поутру в постели, выглядят совершенно по-женски, и выражение лица у них женское, свойственное всему женскому полу; даже их волосы твердят о том же: локоны, разметавшись, ложатся так женственно, так естественно ниспадают на щеки подобием кос, что удивляешься: как едва проснувшаяся юная женщина, девушка, Галатея[18 - …юная женщина, девушка, Галатея… – По мнению французских исследователей, Пруст имеет в виду нереиду Галатею, которую, согласно древнегреческой мифологии, полюбил циклоп Полифем; этот образ, скорее всего, подсказала писателю картина его любимого художника Гюстава Моро «Галатея» (1880), на которой прекрасная нереида сладко спит под угрюмым взглядом мрачного циклопа.], заключенная в еще бессознательном мужском теле, ухитряется так изобретательно, сама, никем не наученная, отыскивать мельчайшие лазейки из своей тюрьмы и находить то, что необходимо ей для жизни. Разумеется, молодой человек, которому принадлежит это восхитительное лицо, не говорит: «Я женщина». Даже если по одной из множества возможных причин он живет с женщиной, он может не признаваться ей, что он такой же, как она, и клясться, что никогда не вступал в отношения с мужчинами. Но пускай она увидит его таким, как мы его изобразили: в постели, в пижаме, с голыми руками, голой шеей, по которой разметались черные пряди. Пижама превратилась в женскую ночную кофточку, голова – в головку юной испанки. Любовница в ужасе – ее глазам открылись такие правдивые признания, каких ни словами не выскажешь, ни даже поступками, впрочем, поступки их рано или поздно подтвердят (если еще не подтвердили), потому что каждое живое существо стремится к удовольствию и, если не слишком порочно, ищет удовольствия у пола, противоположного его собственному. А для человека с необычными наклонностями порок начинается не когда он вступает в некие отношения (это может быть вызвано самыми разными причинами), а когда удовольствие он находит у женщины. Молодой человек, которого мы только что попытались запечатлеть, столь несомненно был женщиной, что женщин, смотревших на него с вожделением (если они, конечно, не питали необычных пристрастий), ожидало такое же разочарование, как героинь шекспировских комедий, которых разочаровывает переодетая девица, выдающая себя за подростка. Обман совершенно такой же, и сам он это знает, догадывается о разочаровании, которое испытает женщина без всякого даже переодевания, и чувствует, какой источник поэтического воображения таится в такой ошибке. И пускай даже он не признается в том, что он женщина, своей требовательной подруге, – если только она сама не из Гоморры, – все равно, с какой хитростью, с каким проворством, с каким упрямством вьющегося растения женщина, которую он носит в себе, не сознающая себя, но очевидная, ищет мужской орган. Стоит только взглянуть на эту россыпь вьющихся волос на белой подушке, и понимаешь, что вечером, если молодому человеку удастся ускользнуть из родительских рук, то вопреки родителям, вопреки себе самому не к женщине он помчится. Пускай любовница накажет его, запрёт, на другой же день мужчина-женщина найдет способ прилепиться к мужчине – так вьюнок выбрасывает свои усики туда, где ему подвернутся лопата или грабли[19 - …так вьюнок выбрасывает свои усики туда, где ему подвернутся лопата или грабли. – Возможно, это еще одна реминисценция из «Разума цветов» Метерлинка. Ср.: «Впрочем, всякий живший в деревне имел случаи удивляться инстинкту, какому-то чувству, похожему на зрение, направляющему усики дикого винограда или вьюнка по направлению к палке прислоненных к стене граблей или лопаты» (пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, гл. VIII).]. И восхищаясь трогательным изяществом, запечатленным в облике какого-нибудь мужчины, его прелестью, непосредственным дружелюбием, совершенно мужчинам несвойственным, с какой стати нам ужасаться, когда мы узнаем, что этого молодого человека тянет к боксерам? Это две стороны одной и той же медали. Та сторона, что нам претит, еще и трогательнее других, трогательней любого изящества, потому что в ней отразился бессознательный порыв природы: это осознаёт себя пол; и вопреки заблужденьям пола, выступает на поверхность его сокровенная попытка ринуться на поиски того, что по изначальной ошибке общества оказалось вдали от него. Одним, наверно, самым робким в детстве, совсем не нужно, чтобы наслаждение, к которому они стремятся, носило чувственный характер, лишь бы связать его с мужским лицом. Другим, наделенным, вероятно, более необузданной чувственностью, настоятельно требуется физическое наслаждение, добытое определенным способом. Эти своими признаниями наверняка перепугали бы среднего обывателя. Живут они, видимо, не полностью под знаком Сатурна: женщины для них не настолько исключены, как для первых, которые с ними только разговаривают, кокетничают, разыгрывают воображаемые романы, но помимо этого женщины для них не существуют. А вторые ищут тех женщин, что любят женщин: они могут свести их с молодым человеком и усилить наслаждение, которое с ним обретут; более того, они могут наслаждаться этими женщинами так, как будто это мужчины. Поэтому у тех, кто любит мужчин первого типа, ревность может пробудить только мысль о том, какое наслаждение любимый человек мог бы испытать с другим мужчиной, – ведь таким влюбленным чужда любовь к женщинам, это для них не источник удовольствия, а только привычка да возможность когда-нибудь вступить в брак – а страдать они могут лишь из-за той любви, которая доставляет любимому радость; а вот те, что любят второй тип, часто ревнуют к женщинам. Потому что, вступая в отношения с женщиной, которая любит женщин, мужчины второго типа играют для нее роль другой женщины, и женщина дает им примерно то же самое, что они находят у мужчины; поэтому ревнивый друг страдает, чувствуя, что для человека, которого он любит, женщина, от которой этот любимый не в силах оторваться, почти то же самое, что мужчина, и в то же время что этот любимый почти ускользает от него, потому что в глазах женщин он совсем другой, незнакомый, он – некое подобие женщины. Не будем говорить о молодых сумасбродах, которые из какого-то ребячества, желая подразнить друзей и шокировать родителей, с непонятным упорством облачаются в наряды, напоминающие женские платья, красят губы и подводят глаза; не будем принимать их во внимание, им предстоит слишком жестоко поплатиться за свои пристрастия; всю дальнейшую жизнь они проведут в напрасных попытках аскетически строгим костюмом исправить вред, который причинили себе, когда отдались во власть того же беса, что толкает молодых дам из Сен-Жерменского предместья вести скандальную жизнь, отринуть все приличия, издеваться над родными – пока они в один прекрасный день не примутся настойчиво и безуспешно карабкаться вверх по склону, с которого им было так весело, так занятно катиться вниз, а вернее, по которому они были просто не в силах не скатиться. И наконец, отложим на потом разговор о тех, кто заключил договор с Гоморрой. Мы скажем о них, когда с ними сведет знакомство г-н де Шарлюс. Оставим всевозможные разновидности, до которых еще дойдет дело позже, а теперь, чтобы завершить наш обзор, добавим лишь несколько слов о тех, с кого мы начали, об одиночках. Наделяя свой порок исключительностью, которой он на самом деле не обладал, они с того дня, как открыли его у себя, решили жить одни; до этого они носили его в себе, сами о том не догадываясь, – разве что дольше, чем все остальные. Ведь никто не знает о себе изначально, что он человек с необычными наклонностями, или поэт, или сноб, или злодей. Когда школьнику, который начитался стихов о любви или насмотрелся непристойных картинок, хотелось после этого прижаться к товарищу, он воображал, будто просто разделяет с ним общее для обоих влечение к женщине. Как ему уразуметь, что он не такой, как все, если он узнаёт в себе именно то, что чувствует, когда читает мадам де Лафайетт, Расина, Бодлера, Вальтера Скотта, и ведь он еще не очень умеет с помощью самонаблюдения распознать то, что добавляет от себя, и заметить, что, хотя чувство то же самое, но направлено оно на другой предмет, что его влечет не Диана Вернон, а Роб Рой?[20 - …не Диана Вернон, а Роб Рой? – «Роб Рой» – роман Вальтера Скотта (1817); Роб Рой – реальное лицо, национальный герой Шотландии; в романе это таинственный и могущественный незнакомец, который наделен огромным обаянием и помогает воссоединиться главному герою Френсису Осбалдистону и его возлюбленной Диане Вернон.] Многие, инстинктивно защищаясь благоразумием, опережающим более зоркий взгляд разума, видят, как зеркало и стены их спален исчезают под олеографиями, изображающими актрис; они сочиняют стихи, что-то вроде:
Люблю на свете только Хлою,
Она прекрасней всех, не скрою,
Но право, я ее не стою.
Значит ли это, что в начале жизни они обладали склонностью, которая в дальнейшем исчезла, как исчезают детские белокурые волосы, превращаясь в черные как смоль? Кто знает, может быть, фотографии женщин – это начало лицемерия, а кроме того, начало отвращения, которым они проникаются к другим, наделенным тем же пристрастием? Но именно для одиночек лицемерие особенно мучительно. Быть может, даже примера другого племени, евреев, недостаточно будет, чтобы объяснить, как мало влияет на них воспитание и как ловко удается им вернуться к страсти, овладевающей ими так же беспощадно, как тяга к самоубийству, которая возвращается к сумасшедшему, как его ни охраняй, и чуть только его спасли из реки, где он топился, помогает ему отравиться, добыть револьвер и тому подобное; и мало того, что людям другого племени непонятны, невообразимы, ненавистны радости, жизненно необходимые этой страсти, – вдобавок посторонним внушают ужас нередкие опасности и постоянный стыд тех, кто ею одержим. В тот день, когда они чувствуют, что не в силах больше ни обманывать окружающих, ни обманываться сами, они переезжают в деревню и начинают избегать себе подобных (которые, по их представлениям, немногочисленны) – из ужаса перед противоестественностью или из страха искушения, а заодно сторонятся и всего остального человечества – от стыда. Им никогда не удается достичь истинной зрелости, время от времени они впадают в меланхолию и вот как-нибудь в воскресенье, в безлунный вечер, идут прогуляться по дороге до перепутья, а там их поджидает какой-нибудь друг детства, обитатель соседней усадьбы, хотя до сих пор они и словом не перемолвились. И так ничего и не сказав друг другу, они возобновляют в темноте на траве прежние игры. По будням они навещают друг друга, болтают о том о сем, не намекая на случившееся, точь-в-точь как будто ничего такого не делали и не собираются повторить, только в их отношениях проскальзывает какая-то холодность, какая-то ирония, раздражительность, обида или даже злоба. Потом сосед надолго отправляется в трудное путешествие верхом, штурмует горные кручи на спине мула, спит в снегу; его друг, полагающий, что его собственный порок – результат слабохарактерности, домоседства, застенчивости, понимает, что друг его изживет свой порок, избавится от него на высоте многих тысяч метров над уровнем моря. И в самом деле, этот друг женится. Однако покинутый не исцеляется (хотя мы увидим, что иногда наклонности, противоречащие обычным, оказываются исцелимы). Он требует, чтобы рассыльный молочника по утрам передавал ему сметану на кухне из рук в руки, а по вечерам, когда, желания слишком его донимают, блуждает, пока не представится случай вывести на верную дорогу пьяного или оправить куртку слепому. Конечно, иногда обладатели извращенных наклонностей вроде бы меняются, в их привычках больше не проглядывают признаки так называемого порока, им присущего; но ничто не исчезает: припрятанная драгоценность отыскивается; если больной стал меньше мочиться, это значит, что он больше потеет, но выделение жидкости продолжается. Однажды наш гомосексуал теряет юного родственника, и по его безутешной скорби вы понимаете, что обычные его влечения преобразились в любовь к этому юноше, любовь, быть может, чистую, для которой уважение важнее обладания: его влечения просто-напросто перечислились в эту любовь, как в чьем-нибудь бюджете перечисляются деньги из одной статьи расходов в другую, ничего не меняя в общем балансе. Бывает, что у больного приступ крапивницы ненадолго вытесняет обычные недомогания; так любовь к юноше-родственнику вытесняет на время, посредством метастазиса[21 - Метстазис – переход болезни из одной части тела в другую (устар.).], прежние привычки, но рано или поздно они вновь вернутся на место хвори, которая их временно заменила собой, а потом прошла.
Тем временем вернулся сосед нашего одиночки, теперь он женат; в конце концов одиночке приходится позвать молодоженов в гости, и, когда он видит, как хороша собой юная новобрачная, как нежен с ней муж, ему становится стыдно за прошлое. Она уже в интересном положении, ей нужно вернуться домой пораньше, а муж остается; потом, собравшись уходить, он просит друга немного его проводить, тот сперва ничего не подозревает, но на перепутье обнаруживает, что оказался на траве в объятиях альпиниста и будущего отца, и все это без единого слова. И встречи возобновляются, но в один прекрасный день приезжает и поселяется неподалеку родственник молодой женщины, и теперь муж всегда гуляет с ним. Причем когда покинутый приезжает и пытается вызвать его на разговор, муж отталкивает его с негодованием, по которому наш одиночка, будь он тактичнее, угадал бы, что внушает отвращение. Однако позже является незнакомец, посланный неверным соседом; покинутый очень занят, не может его принять, и лишь позже начинает понимать, зачем приезжал тот человек.
И вот он тоскует в одиночестве. Всех удовольствий у него – съездить на курорт неподалеку и там задать кое-какие вопросы одному железнодорожнику. Но тот получил повышение, и его переводят на другой конец Франции; теперь наш одиночка не сможет узнавать у него расписание поездов и цены на билеты в первом классе; прежде чем вернуться в свою башню и мечтать, как Гризельда[22 - Гризельда – легендарный образ, воспетый Боккаччо, Петраркой, Чосером и т. д., покорная и смиренная жена; муж жестоко ее испытывает, но она успешно проходит испытания и получает награду; правда, ни в одном из сюжетов она не удаляется мечтать в башню. Возможно, на слуху у Пруста было название оперы Массне «Гризельда» (1901): ведь Массне был учителем близкого друга Пруста Рейнальдо Ана, который откликнулся на постановку «Гризельды» восторженным письмом.], он задерживается на пляже, словно причудливая Андромеда[23 - Андромеда – в древнегреческой мифологии – прекрасная девушка, обреченная в жертву морскому чудовищу и освобожденная героем Персеем (а не аргонавтом, здесь Пруст ошибся). Между прочим, Пруст, прикованный к дому своей болезнью, в письмах друзьям не раз сравнивал с Андромедой самого себя.], которую не приплывет освобождать никакой аргонавт, словно бесплодная медуза, обреченная погибать на песке, или мается на перроне в ожидании поезда, бросая на толпу пассажиров взгляды, с виду равнодушные, презрительные или рассеянные; но, подобно искоркам света, которыми украшают себя некоторые насекомые, чтобы привлечь сородичей, или нектару, который источают иные цветы, чтобы приманить насекомых, способных их оплодотворить, взгляды эти не обманут того редкостного и, в сущности, неуловимого любителя необычной радости, когда она ему предлагается, того собрата, с кем наш специалист мог бы поговорить на своем особом языке; более того, этот язык, пожалуй, заинтересует какого-нибудь голодранца, болтающегося на перроне, но только ради корысти – так в безлюдной аудитории Коллеж де Франс на лекцию по санскриту собираются слушатели, но пришли они только погреться[24 - Коллеж де Франс – знаменитое учебное заведение в Латинском квартале, предоставляющее всем желающим бесплатные и бездипломные курсы высшего образования по научным, литературным и художественным дисциплинам.]. Медуза! Орхидея! В Бальбеке, ведомый исключительно инстинктом, я испытывал к медузе отвращение, но когда мне удавалось взглянуть на нее, как Мишле[25 - Французский историк и публицист Жюль Мишле (1798–1874) посвятил медузам проникновенные слова в своем поэтичном очерке «Море» (1861).], с точки зрения естествознания и эстетики, я видел лазурную гирлянду. Ни дать ни взять лиловые морские орхидеи, отороченные прозрачным бархатом лепестков! Подобно множеству созданий животного и растительного мира, подобно растению, что производит ваниль, но мужской и женский орган у него разделены перегородкой, так что оно остается бесплодным, пока колибри или особые маленькие пчелы не перенесут пыльцу с одного на другой или пока человек не оплодотворит их искусственно (оплодотворение тут следует понимать в духовном смысле, потому что физически союз мужчины с мужчиной бесплоден, но в какой-то мере важно, чтобы человек мог обрести единственное наслаждение, которое ему дано испытать, и чтобы «каждое создание» могло подарить кому-нибудь «свою мелодию, свой жар, свой аромат»)[26 - …«свою мелодию, свой жар, свой аромат»… – Это парафраз строк из стихотворения Виктора Гюго («Puisqu’ici-bas toute ?me», сборник «Внутренние голоса», 1837, IX). Отметим, что друг Пруста, Рейнальдо Ан, в 1888 г. положил это стихотворение на музыку, а сам писатель цитировал его в переписке.], так вот, г-н де Шарлюс, подобно им всем, принадлежал к тем мужчинам, кого, несмотря на их многочисленность, можно назвать исключениями, потому что насыщение их сексуальных нужд зависит от совпадения слишком многих условий, да и условия эти слишком редко встречаются. Такие люди, как г-н де Шарлюс, обречены на компромиссы, которые будут возникать один за другим, и нетрудно предвидеть заранее, что им надо будет смиряться с полууступками, потому что иначе наслаждения не достичь; и без того взаимная любовь у большинства смертных связана с огромными, иногда неодолимыми помехами, но этим людям она, кроме того, готовит еще и совершенно особые препятствия; то, что всем дается очень редко, для них почти невозможно, и если им выпадет воистину счастливая встреча (или чутье подскажет им, что это возможно), то они будут куда счастливее нормальных влюбленных и вкусят необыкновенное, исключительное блаженство, от которого немыслимо отказаться. Вражда Монтекки и Капулетти ничто по сравнению со всевозможными препятствиями, которые пришлось преодолевать природе, и совершенно особыми исключениями из правил, на которые приходилось ей идти, пока она подстраивала случайности, приводящие к любви, сами по себе маловероятные; лишь после всех этих усилий бывший жилетник, собиравшийся спокойно уйти к себе в контору, пошатнулся, зачарованный, при виде пузатого пятидесятилетнего незнакомца; эти Ромео и Джульетта были вправе поверить, что их любовь – не минутный каприз, а воистину веление судьбы, предначертанное гармонией их характеров, и не только их, но и их предков, вплоть до самых далеких пращуров, а потому человек, с которым они соединятся, принадлежал им еще до рождения и привлек их с помощью силы, сравнимой с той, что правит мирами, где мы прожили наши предыдущие жизни. Г-н де Шарлюс отвлек меня, когда я смотрел, принесет ли шмель орхидее пыльцу, которую она ждала так долго и только по чистой случайности могла дождаться – случайности настолько невероятной, что она могла бы считаться настоящим чудом. Но то, что я сейчас наблюдал, тоже было чудом – примерно в том же роде и не менее удивительным. Как только я взглянул на встречу этих двоих теми же глазами, все в ней показалось мне прекрасным. Каких только хитростей не изобрела природа, чтобы заставить насекомых заняться скрещиванием цветов, которые без них остались бы бесплодными, потому что мужской цветок расположен слишком далеко от женского, или чтобы, в тех случаях, когда опылением занимается ветер, помочь ему сдуть пыльцу с мужского цветка, а женскому цветку – подхватить ее на лету; при этом природа еще и избавляет цветок-женщину от обязанности источать нектар (ведь приманивать на него насекомых уже не нужно), и от заботы о заманчивом для насекомых блеске венчика, а кроме того, принуждая цветок выделять жидкость, предохраняющую его от любой чужой пыльцы, следит, чтобы он сохранил себя для той, которая нужна для оплодотворения именно ему, – но все эти немыслимые хитрости природы казались мне не более волшебными, чем существование особой разновидности мужчин-гомосексуалов, чье назначение – дарить радости любви постаревшим мужчинам; такую разновидность влекут не любые мужчины, а только те, кто намного старше их; этим влечением управляют законы совпадений и соответствий, близкие тем, что ведают скрещиванием таких гетеростильных триморфных цветков, как lythrum salicaria[27 - Lythrum salicaria (лат.) – дербенник иволистный, или плакун-трава. Здесь и далее Пруст опирается на предисловие А. Кутанса к книге Дарвина «Различные формы цветов» (1860).]. Жюпьен только что явил мне пример этой разновидности, впрочем, не самый поразительный из тех, на которые может наткнуться, пускай не слишком часто, любой собиратель человеческого гербария, любой исследователь ботаники нравов, когда ему предстанет хрупкий юноша, ждущий авансов от крепкого пузатого господина лет пятидесяти и равнодушный к знакам внимания со стороны других юношей, точь-в-точь короткостолбиковые цветы-гермафродиты primula veris (первоцвета весеннего), которые бесплодны, пока их опыляют другие короткостолбиковые primula veris, но с радостью принимают пыльцу от длинностолбиковых первоцветов. Лишь впоследствии я разобрался, что же такое г-н де Шарлюс: для него были возможны разные способы соединения с другими людьми, своим многообразием, мимолетностью вплоть до полной неуловимости, а главное, отсутствием контакта между двумя участниками подчас еще больше напоминавшие о тех цветах в саду, что опыляются от соседнего цветка, никогда до него не дотрагиваясь. Некоторых людей ему было довольно зазвать к себе и несколько часов продержать под властью своих речей – и влечение, вспыхнувшее при первом знакомстве, утолялось. Соединение происходило посредством простых слов, так же просто, как у каких-нибудь инфузорий. Иногда, как это у него получилось со мной в тот вечер, когда он затребовал меня к себе после ужина у Германтов, утоление происходило благодаря яростной отповеди, которую барон швырял в лицо гостю: так некоторые цветы, снабженные пружинкой, орошают на расстоянии ошарашенное насекомое, невольно навлекшее на себя эту немилость. Г-н де Шарлюс, из угнетенного превращаясь в угнетателя, сразу же избавлялся от своей тревоги, успокаивался и прогонял гостя, который уже не казался ему желанным. В сущности, причина гомосексуальности кроется в том, что такой человек подходит к женщине слишком близко для того, чтобы установить с ней разумные отношения, и в результате подпадает под высший закон, в силу которого множество цветов-гермафродитов остаются неопыленными; иными словами, человек этот обречен на бесплодие самооплодотворения. Правда, в поисках мужской особи люди с таким отклонением часто довольствуются таким же, как они сами, женоподобным существом. Им довольно уже и того, что существо это не принадлежит к женскому полу, хотя они и сами носят в себе зародыш женщины, который, правда, не умеют вызвать к жизни; это в них общее с многими растениями-гермафродитами и даже с некоторыми животными-гермафродитами, например улитками: те не умеют оплодотворять сами себя, но их могут оплодотворить другие гермафродиты. Те, кого влечет к людям их пола, охотно цепляются за Древний Восток или Золотой век Греции, но в сущности, они могли бы заглянуть еще дальше, в те «испытательные» эпохи, когда не существовало еще ни двудомных растений, ни однополых животных, во времена первобытного гермафродитизма, следы которого дошли до нас в виде рудиментарных мужских органов в женской анатомии и женских – в мужской. Мимика Жюпьена и г-на де Шарлюса, поначалу для меня непонятная, показалась мне такой же примечательной, как искусительные знаки, которые, если верить Дарвину, подают насекомым не одни только сложноцветные, вздымающие мелкие цветочки своих головок, чтобы их было видно издали, – бывает, например, что и гетеростильное растение выворачивает и изгибает свои тычинки, проторяя проход насекомым, или окатывает их влагой, или их просто зазывают во двор ароматы нектара и сияние венчиков. С этого дня г-ну де Шарлюсу пришлось изменить время своих визитов к г-же де Вильпаризи, и не потому, что он не мог встречаться с Жюпьеном в другом месте (это было бы даже удобнее); дело в том, что для него, как для меня, послеполуденное солнце и цветущий куст были наверняка связаны с воспоминанием о Жюпьене. Кстати, г-н де Шарлюс не ограничился тем, что отрекомендовал семью Жюпьена г-же де Вильпаризи, герцогине Германтской и прочим блистательным дамам, которые тут же стали прилежными заказчицами юной вышивальщицы, тем более что на всех не пожелавших или просто не поторопившихся явиться к ней с заказами барон тут же обрушил беспощадные репрессии, не то для острастки, не то из ярости, ведь они покусились на меры, упрочивавшие его господство; Жюпьена он стал пристраивать на все более доходные должности, а потом и вообще взял его к себе секретарем на условиях, к которым мы еще вернемся. «Эх, везет же этому Жюпьену», – говорила Франсуаза, склонная то приуменьшать, то преувеличивать благодеяния смотря по тому, распространялись ли они на нее или на других. Хотя в этом случае ей не было нужды в преувеличениях, да и зависти она не испытывала, потому что искренне любила Жюпьена. «Какой барон добрый, – добавляла она, – такой приличный, такой благочестивый, такой порядочный! Была бы у меня дочь на выданье да была бы я из богатых, отдала бы ее за барона с закрытыми глазами». – «Постойте, Франсуаза, – мягко возражала мама, – сколько же мужей было бы у вашей дочки? Помните, вы уже обещали ее Жюпьену». – «Ну конечно, – отвечала Франсуаза, – Жюпьен тоже был бы прекрасным мужем. Мало ли что одни богатые, а другие бедные, для природы это все едино. Барон и Жюпьен – одного сорта люди».
Впрочем, в те времена, сделав это первое открытие, я сильно преувеличивал избирательность и исключительность их союза. Разумеется, каждый человек, подобный г-ну де Шарлюсу, – создание необыкновенное, ведь на какие бы уступки ни толкали его жизненные обстоятельства, он их отвергает, поскольку ищет главным образом любви мужчины другой породы, то есть такого, который любит женщин, а значит, его полюбить не сможет; вопреки тому, что я подумал тогда во дворе, видя, как Жюпьен кружит вокруг г-на де Шарлюса, будто орхидея, заигрывающая со шмелем, подобные исключительные, достойные жалости создания весьма многочисленны, – по причине, которая прояснится только к концу книги, как будет видно из дальнейшего изложения, – и сами жалуются скорее на то, что их слишком много, а не слишком мало. Потому что два ангела, которые пришли к воротам Содома узнать, точно ли обитатели, как сказано в Книге Бытия, поступают так, каков вопль на них, восходящий к Всевышнему, были выбраны Господом весьма неудачно (хотя этому можно только порадоваться): лучше бы он доверил это поручение содомиту[28 - …два ангела… содомиту… – Ср.: «И пришли те два Ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел, и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицем до земли» (Быт. 19: 1). «Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю» (Быт. 18: 21).]. Уж его-то не тронули бы оправдания вроде «я отец шести детей, у меня две любовницы»; он не опустил бы свой пламенный меч, не смягчил санкции[29 - …не опустил бы свой пламенный меч, не смягчил санкции… – Ср.: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт. 3: 24). Любопытно, что огненный – или пламенный – меч в романе вручен автором не хранителю райского сада, а гонителям содомских грешников.]. Он бы возразил: «Да – и твоя жена терзается от ревности. И даже если ты этих женщин нашел не в Гоморре, все равно ты проводишь ночи с пастухами Хеврона»[30 - Хеврон – древнейший город, расположенный в исторической области Иудея в 30 км от Иерусалима.]. И немедленно прогнал бы его назад, в город, который вот-вот подлежал истреблению серным и огненным дождем[31 - …подлежал истреблению серным и огненным дождем… – Ср.: «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли» (Быт. 19: 24–25).]. Однако всем тайным содомитам позволили удрать, и в соляные столпы они не превратились, даром что при виде каждого мальчика оборачивались, как жена Лота. Так и вышло, что у них оказалась масса последователей, которым этот жест так же привычен, как женщинам легкого поведения, когда они притворяются, будто разглядывают туфли в витрине, но оборачиваются, как только мимо идет студент. Эти потомки содомитов, многочисленные настолько, что можно отнести к ним стих из Бытия: «если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет»[32 - Ср.: «И сделаю потомство твое, как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет» (Быт. 13: 16).], расселились по всей земле, получили доступ ко всем профессиям и вступают в самые закрытые клубы; если содомита не приняли в такой клуб, то бо?льшая часть черных шаров была наверняка брошена другими содомитами; но они усердно осуждают содомию, унаследовав лживость, благодаря которой их предкам удалось покинуть про?клятый город. Не исключено, что когда-нибудь они туда вернутся. Во всех странах они, конечно, представляют собой что-то вроде восточного землячества – культурного, музыкального, злоязычного, вместе очаровательного и несносного. Они будут представлены подробнее на последующих страницах этой книги, но хотелось бы заранее предостеречь против опасного плана, состоящего в том, чтобы по примеру того, как вдохновенно создавалось сионистское движение, организовать движение содомитов и заново отстроить Содом. Дело в том, что едва содомиты вступят в этот город, как тут же его и покинут, чтобы никто не подумал, что они оттуда, и женятся, и заведут любовниц в других городах, а между тем найдут себе и там развлечения по вкусу. В Содом они будут отправляться только в дни крайней необходимости, когда их собственный город опустеет, в моменты, когда голод выгоняет волка из лесу, – одним словом, все будет происходить как в Лондоне, Берлине, Риме, Петрограде или Париже.
Как бы то ни было, в тот день, перед визитом к герцогине, я не заглядывал так далеко и очень огорчился, что из-за воссоединения Жюпьена с Шарлюсом пропустил, быть может, опыление цветка шмелем.
Часть вторая
Глава первая
Я не спешил на вечер к Германтам, не уверенный, что меня пригласили, поэтому праздно ждал снаружи, но летний день, кажется, торопился не больше моего и кончаться не хотел. Шел уже десятый час, а он по-прежнему окрашивал Луксорский обелиск на площади Согласия в цвет розовой нуги. Потом оттенок изменился и обелиск стал металлическим, отчего теперь выглядел не только внушительнее, но и тоньше; в нем как будто появилась гибкость. Нетрудно было вообразить, что его можно погнуть, что эту драгоценность уже слегка искорежили. Луна стояла в небе, как четверть бережно очищенного и все-таки слегка надкушенного апельсина. Но вскоре ее матерьялу предстояло превратиться в самое прочное золото. Позади нее сжалась в комок одна жалкая звездочка – она будет служить одинокой луне единственной спутницей, а луна встанет на защиту подруги и смело поплывет вперед, потрясая своим широким и великолепным золотым полумесяцем, словно непобедимым оружием, словно каким-то восточным символом.
Перед особняком принцессы Германтской я встретил герцога де Шательро; я уже не помнил, что еще полчаса назад меня терзал страх явиться незваным, – впрочем, этот страх очень скоро вернулся. Начинаешь тревожиться, потом отвлечешься и надолго забудешь о своей тревоге, но потом она возвращается, подчас долгое время спустя после момента опасности. Я поздоровался с молодым герцогом и вступил в особняк. Но здесь следует отметить одно незначительное обстоятельство, из которого станет понятно дальнейшее.
В тот вечер, как и в предыдущие, один человек много думал о герцоге де Шательро, хотя понятия не имел, кто он такой: это был привратник принцессы Германтской (его дело было выкрикивать имена гостей). Г-н де Шательро отнюдь не принадлежал к близким друзьям принцессы – он был просто один из кузенов, и его впервые принимали у нее в салоне. Его родители рассорились с ней за десять лет до того, помирились две недели назад, в этот вечер им по какому-то делу пришлось отлучиться из Парижа, и представлять их семью они поручили сыну. Однако за несколько дней до приема привратник принцессы Германтской встретил на Елисейских Полях молодого человека, очаровательного, на его взгляд, но кто он такой, было непонятно. Правда, молодой человек оказался и любезным, и щедрым, тут ничего не скажешь. Все знаки расположения, которые привратник, как ему казалось, должен был оказать этому столь юному господину, он, напротив того, получил от него сам. Но г-н де Шательро был не только неосторожен, но и опаслив; он решился в тот день не раскрывать своего инкогнито, поскольку не знал, с кем имеет дело, но в каком бы он был ужасе (хотя бояться было нечего), если бы знал! Он ограничился тем, что притворился англичанином, и на все пылкие расспросы привратника, желавшего еще повстречаться с тем, кому он был обязан таким наслаждением и такой щедростью, твердил, пока они следовали по всей авеню Габриэль: «I do not speak french».
Герцог Германтский, несмотря ни на что, не забывал, с кем его кузен в родстве по материнской линии; он притворялся, будто в салоне принцессы Германтской и Баварской ему чудится дух Курвуазье, но благодаря новшеству, которое больше нигде в этом кругу не встречалось, все тем не менее ценили изобретательность и интеллектуальное превосходство принцессы. Дело в том, что после обеда, перед раутом – важным или не очень – стулья в салоне принцессы Германтской расставлялись таким образом, чтобы гости рассаживались небольшими группами, причем некоторые оказывались спиной друг к другу. Принцесса подсаживалась к той или иной группе, демонстрируя свое светское чутье. Впрочем, она не боялась выбрать и вовлечь в разговор кого-нибудь из другой группы. Например, она обращала внимание г-на Детайя[33 - Эдуар Детай (1848–1912), член Академии художеств, был известен в основном картинами на исторические и военные сюжеты. Антисемит и националист, он не мог вызывать у Пруста ни малейшей симпатии. Он в самом деле удостаивался приглашения на великосветские приемы.] на то, как прекрасна шея г-жи де Вильмур, которая сидела в другой группе и была им видна только со спины, г-н Детай, разумеется, признавал ее правоту, и тогда принцесса, повысив голос, произносила: «Госпожа де Вильмур, наш выдающийся художник господин Детай в восторге от вашей шеи». Г-жа де Вильмур чувствовала, что ее вовлекают в беседу; с ловкостью, приобретенной благодаря верховой езде, она медленно поворачивала свой стул на три четверти круга и, нисколько не беспокоя соседей, оказывалась лицом к принцессе. «Вы незнакомы с господином Детайем?» – спрашивала хозяйка дома, не довольствуясь уместными и сдержанными речами гостьи. «Я не знакома с ним, но знаю его картины», – почтительно отзывалась г-жа де Вильмур, демонстрируя на зависть окружающим готовность к продолжению разговора и такт, а тем временем едва заметно кивая знаменитому художнику, которого, что ни говори, лишь упомянули, а не представили ей по всем правилам. «Идите сюда, господин Детай, – говорила принцесса, – я представлю вас госпоже де Вильмур». Тут эта дама, освобождая место для автора «Сна»[34 - На картине Детайя «Сон» (1888) французские солдаты, участники Франко-прусской войны, окончившейся разгромом Франции, огромными человеческими жертвами и потерей Эльзаса и Лотарингии, спят в чистом поле и видят сны о славе их предшественников, наполеоновских солдат.], пускала в ход не меньше изобретательности, чем до того, когда разворачивала к нему стул. А принцесса придвигала стул для себя; в сущности, она окликнула г-жу де Вильмур только потому, что искала предлог расстаться с первой группой, в которой обычно проводила десять минут, и столько же времени уделить второй. За три четверти часа она успевала таким образом обойти все группы, и всякое перемещение совершалось как будто исключительно по вдохновению и из симпатии, а на самом деле имело целью показать, с какой непосредственностью гранд-дама умеет принимать гостей. Тем временем прибывали те, кого пригласили на вечер, и хозяйка дома садилась поближе к входу – прямая и гордая, осененная почти королевским величием, блистающая ярким от природы взором – между двумя некрасивыми герцогинями и испанской посланницей.
Я стоял в очереди за несколькими гостями, прибывшими до меня. Прямо перед собой я видел принцессу; ее красота осталась для меня, конечно, не единственным воспоминанием об этом вечере. Но чеканное, словно прекрасная медаль, лицо хозяйки дома было так совершенно, что врезалось мне в память. У принцессы было обыкновение при встрече говорить за несколько дней до предстоящего вечера каждому из своих приглашенных: «Вы придете, не правда ли?» с таким видом, словно ей страшно хотелось с ними побеседовать. Но на самом деле говорить с ними ей было не о чем, поэтому, когда они представали перед ней, она лишь прерывала на миг болтовню с двумя герцогинями и посланницей и благодарила их словами: «Как мило, что вы пришли»; причем она не имела в виду, что прийти на ее вечер такая уж любезность со стороны гостя, а скорее желала подчеркнуть собственную любезность; затем она бросала его на произвол судьбы, добавляя: «Вы найдете принца Германтского у входа в сад», так чтобы гость удалился и оставил ее в покое. Некоторым она вообще ничего не говорила, ограничиваясь тем, что являла им свои прекрасные ониксовые глаза, словно гости явились на выставку драгоценных камней.
Как раз до меня в зал вошел герцог де Шательро.
Ему пришлось отвечать на все улыбки и приветственные жесты, долетавшие из гостиной, поэтому он не заметил привратника. Но привратник узнал его с первого взгляда. Миг спустя ему предстояло услышать, кто тот человек, чье имя ему так хотелось узнать. Спрашивая у своего позавчерашнего «англичанина», как о нем доложить, привратник был не просто взволнован – он чувствовал себя нескромным, неделикатным. Ему казалось, что сейчас он объявит всем этим людям (которые, впрочем, ни о чем не подозревали) секрет, который он вызнал, не имея на то никакого права, и теперь выставляет на всеобщее обозрение. Когда он услыхал ответ гостя – «герцог де Шательро», его обуяла такая гордыня, что он на миг онемел. Герцог взглянул на него, узнал, понял, что погиб, а тем временем слуга взял себя в руки и, призвав на помощь свои познания в геральдике, чтобы самому дополнить чересчур скромное представление, проревел с профессиональной зычностью, которую умеряла сокровенная нежность: «Его светлость монсеньор герцог де Шательро!» Тут наступила моя очередь. Уйдя в созерцание хозяйки дома, которая еще меня не видела, я не подумал об ужасной для меня – хотя и по-другому, чем для г-на де Шательро, – обязанности этого привратника, одетого в черное, как палач, и окруженного толпой лакеев в самых что ни на есть нарядных ливреях, крепких парней, готовых схватить чужака и вышвырнуть его за дверь. Привратник спросил мое имя, я машинально назвался – так приговоренный к смерти дает привязать себя к плахе. Он тут же величественно вскинул голову и прежде, чем я успел попросить его объявить меня вполголоса, чтобы пощадить мое самолюбие на случай, если я не приглашен, или самолюбие принцессы Германтской, если приглашен, проорал опасные слоги моего имени громовым голосом, способным обрушить своды особняка.
Знаменитый Гексли (тот, чей племянник занимает сейчас одно из первых мест в мире английской литературы)[35 - Дед писателя Олдоса Хаксли (1894–1963), Томас Гексли (1825–1895), был биологом, палеонтологом и врачом (Пруст ошибается, считая их дядей и племянником). В 1919 г. Олдос Хаксли опубликовал похвальную рецензию на «Сторону Германтов».], рассказывает, что одна из его больных не осмеливалась больше бывать в обществе, поскольку часто ей представлялось, будто в кресле, любезно предложенном ей хозяевами дома, уже расположился какой-то старый господин. Она была совершенно уверена, что или гостеприимный жест хозяев, или присутствие старика ей просто мерещатся, ведь не предложат же ей кресло, если в нем уже кто-то сидит. Но когда Гексли, желая ее излечить, настоял, чтобы она опять поехала на званый вечер, ей пришлось испытать мгновения тягостной неуверенности, гадая, в самом ли деле ей любезно указывают на кресло или она, повинуясь галлюцинации, сейчас при всех усядется на колени к господину из плоти и крови. Ее краткие сомнения были мучительны. И все-таки мне пришлось еще тяжелей. Как только в ушах у меня, словно предвестье грядущей катастрофы, раскатился оглушительный звук моего имени, мне пришлось на всякий случай, чтобы меня ни в чем не заподозрили, притвориться, будто я не испытываю ни тени неуверенности, решительно шагнуть вперед и предстать перед принцессой.
Она заметила меня, когда я был уже в нескольких шагах, и – теперь-то уж было ясно, что я стал жертвой чьих-то козней – вместо того, чтобы поздороваться со мной сидя, как с другими гостями, она встала и подошла ко мне. Еще секунда – и у меня камень свалился с души, как у пациентки Гексли, когда она решилась сесть в кресло и оно оказалось свободным, то есть галлюцинацией был именно старый господин. Принцесса с улыбкой протянула мне руку. Она постояла несколько мгновений, лучась великодушием, запечатленным в той строфе Малерба, что заканчивается стихом: «И встанут ангелы, дабы воздать им честь!»[36 - Полностью эта строфа из ранней поэмы Малерба «Слезы святого Петра» (1587) звучит примерно так:Какою радостью все озарятся лики,Какие зазвучат приветственные клики,Цветы, псалмы, огни – всего не перечесть!И как отважные возрадуются братья,Когда благой Господь их заключит в объятьяИ встанут ангелы, дабы воздать им честь!]
Она извинилась, что герцогиня еще не прибыла, как будто опасаясь, что без нее мне будет скучно. Здороваясь, она взяла меня за руку и с необыкновенным изяществом покружилась на месте, вовлекая меня в вихрь своего вращения. Я почти был готов к тому, что она, как истинная распорядительница котильона, вручит мне трость с набалдашником слоновой кости или часы-браслет. По правде сказать, ничего этого она мне не дала и на этом прервала наш разговор, так его и не начав, словно собравшись танцевать бостон, вдруг принялась вслушиваться в священный квартет Бетховена и боялась нарушить его тончайшие нюансы; по-прежнему сияя от радости меня лицезреть, она лишь указала мне, где искать принца.
Я отошел от нее и больше к ней уже не приближался: ясно было, что ей совершенно нечего мне сказать и что при всей своей необъятной благожелательности эта сказочно высокая и прекрасная дама, благородная, как те, что гордо всходили на эшафот, не отважится даже предложить мне мятной воды и может только повторить то, что я от нее уже слышал дважды: «Вы найдете принца в саду». А приблизиться к принцу значило вновь почувствовать, как в новом облике оживают все те же мои опасения.
В любом случае надо было найти, кто меня представит. Я слышал неистощимую болтовню г-на де Шарлюса, перекрывавшую все разговоры; он беседовал с его превосходительством герцогом Сидония, с которым только что познакомился. Общая профессия сближает, общий порок тоже. Г-н де Шарлюс и герцог Сидония мгновенно угадали друг в друге роднивший их порок, состоявший в том, что оба были в обществе людьми монологическими и терпеть не могли, чтобы их перебивали. Сразу рассудив, что боль неисцелима, как сказано в известном сонете[37 - Феликс Арвер (1806–1850) – французский поэт, которому принес славу «Сонет, подражание итальянскому», опубликованный в 1833 г. в его единственном поэтическом сборнике. Приводим сонет в русском переводе:Есть тайна у меня: безмолвна и незрима,Любовь безвестная живет в душе моей,Я обречен молчать, но боль неисцелима,И та, кого люблю, не ведает о ней.Не глядя на меня, она проходит мимо,И я опять один, и до скончанья днейЯ от нее не жду ни взглядов, ни речейИ не молю о них: судьба неумолима.Богобоязненна, скромна и холодна,Восторгов и похвал не слушает она,Идет своим путем, не глядя на поэта,И спросит, может быть, когда на склоне летЕй попадется мой мучительный сонет:«О ком его стихи?» – но не найдет ответа.], оба решились не молчать, а говорить, но не обращать внимания на то, что скажет собеседник. От этого происходил неразборчивый шум, какой возникает в комедиях Мольера, когда несколько актеров одновременно говорят разное. Впрочем, барон, обладатель звучного голоса, был уверен, что одержит верх и его монолог перекроет слабый голосок герцога Сидония, однако герцог не отчаивался: как только г-н де Шарлюс на мгновение переводил дух, интервал заполнялся шелестением испанского гранда, невозмутимо продолжавшего свою речь. Я бы попросил г-на де Шарлюса представить меня принцу Германтскому, но опасался (и очень не зря), что он на меня сердит. Я проявил по отношению к нему черную неблагодарность, дважды отверг его посулы и с того вечера, когда он с такой сердечностью проводил меня до дому, не подавал признаков жизни. А ведь я до сегодняшнего дня понятия не имел, что увижу его встречу с Жюпьеном, так что это меня не оправдывало. Ничего такого мне и в голову не приходило. Правда, недавно, когда родители упрекали меня за лень и за то, что я до сих пор не потрудился написать г-ну де Шарлюсу, я в ярости бросил им упрек, что они заставляют меня принимать непристойные предложения. Но я кривил душой, и этот ответ подсказали мне только гнев и желание найти такие слова, которые задели бы их как можно больнее. На самом деле в том, что предлагал мне барон, я не подозревал никакой похоти и даже никакой сентиментальности. Отвечая родителям, я просто валял дурака. Но иногда будущее живет в нас без нашего ведома, и наши слова, вроде бы лживые, рисуют то, что скоро произойдет.
Г-н де Шарлюс, конечно, простил бы мне мою неблагодарность. В ярость его приводило то, что мое присутствие в тот вечер у принцессы Германтской, так же, как незадолго до того у ее кузины, выглядело издевательством над его торжественным утверждением: «В эти салоны можно попасть только благодаря мне». Моя непростительная ошибка или даже мое неискупимое преступление состояло в том, что я не посчитался с иерархией. Г-н де Шарлюс хорошо понимал, что громы и молнии, которые он обрушивал на тех, кто не подчинялся его приказам или был ему ненавистен, многим уже начинали представляться бутафорскими, несмотря на весь его гнев, и оказывались бессильны изгнать кого бы то ни было откуда бы то ни было. Но, возможно, он надеялся, что его слабеющая власть еще достаточно велика в глазах таких новичков, как я. Словом, я рассудил, что не вполне разумно было бы просить его об услуге на празднике, где само мое присутствие казалось насмешливым опровержением его претензий.
Тем временем меня остановил некий профессор Э., довольно вульгарный тип. Он удивился, видя меня у Германтов. Я удивился не меньше, потому что люди этого сорта никогда не появлялись в гостях у принцессы ни раньше, ни впоследствии. Но он только что вылечил от инфекционной пневмонии принца, которого уже и соборовать успели, и его пригласили, презрев обычай, в знак необычайной благодарности принцессы Германтской. В этих гостиных он совершенно никого не знал и был уже не в силах бесконечно блуждать в одиночестве, как вестник смерти; узнав меня, он впервые в жизни почувствовал, как много всего ему надо мне сказать – ведь это помогало ему справиться с растерянностью, – и по этой причине он ринулся ко мне. Но была и другая причина. Он считал чрезвычайно важным никогда не ошибаться в диагнозе. А у него было всегда такое количество почты, что если он видел больного только один раз, то не всегда как следует помнил, последовала ли его болезнь предуказанным ей путем. Читатель, возможно, не забыл, что в тот вечер, когда у бабушки случился первый удар и я отвел ее к нему, он распоряжался, чтобы к его фраку прикрепили все его многочисленные награды. Прошло время, и он уже не помнил письма, в котором его уведомляли о ее кончине. «Ведь бабушка ваша умерла, не правда ли? – произнес он с некоторой опаской, умерявшейся легким сомнением. – Да, все верно! В самом деле, я хорошо помню, с первой минуты, как я ее увидел, мне стало ясно, что прогноз самый мрачный».
Так профессор Э. узнал – или вспомнил – о бабушкиной смерти, и, к чести его и всего сословия врачей, должен сказать, не выразил, да и не испытал, наверно, никакого удовлетворения. Ошибкам врачей несть числа. Обычно в отношении диеты они грешат оптимизмом, в отношении развязки пессимизмом. «Вино? В умеренных количествах не повредит, в сущности, это укрепляющее… Плотские радости? Вообще говоря, это функция организма. Можно, но только без злоупотребления. Во всем должно быть чувство меры». И какой же соблазн для больного – отказ от этих двух воскресителей, от воды и целомудрия. Зато если у пациента что-то с сердцем или белок в моче, такой диагноз долго не держится. Тяжелые, но функциональные расстройства охотно объясняют воображаемым раком. Бесполезно продолжать лечение, если оно не в силах остановить неизбежное. Если же больной, предоставленный самому себе, по доброй воле придерживается строжайшей диеты и воздержания, а затем исцеляется или по крайней мере выживает, и вот уже он на авеню д’Опера раскланивается со своим врачом, полагавшим, что он уже на Пер-Лашез, – врач усматривает в его приветствии дерзкую насмешку. Он в не меньшей ярости, чем председатель суда, который видит, что у него под носом как ни в чем не бывало, без малейшей опаски, совершает невинную прогулку бездельник, которого два года тому назад он приговорил к смертной казни. Врачи (мы говорим, разумеется, не обо всех и не упускаем из памяти замечательных исключений) вообще не столько радуются, когда их вердикт подтверждается, сколько негодуют и раздражаются, когда его опровергают. Вот почему профессор Э., притом что он несомненно испытывал некоторое интеллектуальное удовлетворение от своей правоты, в разговоре о постигшем нас несчастье взял исключительно печальный тон. Он не стремился сократить беседу, ведь она позволяла ему не терять лица и служила законным поводом не уходить с приема. Заговорил он о сильной жаре, стоявшей последние дни, и даром что был он человек начитанный и объяснялся на прекрасном французском языке, спросил: «А вы не страдаете от этой гипертермии?» Медицина, конечно, со времен Мольера несколько усовершенствовалась в смысле знаний, но никак не словаря. Мой собеседник добавил: «Следует избегать потения, которое настигает нас в такую погоду, особенно в душных гостиных. Если вернувшись домой, вы захотите пить, вам поможет горячее» (он, конечно, хотел сказать «горячие напитки»).
Эта тема была мне интересна из-за того, как умирала бабушка, и недавно в книге одного крупного ученого я вычитал, что потение вредно для почек, поскольку то, что должно выходить другими путями, выходит через кожу. Я горевал, когда думал, что бабушка умирала в такие знойные дни, и чуть ли не готов был винить их в ее смерти. Об этом я доктору Э. не сказал, а он заметил: «Преимущество знойных дней в том, что люди обильно потеют, а это полезно для почек». Медицина – наука не точная.
Профессор Э. вцепился в меня и ни за что не хотел отпускать. Но я успел заметить маркиза де Вогубера, который, отступив на шаг от принцессы Германтской, раскланивался перед ней с поворотом направо и налево. Не так давно меня познакомил с ним г-н де Норпуа, и я надеялся, что он, может быть, согласится представить меня хозяину дома. Пропорции этой книги не позволяют мне объяснить здесь, из-за каких юношеских проделок г-н де Вогубер оказался одним из немногих светских людей, быть может единственным, кто состоял с г-ном де Шарлюсом в отношениях, которые в Содоме называются «конфиденциальными». Но наш приближенный к царю Теодозу[38 - Царь Теодоз – один из образов русского царя, который в других местах романа упоминается и под своим именем. На его создание Пруста вдохновил, по-видимому, официальный визит во Францию царя Николая II в октябре 1896 г.] дипломат, разделяя с бароном кое-какие недостатки, все равно оставался не более чем его бледным подобием. Одержимый желанием очаровывать, а потом и опасениями – чисто воображаемыми – как бы его тайну не раскрыли, а его самого не облили презрением, он переходил от симпатии к ненависти, причем метания эти принимали у него бесконечно смягченную, сентиментальную и простецкую форму. Все это было смешно при его целомудрии и «платонической любви» (которым он, неуемный честолюбец, со школьной скамьи принес в жертву всякое наслаждение), а главное, при его интеллектуальной никчемности, и все-таки г-н де Вогубер продолжал бросаться из одной крайности в другую. Но если г-н де Шарлюс выкрикивал неумеренные похвалы с истинным блеском красноречия, приправляя их самыми тонкими, самыми язвительными остротами, навсегда пристававшими к человеку, то г-н де Вогубер, напротив, выражал свою симпатию банально, как зауряднейший светский человек, чиновник, а неудовольствие (подобно барону, всякий раз на пустом месте) – с безудержной, но бессмысленной злостью, которая задевала тем больнее, что обычно противоречила тому, что посланник говорил полгода назад и, возможно, станет говорить спустя какое-то время; такая регулярность перемен окутывала различные фазы жизни г-на де Вогубера своеобразной астрономической поэзией, хотя в остальном он меньше, чем кто бы то ни было, наводил на мысль о небесных светилах.
Он приветствовал меня совершенно не так, как сделал бы это г-н де Шарлюс. Свое приветствие г-н де Вогубер сопроводил множеством ужимок, присущих, на его взгляд, высшему свету и дипломатическим кругам, напустив на себя бесшабашный, удалой, ликующий вид, чтобы все видели, как он доволен жизнью – хотя его осаждали горькие мысли о застрявшей на месте карьере и грозящей ему отставке – и как он молод, мужественен, обаятелен – хотя видел, как тут и там на лице, которое он уже не смел рассматривать в зеркале, застывают морщины, губя привлекательность, которой он так дорожил. Не то чтобы он в самом деле мечтал о новых победах: сама мысль о них его пугала, до того он боялся пересудов, огласки, шантажа. В тот день, когда он задумался о набережной Орсе[39 - …о набережной Орсе… – На набережной Орсе (Quai d’Orsay) расположено Министерство иностранных дел.] и пожелал блестящей карьеры, он от ребяческого, в сущности, разврата перешел к полному воздержанию и теперь, похожий на зверя в клетке, метал во все стороны взгляды, излучавшие страх, вожделение и глупость. А поскольку он был глуп, ему не приходило в голову, что повесы из его отрочества уже не мальчишки, и когда разносчик газет кричал прямо ему в лицо: «Пресса!»[40 - …«Пресса!»… – Здесь имеется в виду ежедневная газета «La Presse» («Пресса»), выходившая с перерывами с 1836 по 1935 г.], он дрожал не столько от желания, сколько от ужаса, полагая, что его узнали и выследили.
Но, лишенный радостей, принесенных в жертву набережной Орсе, г-н де Вогубер испытывал иногда внезапные сердечные порывы; потому-то ему все еще хотелось нравиться. Он заваливал министерство несусветным количеством писем, а какие хитрости собственного изобретения он пускал в ход, каких уступок добивался именем г-жи де Вогубер (которая благодаря своей дородности, родовитости, мужеподобности, а главное, благодаря заурядности супруга слыла обладательницей выдающихся талантов и, в сущности, сама исполняла обязанности посланника) – и все лишь для того, чтобы в персонал дипломатической миссии был зачислен без всяких уважительных причин какой-нибудь молодой человек, не имеющий каких бы то ни было заслуг. Правда, несколько месяцев или лет спустя, когда г-ну де Вогуберу мерещилось, что ничтожный атташе, ничего дурного не замышлявший, держит себя с начальником как-то холодно, он решал, что юнец его презирает или предает, и тогда он с таким же истерическим пылом бросался его карать, как прежде – осыпать благодеяниями. Он лез из кожи вон, чтобы наглеца отозвали, и глава дирекции по политическим вопросам получал ежедневные письма: «Когда уже вы избавите меня от этого шельмеца? Приструните его для его же пользы. Пускай поголодает, это его вразумит». По этой причине должность атташе при царе Теодозе была незавидной. Но в остальном г-н де Вогубер благодаря безупречному здравому смыслу светского человека был одним из лучших представителей французского правительства за границей. Позже, когда его сменил человек, вроде бы его превосходивший, ярый республиканец, искушенный во всем на свете, между Францией и страной, которой правил царь, тут же вспыхнула война.
Подобно г-ну де Шарлюсу, г-н де Вогубер не любил здороваться первым. И тот и другой предпочитали «отвечать», вечно опасаясь, что человек, которому они не прочь были протянуть руку, с их последней встречи успел услышать на их счет сплетни. Обо мне г-ну де Вогуберу не приходилось беспокоиться: я, разумеется, подошел поздороваться первым, хотя бы из-за разницы в возрасте. Он откликнулся радостно и восторженно, причем взгляд его продолжал метаться, словно со всех сторон было полно запретной люцерны, которую ему хотелось пощипать. Я решил, что приличней будет попросить, чтобы сперва он представил меня г-же де Вогубер, а уж потом заговаривать о представлении принцу. Услыхав мою просьбу, он, кажется, обрадовался и за себя, и за жену и решительным шагом подвел меня к маркизе. Едва мы оказались перед ней, он весьма уважительно указал ей на меня взглядом и жестом руки, но ни слова не промолвил и тут же юркнул в сторону, оставив меня наедине с женой. Она немедленно протянула мне руку, не имея понятия, кому адресует эту любезность: я понял, что г-н де Вогубер забыл, как меня зовут, а может быть, даже меня не узнал, но из вежливости не желал в этом признаться, а потому свел представление к простой пантомиме. Так что я не очень-то преуспел в своих планах: разве может представить меня хозяину дома женщина, не знающая, как меня зовут? Вдобавок ясно было, что я обязан немного побеседовать с г-жой де Вогубер. А это удручало меня с двух точек зрения. Мне не хотелось застрять на этом приеме, потому что я взял Альбертине ложу на «Федру» и договорился с ней, что незадолго до полуночи она приедет ко мне в гости. Я, конечно, ничуть не был в нее влюблен: приглашая ее в тот вечер, я делал уступку чистой чувственности, хотя в такое знойное время года чувственность, вырываясь на свободу, охотней вселяется в органы вкуса, а больше всего ищет прохлады. Она мечтает не столько о девичьих поцелуях, сколько об оранжаде, о ванне; ее тянет полюбоваться на влажную сочную луну, к которой припадают жаждущие небеса. Но Альбертина и сама напоминала мне о морской прохладе, а кроме того, я надеялся, что ее близость избавит меня от сожалений о том, что я расстанусь с множеством прелестных лиц (потому что на приеме у принцессы были не только дамы, но и юные девушки). Кстати, бурбонская и угрюмая физиономия представительной г-жи де Вогубер была начисто лишена привлекательности.
В министерстве без тени насмешки говорили, что в этой супружеской паре юбку носит муж, а брюки жена. И в этом было больше правды, чем можно подумать. Г-жа де Вогубер была мужчиной. Была ли она такой изначально или изменилась со временем – не все ли равно: и в том и в другом случае перед нами одно из самых трогательных чудес природы, которое, особенно если речь об изменении, обнаруживает сходство человеческого царства с царством цветов. Рассмотрим первую гипотезу: если будущая г-жа де Вогубер изначально была такой тяжеловесно мужеподобной – природа, прибегнув к дьявольской, но благодетельной уловке, придает девушке обманчивую внешность мужчины. И подросток, который не любит женщин и хочет исцелиться, радуется, что может схитрить и найти себе невесту, похожую на рыночного грузчика. В обратном случае, если поначалу женщина не обладает мужскими чертами, она приобретает их понемногу, чтобы нравиться мужу, в сущности, бессознательно, из своего рода мимикрии, заставляющей некоторые цветы вырабатывать сходство с насекомыми, которых им хочется привлечь. Ей грустно, что ее не любят, грустно, что она не мужчина, – поэтому она становится мужеподобной. И даже отрешаясь от случая, который мы сейчас обсуждаем, – кто из нас не замечал, до чего похожи друг на друга становятся с течением времени самые обычные супруги: иногда они даже заимствуют характерные черты друг у друга! Князь де Бюлов[41 - Бернгард, князь фон Бюлов (1840–1929) – немецкий политик, при Вильгельме II был канцлером империи, позже, в 1915 г., посланником в Риме. Женился на итальянке Марии Беккаделли. Холм Пинчо в Риме – место прогулок римлян и туристов, огромный сад с великолепными постройками.], бывший германский канцлер, был женат на итальянке. Со временем те, кто гулял на Пинчо, стали замечать, сколько итальянского изящества приобрел супруг-немец и сколько немецкой грубоватости проступило в итальянской княгине. Если брать крайние случаи в появлении вышеописанных законов, всем известен выдающийся французский дипломат, чье происхождение выдает только его имя, одно из славнейших на Востоке[42 - …выдающийся французский дипломат… имя, одно из славнейших на Востоке. – Этот дипломат – Морис Палеолог (1859–1944), происходивший из знаменитого византийского императорского рода; впрочем, по другим данным, его семья была болгарского происхождения, а фамилию Палеолог принял лишь его отец.]. С приходом зрелости, а потом и старости в нем все явственней проступали восточные черты, о которых раньше никто и не подозревал, и теперь, видя его, окружающие жалеют, что он не носит фески, ведь она была бы ему к лицу.
Но вернемся к нравам, о которых понятия не имел посланник, чей силуэт, по-старозаветному монументальный, мы сейчас начертали: г-жа де Вогубер воплощала в себе тот же врожденный или благоприобретенный облик, чьим бессмертным образцом была принцесса Палатинская[43 - Шарлотта-Элизабет Баварская (1652–1722), принцесса Палатинская, в 1671 г. вышла замуж за Филиппа Орлеанского, брата короля. Мужеподобная внешне, хорошо образованная, она в самом деле оставила письма, изобилующие более чем откровенными подробностями о нравах Версальского двора, в частности о гомосексуальных наклонностях многих вельмож. О ней уже упоминалось в томе «Под сенью дев, увенчанных цветами».], вечно в костюме для верховой езды, перенявшая у супруга не только мужеподобие, но и недостатки мужчин, которые не любят женщин; в своих письмах она передавала сплетни об отношениях между всеми знатными вельможами при дворе Людовика XIV. Таким женщинам, как г-жа де Вогубер, добавляет мужеподобности еще и то, что мужья ими не интересуются; они этого стыдятся и увядают в одиночестве, постепенно теряя все очарование женственности. В конце концов у них появляются достоинства и недостатки, которых нет у их супругов. Чем легкомысленней, женоподобней, бестактней муж, тем больше жена превращается в угрюмое олицетворение добродетелей, которыми он должен бы обладать.
Правильные черты г-жи де Вогубер поблекли от следов унижения, тоски, негодования. Я чувствовал, увы, что она рассматривает меня с живым любопытством, считая одним из юношей, которые нравятся г-ну де Вогуберу, и что теперь, когда ее стареющего мужа привлекают молодые, ей самой хотелось бы быть такой, как я. Она смотрела на меня внимательно, как провинциалки, присматривающие себе в каталоге модных новинок костюмчик-тальер[44 - …костюмчик-тальер… – Дамский костюм «тальер», состоящий из жакета с длинной юбкой, был модной новинкой начала XX в.], ведь он так идет нарисованной красавице, всегда, в сущности, одной и той же, но в силу иллюзии, сотворенной разнообразием поз и туалетов, распадающейся на множество отдельных особ. Г-жу де Вогубер притягивало ко мне то же влечение, что свойственно растительному царству, причем такое сильное, что она даже схватила меня за руку, чтобы я отвел ее выпить стакан оранжада. Но я высвободился, объясняя, что скоро должен уйти, а между тем еще не представился хозяину дома.
Расстояние, отделявшее меня от входа в сады, где он беседовал с несколькими гостями, было невелико. Но меня оно страшило, словно мне предстояло пробиться через полосу пылающего огня.
Многие дамы, которые, кажется, могли бы меня представить, были в саду, где, притворяясь, будто испытывают безудержный восторг, не знали толком, чем заняться. Вообще на подобных приемах все известно заранее. Они обретают черты реальности только на другой день, когда в них вникают те, кого не пригласили. Когда истинный писатель, лишенный глупого самолюбия, свойственного множеству сочинителей, читает статью критика, всегда искренне им восхищавшегося, и видит, что тот приводит имена посредственных литераторов, а о нем умалчивает, он мог бы и удивиться, но ему недосуг на этом застревать: он спешит к своим книгам. А светской даме делать нечего, и, читая в «Фигаро»: «Вчера принц и принцесса Германтские давали большой прием и т. д.», она восклицает: «Три дня тому назад я болтала с Мари-Жильбер, а она мне ни слова не сказала!» – и ломает себе голову, гадая, чем она не угодила Германтам. Надо сказать, что иной раз те, кого приглашали на празднества принцессы Германтской, бывали удивлены не меньше, чем те, кого не приглашали. Эти празднества разражались в моменты, когда их ждали меньше всего, и собирали людей, которых до того принцесса Германтская годами забывала. А светские люди, как правило, такие ничтожества, что ценят друг друга исходя исключительно из проявленной к ним любезности: тех, кто пригласил, обожают, тех, кто пренебрег, – ненавидят. И когда принцесса в самом деле кем-то пренебрегала, даже друзьями, и не слала им приглашений, часто это объяснялось ее страхом вызвать неудовольствие «Паламеда», который успел их «отлучить». Так что я мог не сомневаться, что она не говорила обо мне с г-ном де Шарлюсом, иначе бы я здесь не оказался. Сейчас он стоял у входа в сад, рядом с германским посланником, облокотясь о перила широкой лестницы, которая вела к особняку, и хотя его окружало несколько поклонниц, заслонявших его от гостей, те непременно должны были подходить к нему и здороваться. Он отвечал, называя каждого поименно. Слышалось то «добрый вечер, господин де Азе», то «добрый вечер, госпожа де ла Тур дю Пен-Верклоз», то «добрый вечер, госпожа де ла Тур дю Пен-Гуверне, то «добрый вечер, Филибер», то «добрый вечер, моя дорогая посланница», и так далее. Все сливалось в непрерывный стрекот, перемежевавшийся благосклонными советами и вопросами, ответов на которые г-н де Шарлюс не слушал и произносил свои реплики с наигранной мягкостью и доброжелательством, желая подчеркнуть свое равнодушие: «Берегитесь, как бы малютка не простудилась, в саду всегда немного сыро… Добрый вечер, госпожа де Брантес[45 - …госпожа де ла Тур дю Пен-Верклоз… госпожа де Брантес. – Среди гостей принцессы Германтской многие носят имена, упомянутые в справочнике «Весь Париж» на 1908 год: это и маркиз и маркиза де ла Тур дю Пен-Гуверне, и граф и графиня де ла Тур дю Пен-Верклоз, и маркиза де Брантес. Последняя, тетка Робера де Монтескью, фигурирует у Пруста в пастише на Сен-Симона (сб. «Пастиши и смесь», 1919).]. Добрый вечер, госпожа де Мекленбург[46 - …госпожа де Мекленбург. – Представители дома Мекленбургов упоминаются в мемуарах Сен-Симона.]. А дочка с вами? В своем восхитительном розовом платье? Добрый вечер, Сен-Жеран». В таком поведении, разумеется, таилась гордыня. Г-н де Шарлюс знал, что он Германт и на этом празднике он главный. Но дело было не только в гордыне: само слово «праздник» для человека с эстетическими задатками означало нечто роскошное, редкостное, когда этот праздник разыгрывается не в великосветском особняке, а на картине Карпаччо или Веронезе. Хотя, скорее всего, г-н де Шарлюс, который был как-никак германским принцем, представлял себе праздник из «Тангейзера», а сам себе казался ландграфом, при входе в Вартбург встречающим благосклонным словом каждого из гостей, покуда их вереницу, втекающую в замок или в парк, стократно приветствует длинная фраза из знаменитого «Марша»[47 - …из знаменитого «Марша». – Имеется в виду марш и хор из второго акта оперы Вагнера «Тангейзер».].
Однако пора было решаться. Под деревьями я видел более или менее дружественных дам, но они выглядели как-то по-другому, потому что сейчас они были у принцессы, а не у ее кузины, и сидели не перед тарелками саксонского фарфора, а под ветвями каштана. Элегантность обстановки была ни при чем. Будь здесь все куда менее элегантно, чем у «Орианы», я бы испытывал ту же растерянность. Если у нас в гостиной гаснет электричество и приходится заменить его масляными лампами, нам кажется, что все изменилось. Из нерешительности меня вывела г-жа де Сувре. «Добрый вечер, – сказала она, подходя ко мне. – Давно ли вы виделись с герцогиней Германтской?» Она великолепно умела придать подобным фразам такую интонацию, чтобы вы поняли, что она их произносит не из чистой глупости, как люди, не знающие, о чем говорить, которые в тысячный раз подступают к вам с упоминаниями общих знакомых, подчас весьма отдаленных. Ее взгляд, напротив того, оказался тоненькой путеводной нитью, означавшей: «Не подумайте, что я вас не узнала. Вы тот молодой человек, которого я видела у герцогини Германтской. Прекрасно вас помню». К сожалению, покровительство, простершееся надо мной благодаря этой фразе, на первый взгляд бессмысленной, но по замыслу деликатной, развеялось сразу же, как только я захотел им воспользоваться. Когда требовалось поддержать чью-нибудь просьбу, обращенную к важной персоне, г-жа де Сувре владела искусством предстать перед просителем в роли той самой особы, которая его рекомендует, а высокопоставленному знакомому продемонстрировать, что она и не думает никого рекомендовать; этот двусмысленный жест открывал ей кредит благодарности в глазах просителя, при этом важной персоне она ничем не была обязана. Видя обходительность г-жи де Сувре, я расхрабрился и попросил ее представить меня хозяину дома; она улучила момент, когда его взгляд был обращен в другую сторону, по-матерински обняла меня за плечи и, улыбаясь отвернувшемуся принцу, который не мог нас видеть, подтолкнула меня в его сторону якобы покровительственным, а на самом деле бесполезным жестом, так что я, в сущности, ничуть не приблизился к цели. Вот как малодушны светские люди.
Я как раз собрался еще раз переменить положение, чтобы он меня не заметил, мне это было ни к чему, да и некогда. И что же я увидел! Барон внезапно широко открыл глаза и с невероятным вниманием смотрел на Жюпьена – они раньше никогда не встречались и теперь впервые столкнулись лицом к лицу, ведь г-н де Шарлюс приходил в особняк Германтов только в послеобеденные часы, когда бывший жилетник был в конторе – а тот замер на пороге своей мастерской, не в силах двинуться с места, словно пустил корни, подобно растению, и с восхищением загляделся на брюшко стареющего барона. То, что произошло дальше, было еще поразительней: г-н де Шарлюс шевельнулся – и Жюпьен, словно повинуясь законам некоего тайного искусства, тоже шевельнулся и принял позу, гармонировавшую с новой позой барона. Теперь г-н де Шарлюс пытался скрыть впечатление, которое произвела на него встреча, и притворялся равнодушным, но по его походке, движениям, взгляду, устремленному вдаль, по тому, как старательно он придавал своим прекрасным глазам чарующее выражение, напускал на себя самодовольный, небрежный, нелепый вид, заметно было, что уходить ему не хочется. А Жюпьен, всегда, сколько я его знал, такой смиренный и добродушный, теперь немедленно и совершенно симметрично барону вскинул голову, приосанился, подбоченился с гротескно нахальным видом, выпятил зад, и все это с кокетством орхидеи, чающей приближения шмеля. Я и не знал, что он может выглядеть так неприятно. Однако я не знал за ним и способности без всякой подготовки так сыграть свою роль в этой немой сцене: она казалась прекрасно отрепетированной, даром что он впервые столкнулся с г-ном де Шарлюсом; такое инстинктивное совершенство дается человеку, повстречавшему в чужой стране земляка, с которым при первом знакомстве понимаешь друг друга с полуслова и выражаешь свои мысли одинаково.
Причем в этой сцене не было ничего особенно смешного, скорее в ней проглядывало, если угодно, нечто странное и все явственней проступала какая-то изначальная красота. Г-н де Шарлюс рассеянно, с притворным равнодушием опускал веки, но тут же глаза его широко раскрывались и метали на Жюпьена внимательный взгляд. Вероятно, он чувствовал, что именно в этом месте подобную сцену нельзя затягивать – не то по причинам, о которых будет сказано позже, не то из ощущения быстротечности всего на свете, из-за которого мы заботимся о том, чтобы каждый удар попадал в цель, и умиляемся при виде чужой любви; так или иначе, казалось, что, взглядывая на Жюпьена, г-н де Шарлюс всякий раз что-то говорит, поэтому его взгляды отличались от того, как мы обычно смотрим на знакомых или незнакомых; он вглядывался в Жюпьена пристально, будто вот-вот произнесет: «Простите ради бога, но у вас к спине пристала длинная белая нитка», или «По-моему, я не ошибся, вы ведь тоже из Цюриха, мне сдается, я часто встречал вас у одного антиквара». Глаза г-на де Шарлюса поминутно допытывались о чем-то у Жюпьена, и это напоминало бесконечно повторяющиеся через равный промежуток времени вопросительные фразы у Бетховена, всякий раз превосходно подготовленные и предвещающие новую тему, или переход в другую тональность, или вступление другого инструмента. Но источником красоты, сквозившей во взглядах г-на де Шарлюса и Жюпьена, было, напротив, то, что эти взгляды, казалось, ни к чему не вели, во всяком случае теперь. Я впервые заметил в бароне и Жюпьене эту красоту. Глаза у обоих озарились светом небес – но не тех небес, что над Цюрихом, а тех, что раскинулись над каким-то восточным городом, и я еще не догадывался, что это за город. Каков бы ни был общий интерес, привлекавший и г-на де Шарлюса, и жилетника, они уже, казалось, заключили соглашение, а взгляды, которыми они теперь обменивались, – это были ритуальные прелюдии, сами по себе не нужные, что-то вроде торжественных приемов, предшествующих свадьбе, когда она уже назначена. Если же мы прибегнем к сравнениям, которые еще ближе к природе (ведь разнообразие этих сравнений вполне оправдано уже тем, что один и тот же человек, если смотреть на него несколько минут подряд, представляется наблюдателю то человеком, то человеком-птицей, то человеком-насекомым), то с этой точки зрения они были похожи на двух птиц, самца и самочку, причем самец стремился вперед, а самочка – Жюпьен – никак не откликалась на его уловки и смотрела на нового друга без удивления, с пристальным вниманием, которое, наверно, представлялось ей более волнующим и единственно полезным, пока самец делает первые шаги, и лишь приглаживала себе перья клювом. Наконец Жюпьену стало мало казаться равнодушным; теперь всего один шаг отделял его от уверенности, что барон загорелся и готов устремиться за ним вдогонку; он решился идти в свою контору и вышел из ворот. Но прежде чем выскользнуть на улицу, он два или три раза оглянулся, и барон, трепеща от страха потерять его из виду (но все же беспечно насвистывая и не забыв бросить «до свидания» полупьяному швейцару, который принимал гостей у себя в комнатушке за кухней и даже его не услышал), проворно бросился вслед за ним. В тот момент, когда г-н де Шарлюс выходил из ворот, бурча себе под нос наподобие шмеля, во двор влетел другой шмель, настоящий. Кто знает, быть может, именно его, этого нового пришельца, заждалась орхидея на окне, быть может, именно он принес ей драгоценную пыльцу, без которой она будет прозябать нетронутой? Но я отвлекся от наблюдений за кружением насекомого, потому что переключил внимание на Жюпьена, которого, по-видимому, так взволновало появление г-на де Шарлюса, что он оставил дома пакет, который хотел взять с собой (хотя, возможно, пакет был забыт по более простой причине), и теперь вернулся его забрать, а вслед за Жюпьеном вернулся барон. Г-н де Шарлюс, решившись форсировать события, попросил у жилетника огонька, но тут же добавил: «Я попросил у вас огонька, но оказывается, я забыл дома сигары». Законы гостеприимства одержали верх над правилами кокетства: «Входите, я дам вам все необходимое», – произнес жилетник, и презрение на его лице сменилось радостью. Дверь мастерской затворилась за ними, и больше я ничего не услышал. Шмеля я потерял из виду и не знал, то? ли это насекомое, которое нужно орхидее, но я больше не сомневался, что редчайшее насекомое и прикованный к месту цветок чудесным образом получили возможность соединиться; тем временем (заметим просто для сравнения двух счастливых, каждая в своем роде, случайностей, позволяющих без притязаний на какую бы то ни было научность сопоставить законы ботаники с тем, что иногда весьма неудачно называют гомосексуальностью) г-н де Шарлюс, годами приходивший в этот дом в часы, когда Жюпьена здесь не было, благодаря случайному недомоганию г-жи де Вильпаризи встретился с жилетником, а вместе с ним повстречал и удачу, уготованную для таких, как он, человеком, подобным Жюпьену, который мог бы оказаться и моложе, и красивее Жюпьена и чье предназначение на земле – дарить наслаждение таким, как барон, потому что этому человеку нравятся только пожилые мужчины.
Впрочем, все сказанное я понял только спустя несколько минут, потому что реальность накрепко связана с невидимостью, от которой ее могут очистить лишь какие-нибудь особые обстоятельства. Как бы то ни было, в тот момент мне было очень досадно, что я больше не слышал разговора жилетника с бароном. Тут на глаза мне попалась мастерская, которая отдавалась внаем; от лавки Жюпьена ее отделяла лишь тонкая перегородка. Чтобы туда проникнуть, мне достаточно было вернуться в нашу квартиру, зайти в кухню, оттуда спуститься по черной лестнице в подвал и пройти по нему вдоль всего двора, а добравшись до подвального помещения, где еще несколько месяцев назад столяр собирал свои изделия, а теперь Жюпьен рассчитывал хранить уголь, подняться по нескольким ступенькам, которые вели в лавочку. Таким образом я мог пробраться туда украдкой, и никто бы меня не увидел. Это было самое разумное решение. Но я выбрал другой способ и прошел прямо по двору, стараясь остаться незамеченным. Мне это удалось – полагаю, скорее случайно, чем из благоразумия. И в сущности, то, что я предпринял такую рискованную попытку, хотя пройти подвалом было совершенно безопасно, можно объяснить одной из трех причин, если вообще на то была причина. Прежде всего, моим нетерпением. Потом, возможно, смутной памятью о сцене в Монжувене, когда я прятался перед окном мадмуазель Вентейль. На самом деле, когда мне случалось присутствовать при такого рода вещах, я всегда умудрялся поставить себя в самое опрометчивое и неправдоподобное положение, как будто такие открытия даются только в награду за тайный и в высшей степени рискованный демарш. И наконец, в третьей причине, которою я бессознательно руководствовался больше всего, мне совестно признаваться: уж больно она смахивает на ребячество. С тех пор как я со всей дотошностью следил за событиями Англо-бурской войны[5 - …за событиями Англо-бурской войны… – Англо-бурская война (1899–1902) – война Великобритании против двух республик Южной Африки, населенных колонистами родом из Голландии, – Оранжевого свободного государства и Трансвааля, закончившаяся победой англичан и превращением обеих республик в английские колонии.], ища доказательств тому, что военные принципы Сен-Лу не оправдываются на деле, я принялся перечитывать старые книги о путешествиях и научных экспедициях. Эти книги увлекали меня и придавали храбрости в повседневной жизни. Когда из-за приступов я по нескольку дней и ночей кряду не мог спать и, мало того, не в силах был ни прилечь, ни поесть, ни попить, в те минуты, когда я доходил до истощения и мне делалось до того худо, что казалось, этому не будет конца, я думал о каком-нибудь путешественнике, выброшенном на прибрежный песок, одурманенном ядовитыми травами, дрожащем от лихорадки в своей промокшей от морской воды одежде, – но вот уже спустя два дня он чувствует себя лучше и наугад пускается в путь, на поиски туземцев, хоть они ведь могут оказаться и людоедами. Такие примеры меня бодрили, возвращали мне надежду, и мне стыдно было, что я на мгновение пал духом. Теперь я думал о бурах, которые, столкнувшись лицом к лицу с английскими войсками, смело шли вперед по открытой местности, чтобы достичь зарослей, где можно будет укрыться; «не хватало еще мне, – думал я, – малодушничать, когда театр военных действий – это всего-навсего наш двор, ведь я несколько раз без малейшего страха дрался на дуэли во времена дела Дрейфуса[6 - …я несколько раз… во время дела Дрейфуса… – В декабре 1894 г. офицер французской армии Альфред Дрейфус (1859–1935) был несправедливо обвинен в шпионаже в пользу Германии и приговорен к разжалованию и пожизненной ссылке. Французские интеллектуалы того времени, в том числе Эмиль Золя, Анатоль Франс, Жорж Клемансо и молодой Марсель Пруст, стали требовать пересмотра дела и в конце концов в 1906 г. добились окончательного оправдания Дрейфуса. Пруст и сам однажды дрался на дуэли во времена дела Дрейфуса (1896–1906), а именно в 1897 г., хотя повод для поединка не имел отношения к этому делу: он вызвал критика Жана Лоррена, опубликовавшего оскорбительную рецензию на его первую книгу «Радости и дни».], а теперь-то бояться нечего, разве что меня увидят соседи, у которых есть дела поважнее, чем выглядывать во двор».
Но когда я очутился в мастерской, изо всех сил стараясь ни в коем случае не скрипнуть половицей и понимая, что здесь у меня слышен малейший шорох из лавки Жюпьена, мне стало ясно, как неосторожно вели себя Жюпьен и г-н де Шарлюс и как им повезло.
Я не смел шевельнуться. Конюх Германтов, пользуясь, вероятно, тем, что хозяева в отъезде, перенес в мастерскую столяра лестницу-стремянку, до того стоявшую в каретном сарае. И если бы я на нее взобрался, я бы мог открыть оконце, прорезанное в перегородке, и слышать все так, будто находился в мастерской Жюпьена. Но я боялся шуметь. Да это было и не нужно. Мне даже не пришлось жалеть, что я потратил несколько минут, чтобы добраться до моей комнатушки. Судя по тому, что первое время из мастерской Жюпьена доносились только нечленораздельные звуки, можно было предположить, что слов прозвучало очень немного. Правда, в этих звуках было столько свирепости, что, если бы параллельно им всякий раз не раздавались октавой выше жалобные стоны, можно было бы подумать, что рядом со мной один человек перерезает горло другому, а затем убийца вместе с воскресшей жертвой принимают ванну, чтобы скрыть следы преступления. Позже я пришел к выводу, что от наслаждения бывает шуму не меньше, чем от страданий, особенно когда за ним немедленно следует страх зачать ребенка (о чем в данном случае и речи быть не могло, если пренебречь малоубедительным примером из «Золотой легенды»)[7 - «Золотая легенда» – сборник средневековых легенд и житий святых, который составил в XIII в. Джакопо да Варацце (Иаков из Ворагина). Однако историй о том, как мужчина рожал дитя, там нет. Пруст, по всей вероятности, опирается на книгу Эмиля Маля «Религиозное искусство XIII века во Франции» (1898), которую брал у друзей, использовал для своих статей о Рёскине и прекрасно знал; говоря о влиянии Джакопо да Варацце на средневековую иконографию, Маль упоминает рассказ о Нероне, который во что бы то ни стало желал, чтобы его возлюбленный родил ему ребенка, и требовал от докторов, чтобы они изыскали для этого средство. Если верить легенде, в результате угроз Нерона и усилий медицины на свет появилась… лягушка.] или забота о чистоте. Наконец примерно через полчаса (за это время я крадучись забрался на стремянку, чтобы подсматривать в окошко, но так и не открыл его) завязался разговор. Жюпьен энергично отказывался от денег, которые хотел ему дать г-н де Шарлюс.
Затем г-н де Шарлюс вышел из мастерской. «Зачем вы так выбриваете подбородок? – ласково сказал жилетник барону. – Хорошая борода – это так красиво!» – «Фи, терпеть не могу», – возразил барон. Однако в дверях он задержался, расспрашивая Жюпьена о нашем квартале. «Вы знаете что-нибудь о продавце каштанов там, на углу, не о том, что слева, это ужас, а о том, что по четной стороне, – такой здоровенный чернявый парень? А в аптеке напротив лекарства развозит очень славный велосипедист». Эти расспросы, очевидно, обидели Жюпьена. С видом оскорбленной в своих чувствах кокетки он приосанился и заметил: «А вы повеса, как я посмотрю». Его печальный, холодный, манерный упрек, видимо, задел г-на де Шарлюса за живое, и, стремясь загладить дурное впечатление от своего любопытства, он стал о чем-то просить Жюпьена, слишком тихо, чтобы я мог расслышать слова, но понятно было, что для исполнения его просьбы им придется вернуться в мастерскую и что эта просьба тронула и утешила жилетника, потому что он впился в пухлое и налитое кровью лицо барона, обрамленное сединой, долгим, счастливым взглядом человека, услыхавшего что-то чрезвычайно лестное для его самолюбия, согласился исполнить то, о чем просил барон, и, отпустив несколько непочтительных замечаний, вроде: «Да уж, филейная часть у вас что надо!», просиял и сказал с волнением, благодарностью и превосходством в голосе: «Да иди уже, иди, баловник!»
– Я потому возвращаюсь к вопросу о водителе трамвая, – настойчиво продолжал г-н де Шарлюс, – что, кроме всего прочего, это бы скрасило мне обратный путь. Я иногда как халиф, который бродил по Багдаду под видом простого купца[8 - Я иногда как калиф, который бродил по Багдаду под видом простого купца… – Это одна из многочисленных ссылок на сборник арабских сказок «Тысяча и одна ночь», рассеянных по роману Пруста. Так, в сказке «Рассказ о носильщике и трех девушках» читаем: «…в эту ночь халиф Харун аль-Рашид вышел пройтись и послушать, не произошло ли чего-нибудь нового, вместе со своим визирем… (а халиф имел обычай переодеваться в одежды купцов)» (пер. М. Салье).], снисхожу до того, чтобы погнаться за какой-нибудь занятной особой, чей облик показался мне примечательным. – Я обратил внимание на ту же характерную черту в его речи, которую раньше заметил у Берготта. Если бы ему когда-нибудь пришлось давать показания в суде, он бы употреблял не те выражения, которые скорее убедят судей, а те берготтескные фразы, которые ему с ходу подсказывал его неповторимый литературный темперамент и которые ему приятно было произносить. Вот и г-н де Шарлюс разговаривал с жилетником тем же языком, что со светскими знакомыми, и даже злоупотребляя своими излюбленными словечками: робость, с которой он пытался бороться, не то оборачивалась чрезмерной гордыней, не то побуждала его безотчетно (ведь мы смущаемся в обществе людей не нашего круга) приоткрывать свое истинное «я», а оно в самом деле было полно гордыни и несколько безумно, как говорила герцогиня Германтская. «Чтобы не сбиться со следа, – продолжал он, – я, как какой-нибудь скромный учитель или молодой красавчик врач, вскакиваю в тот же трамвай, что эта особа, которую я упоминаю в женском роде лишь потому, что так полагается, ведь говорим же мы о принце: „августейшая особа“. Если она пересаживается с трамвая на трамвай, я приобретаю, заодно, вероятно, с чумной бациллой, билетик на „пересадку“, номерной, причем номер у него далеко не всегда первый, хотя это ведь мой номер! Таким манером я „пересаживаюсь“ раза три, а то и четыре! Иногда я совершенно обессиленный оказываюсь в одиннадцать вечера на Орлеанском вокзале и вынужден ехать назад! И если бы только на Орлеанском вокзале! Однажды, например, мне никак не удавалось завязать разговор, и я доехал до самого Орлеана в одном из этих ужасных вагонов, где между треугольничками устройств, именуемых „багажными сетками“, вам мозолят глаза фотографии главных достопримечательностей, расположенных по этой ветке. Там нашлось только одно свободное место, передо мной в качестве исторического памятника торчал Орлеанский собор, самый уродливый во Франции[9 - …торчал Орлеанский собор… – Собор Святого Креста в Орлеане довольно поздний, он строился с XVII по XIX в. Возможно, г-н де Шарлюс разделяет распространенное в его время мнение, что этот собор в стиле «пламенеющей готики» выглядит неуместно старомодным; вот и Виктор Гюго высказался о нем неодобрительно: «Эта безобразная церковь в Орлеане издали так много обещает, а вблизи нарушает все свои обещания» («Рейн, письма к другу», 1842).], и принудительно на него смотреть было так тяжело, будто разглядываешь его башни в стеклянном шарике внутри одной из этих сувенирных ручек, от которых воспаляются глаза. Я вышел в Обре? вслед за интересовавшей меня молодой особой, которую, увы, на перроне ждала родня, а я-то подозревал ее во всех пороках, кроме этого! Единственным моим утешением, пока я ждал обратного поезда, оказался дом Дианы де Пуатье[10 - Я вышел в Обре?… дом Дианы де Пуатье. – Городок Флери-лез-Обре расположен в трех километрах от Орлеана. Дом Дианы де Пуатье на самом деле – это особняк Кабю, прекрасный образчик Ренессанса, в котором затем находился исторический музей Орлеана, уничтоженный пожаром в 1940 г.; вопреки легенде, он не имеет отношения к Диане де Пуатье (1499–1566), любовнице Генриха II и ярой гонительнице гугенотов.]. Хотя, даром что она очаровала одного из моих венценосных предков, мне по вкусу более осязаемая красота. И вот, чтобы уберечься от тоски одинокого возвращения домой, мне бы хотелось познакомиться с кондукторами спального вагона и омнибуса. Словом, пускай это вас не шокирует, – заключил барон, – это просто манера поведения. Например, я не желаю никакого физического обладания, когда вижу светских молодых людей, но, чтобы успокоиться, мне нужно их задеть, я имею в виду не физически прикоснуться, а задеть их за живое. Как только молодой человек, прежде оставлявший мои письма без ответа, начинает мне беспрестанно писать, как только я почувствую, что его душа в моем распоряжении, так сразу же и успокаиваюсь, вернее, успокоился бы, если бы вскоре меня не начал занимать другой юноша. Любопытно, не правда ли? Кстати, о светских молодых людях, вы никого не знаете среди тех, кто сюда приходит?» – «Никого, детка. Хотя нет, есть один, черноволосый, очень высокий, с моноклем, вечно смеется, вертлявый такой». – «Не пойму, о ком вы говорите». Жюпьен дополнил описание, г-н де Шарлюс не мог взять в толк, о ком речь, ведь он не знал, что жилетник принадлежит к людям, более многочисленным, чем нам кажется, которые не запоминают, какого цвета волосы у малознакомого человека. А я знал об этом недостатке Жюпьена, заменил черные волосы белокурыми, и понял, что портрет точно описывает герцога де Шательро. «Возвращаясь к юношам не из простых, – продолжал барон, сейчас мне вскружил голову один странный паренек, умный маленький буржуа, он ведет себя по отношению ко мне на удивление неучтиво. Он совершенно не представляет себе ни моего необычайного величия, ни того, насколько сам он микроскопический вибрион. В конце концов, что мне за дело, пускай этот осленок ревет сколько ему угодно перед моей величавой епископской ризой». – «Епископской! – вскричал Жюпьен, который не понял ничего из последних слов г-на де Шарлюса, но слово «епископской» его изумило. – Но религия же тут ни при чем», – возразил он. «У меня в роду три папы[11 - У меня в роду три папы. – Вопрос о трех папах изучен французским исследователем Вилли Аше в отдельной статье; г-н де Шарлюс через герцогов Бульонских состоял в родстве с семейством Медичи, то есть с Львом X (был папой в 1513–1521), Клементом VII (1523–1534) и Львом XI (1605).], – пояснил г-н де Шарлюс, – я обладаю наследственным правом облачаться в алый цвет благодаря двоюродному деду-кардиналу, чья племянница передала моему деду по наследству герцогский титул. Вижу, вы глухи к метафорам и равнодушны к французской истории. Впрочем, – добавил он, не столько в заключение своей речи, сколько в предостережение, – пускай меня влечет к молодым особам, которые бегут от меня, из страха, разумеется, поскольку одно лишь почтение запечатывает им уста и не позволяет крикнуть, что они меня любят, мой интерес как-никак требует от них принадлежности к высшей знати. К тому же, как бы я к ним ни тянулся, их напускное равнодушие может произвести на меня действие прямо противоположное. Если по глупости они упорствуют, мне делается противно. Приведу пример из более вам привычного класса общества: когда мой особняк подновляли, я не захотел разжигать ревность среди всех герцогинь, оспаривавших друг у друга честь приютить меня, чтобы потом иметь право мне поминать, что я пользовался их гостеприимством, словом, я на несколько дней перебрался, как говорится, в отель. Я был знаком с одним коридорным, я указал ему на одного занятного юного лакея, закрывавшего дверцы экипажей, но юнец проявил строптивость. В конце концов, доведенный до крайности, я, желая доказать чистоту моих намерений, предложил ему непомерные деньги за то, чтобы он пришел ко мне в номер на пять минут для простого разговора. Я прождал напрасно. Тогда меня охватило такое отвращение, что я выходил из отеля только через служебную дверь, лишь бы не видеть рожицу этого мерзкого маленького шалопая. Позже я узнал, что он не получил ни одного из моих писем, все они были перехвачены, первое коридорным, который ему позавидовал, второе добродетельным дневным швейцаром, а третье ночным швейцаром, который любил мальчишку и спал с ним в тот час, когда на небеса восходит Диана. Однако отвращение у меня не прошло, и, если бы мне доставили этого лакея, как простую дичь, на серебряном блюде, я бы его оттолкнул и меня бы стошнило. Беда в том, что с тем юным буржуа мы говорили о серьезных вещах, а теперь между нами все кончено и надежды мои рухнули. Но вы бы могли оказать мне огромную услугу, могли бы свести нас; нет, нет, от одной мысли об этом я повеселел и чувствую, что еще не все пропало».
С самого начала этой сцены с глаз моих спала пелена, и г-н де Шарлюс мгновенно предстал им в совершенно новом облике, как по мановению волшебной палочки. До сих пор я ничего не понимал, а потому ничего не видел. Порок (для удобства воспользуемся этим словом), любой порок, присущий человеку, сопровождает его, подобно незримому гению, которого люди не замечают, пока не узнают, что он здесь. Доброта, коварство, имя, светские связи не бросаются в глаза, они таятся внутри нас. Даже Одиссей поначалу не узнал Афину[12 - Даже Одиссей поначалу не узнал Афину. – К Одиссею, достигшему пределов Итаки, приходит его покровительница богиня Афина, «…образ приняв пастуха, за овечьим ходящего стадом, / юного, нежной красою подобного царскому сыну» («Одиссея», песнь XIII, перев. В. Жуковского), и Одиссей обращается к ней за помощью, но не узнаёт ее.]. Но боги мигом распознают богов, подобное тянется к подобному, так и г-н де Шарлюс распознал Жюпьена. До сих пор я вел себя с г-ном де Шарлюсом, как рассеянный, который не замечает округлившейся талии своей беременной собеседницы и, слыша, как она с улыбкой твердит ему: «Я что-то устала», упрямо допытывается: «Но быть может, вы нездоровы?» Однако стоит кому-нибудь сказать: «Она ждет ребенка», как он сразу заметит ее живот и уже ничего, кроме живота, замечать не будет. Знание отверзает нам глаза, а развеявшееся заблуждение снабжает нас дополнительным органом восприятия.
Многие не любят признавать, что этот закон имеет к ним хоть какое-то отношение, а ведь они ни в чем не подозревали своих знакомых господ де Шарлюсов, причем довольно долго, пока в один прекрасный день на гладкой поверхности какого-нибудь лица, похожего на все прочие, не проступали буквы, начертанные невидимыми до поры до времени чернилами, и не складывались в слово, любезное древним грекам; чтобы убедить себя, что окружающий мир поначалу представляется им голым, лишенным тысячи прикрас, явленных более просвещенным личностям, этим людям стоит только вспомнить, сколько раз в жизни они оказывались на волосок от того, чтобы совершить бестактность. Ни один признак в лице человека, у которого на лбу ничего не написано, не подсказывал им, что это брат, или жених, или любовник той самой женщины, о которой они уже готовы сказать: «Ну и дрянь!» Но к счастью, сосед вовремя шепнул им словцо, и роковое замечание замерло у них на устах. И тут же, как мене, текел, фарес, всплывают слова: он жених, или брат, или любовник этой женщины, и не подобает при нем обзывать ее дрянью. И это новое сведение, одно-единственное, повлечет за собой полный пересмотр всего, что было ему известно о целой семье: какие-то сведения уйдут в тень, какие-то, наоборот, выступят на первый план. Да, в г-не де Шарлюсе, как конь в кентавре, обитало другое существо, совокуплявшееся не так, как другие мужчины, да, это существо срослось с бароном воедино, но я-то этого никогда не замечал. Теперь абстрактное материализовалось, существо стало понятным, сразу утратило дар невидимости, и превращение г-на де Шарлюса в другого человека оказалось настолько полным, что не только резкие перемены в его лице и голосе, но задним числом даже взлеты и падения в его отношении ко мне, все то, что до сих пор представлялось моему уму непоследовательностью, сделалось ясным, несомненным: так предложение кажется бессмысленным, пока составляющие его буквы разбросаны как попало, но стоит расположить их по порядку – и проступает мысль, которая останется у нас в памяти.
К тому же теперь я понимал, почему недавно, когда г-н де Шарлюс выходил от г-жи де Вильпаризи, мне показалось что он похож на женщину: он и был женщиной! Порода людей, к которой он принадлежал, не так противоречива, как можно подумать: женственность заложена в их натуре, поэтому их идеал – мужественность, и на остальных мужчин они похожи только внешне; внутри их зрачков – отверстий, сквозь которые мы видим вселенную, – заранее запечатлен силуэт не нимфы, но эфеба. Это племя, над которым тяготеет проклятие, племя, обреченное на пожизненную ложь и вероломство, – ведь людям этого племени известно, что их влечение, то, что для всего живого есть наивысшая прелесть бытия, считается достойным кары, постыдным, непристойным; это племя, вынужденное отрекаться от Христа, ведь они, христиане, доведись им предстать перед судом в роли обвиняемых, должны пред Богом и во имя Его отпираться, как от клеветы, от того, что для них главное в жизни; это сыновья, у которых нет матери, ведь они вынуждены лгать ей всю жизнь и даже в час ее кончины; это друзья, лишенные дружбы, хотя часто их бесспорное обаяние привлекает к ним людей и сердца их часто готовы отозваться на дружеский призыв; но разве можно назвать дружбой чувство, которое едва теплится, и то лишь благодаря обману, потому что стоит им хоть раз позволить себе потянуться к кому-нибудь искренне, с доверием – и сразу же их брезгливо оттолкнут; разве что попадется им человек с умом непредвзятым и даже способным на сочувствие, но и он, оставаясь в плену психологических условностей, выведет из услышанного признания, что сам стал предметом чувства, порожденного пороком и глубоко ему чуждого; так судьи иногда скорее готовы простить убийство человеку с необычными склонностями, а измену еврею, оправдывая эти преступления следствием первородного греха и фатальным влиянием расы. И наконец – во всяком случае, согласно теории, которая родилась у меня первоначально (позже, как будет видно, она изменится), есть одно противоречие, которое должно было бы приводить их в особенную ярость, если бы оно не ускользало от них в силу иллюзии, дающей им силу видеть и жить: это любовники, которым почти недоступна та самая любовь, в надежде на которую они черпают силы идти на такой риск, терпеть такое одиночество, ведь влюбляются они как раз не в такого, как они, а в мужчину, у которого нет ничего общего с женщиной, и этот мужчина не может их любить, а значит, их влечение неутолимо, разве только они купят себе взаимность за деньги или призовут на помощь воображение, которое уверит их, что те, кому они отдаются, – настоящие мужчины. Их честь висит на волоске, их свобода всегда мимолетна: они свободны, пока их преступление не раскрыто; положение их ненадежно, как у того поэта, которого вчера славили во всех салонах, рукоплескали ему во всех лондонских театрах, а назавтра его изгоняют из любых меблирашек, и негде ему голову преклонить[13 - …у того поэта, которого вчера славили… и негде ему голову преклонить. – По-видимому, имеется в виду Оскар Уайльд (1856–1900), который в 1895 году попал под суд и в тюрьму за нарушение норм общественной морали. После тюрьмы Уайльду пришлось уехать во Францию, последние годы он жил в бедности и одиночестве.]; они вращают мельничные жернова, как Самсон, и твердят его слова:
Непримиренными два пола встретят смерть[14 - Непримиренными два пола встретят смерть… – Строка из того самого стихотворения Альфреда де Виньи «Гнев Самсона», строки которого Пруст взял эпиграфом ко всему тому.];
и даже сочувствия им не дождаться, разве что в дни великих невзгод, когда вокруг жертвы сплотится как можно больше сочувствующих, как евреи сплотились вокруг Дрейфуса, – но обычно даже у себе подобных это племя не вызывает сострадания: любому отвратительно видеть свое отражение в зеркале, которое ему уже не льстит, а являет все изъяны, которых он не желал замечать у себя; это зеркало твердит им, что их любовь, вернее, то, что они принимали за любовь (и, повинуясь общественному инстинкту, спекулировали этим словом, окружая его всем, что могут добавить к любви поэзия, живопись, музыка, рыцарственность, аскетизм), – что эта любовь порождена не прекрасным идеалом, который они себе избрали, а неизлечимой болезнью; и совсем как евреи (не считая тех, что, желая общаться только с единоплеменниками, вечно твердят ритуальные словечки и отпускают банальные шуточки), они избегают друг друга, ищут тех, кто на них не похож, кто не хочет с ними общаться, и прощают им щелчки по носу, и упиваются их снисходительностью; но остракизм и унижения все же заставляют их льнуть к себе подобным, и в конце концов гонения, сходные с теми, что знакомы Израилю, превращают их в единое племя, с особыми чертами внешности и характера, иногда прекрасными, нередко отталкивающими; и пускай тот, кто лучше приспособился к вражескому племени и полнее с ним слился, безжалостно издевается над теми, кому это не удалось, – все равно для душевного отдыха эти люди общаются с себе подобными и даже находят в них опору, причем, отвергая самую мысль, что они – народ (самое имя этого народа – страшное оскорбление), охотно разоблачают соплеменников, не столько желая им навредить, хотя и не без того, сколько в поисках оправдания для самих себя; как врач ищет аппендицит, так они повсюду выискивают извращения, забираясь в дебри истории и (точь-в-точь как израэлиты приводят в пример Иисуса) не забывая упомянуть, что Сократ тоже был одним из них, причем их не заботит, что никакой нормы не было, пока гомосексуализм был нормой, как не было врагов христианства до Христа, и что преступление – дитя позора, ведь под бременем позора только те и выживают, кого не убедить никакой проповедью, не увлечь никаким примером, не сломить никакой карой; их врожденная предрасположенность настолько сильна, что (хотя иногда ей сопутствуют прекрасные душевные качества) внушает другим людям большее отвращение, чем пороки, свойственные низким душам, – воровство, жестокость, злонамеренность, – пороки, которые обычно легче понять, а потому и простить; их объединяет франкмасонское братство, которое обширнее, действеннее и неуловимее настоящего франкмасонства, потому что основано на совпадении вкусов, потребностей, привычек, опасностей, первоначального опыта, знания, темных дел, запаса слов и понятий; члены этого братства, даже те, что не желают знать друг друга, мгновенно узнают собратьев по естественным признакам или условным знакам, вольным или невольным: нищий распознает себе подобного в важном господине, закрывая дверцу его экипажа, отец – в женихе дочери, тот, кто жаждет излечиться, покаяться, оправдаться перед судом, – во враче, священнике, адвокате; все они вынуждены хранить свою тайну, но посвящены в чужие, о которых остальное человечество не догадывается, а потому самые неправдоподобные приключенческие романы кажутся им правдивыми, ведь в анахроническом мире романа посланник дружит с каторжником, а принц непринужденно выходит из дома герцогини и тут же спешит повидаться с апашем (такая непринужденность дается аристократическим воспитанием и недосягаема для пугливого скромного буржуа); отщепенцы человеческого сообщества, они составляют его важную часть; их выискивают там, где и следа их нет, а они между тем бесстыдно и безнаказанно процветают там, где о них и не подозревают; и везде у них приверженцы – в народе, в армии, в храме, на каторге, на троне; живут они – во всяком случае, многие из них – в лестной и опасной близости к людям другого племени, бросают им вызов, играючи говорят с ними о своем пороке, как будто не имеют к нему отношения; слепота и лицемерие окружающих облегчают им эту игру, так что она может продолжаться годами, пока не разразится скандал и звери не сожрут укротителя; а до тех пор им приходится скрывать свою жизнь, отворачиваться от того, что притягивает взгляд, вглядываться в то, от чего хочется отвернуться, менять в разговоре род многих прилагательных – впрочем, это ограничение со стороны общества кажется им необременительным по сравнению с внутренними ограничениями, которые навязывает им порок или то, что по ошибке зовется пороком, и не чужой порок, а их собственный, притом что сами они никакого порока за собой не чувствуют. Но самые практичные, самые нетерпеливые, не желающие торговаться и усложнять себе жизнь, готовые объединять усилия ради выигрыша во времени, принадлежат сразу к двум обществам, и второе состоит исключительно из таких, как они.
Это поражает в бедных молодых людях, приехавших из провинции: у них нет связей, нет ничего кроме решимости стать когда-нибудь известным врачом или адвокатом; их душа и тело еще пусты, ни убеждений, ни манер, но они надеются быстро заполнить эту пустоту, как комнатку, снятую в Латинском квартале, для которой купили такую же мебель, что приметили и взяли за образец у тех, кто уже «всего добился» в той полезной, серьезной профессии, что должна принять их в свое лоно и прославить; но в иные вечера то особое пристрастие, с которым они, сами того не зная, родились, как рождаются с талантом к рисованию или музыке или с предрасположенностью к слепоте, то, быть может, единственное, что есть в них воистину оригинального, властно приказывает им пренебречь полезным для карьеры собранием людей, чья речь, образ мыслей, одежда и прически служат им примером для подражания. В той части города, где они поселились, обычно они видятся лишь с соучениками, профессорами да несколькими преуспевшими земляками-покровителями, однако успели быстро свести знакомство с другими молодыми людьми, близкими им по особым склонностям: так в небольшом городке находят друг друга учитель старших классов и нотариус, если оба любят камерную музыку или средневековые статуэтки из слоновой кости; прилагая к предмету своего увлечения тот же практический ум, ту же профессиональную хватку, что помогают им делать карьеру, они попадают в среду, куда точно так же не допускают непосвященных, как в кружок любителей старинных табакерок, японских эстампов, редких цветов; в таких компаниях, где каждый рад пополнить знания и ценит возможность обмена, уживаются, как в клубе филателистов, полное взаимопонимание знатоков и яростное соперничество коллекционеров. Впрочем, в кафе, где они всегда занимают один и тот же стол, никто не знает, что это за компания, общество рыболовов, редакция журнала или уроженцы Эндра: они безукоризненно одеты, сдержанны, равнодушны и лишь украдкой осмеливаются глянуть на светских молодых людей, на «львов», которые неподалеку от них шумно хвастаются любовницами; и только двадцать лет спустя, когда первые будут уже без пяти минут академиками, а вторые стареющими салонными щеголями, серьезные молодые люди узнают, что Шарлюс, самый обольстительный когда-то за соседним столом, а теперь толстый и седой, был на самом деле таким же, как они, просто он жил в другом мире, где царили другие символы, где были приняты чуждые им знаки, и эта разница вводила наблюдателей в заблуждение. Но среди объединений одни организованы лучше, другие хуже: «Союз левых» отличается от «Социалистической федерации»[15 - «Союз левых» был создан по требованию консерваторов в итоге выборов в законодательное собрание еще в 1885 г. «Социалистическая федерация Луары», созданная между 1911 и 1914 г., стала прообразом республиканской социалистической партии.], а какое-нибудь «Мендельсоновское музыкальное общество» от «Скола канторум»[16 - …«Мендельсоновское музыкальное общество» от «Скола канторум»… – Основанная в 1894 г., «Скола канторум» была поначалу обществом религиозной музыки, посвященным изучению музыкальных форм прошлого; это общество затем, в 1896 г., было преобразовано в престижную консерваторию, где, в частности, учились Артюр Онеггер, Эрик Сати, Эдгар Варез. С 1897 по 1931 г. там преподавал, а затем и возглавлял это учебное заведение композитор Венсан д’Энди, ярый антисемит, а Мендельсон, чьим именем называлось первое упомянутое общество, был евреем; возможно, в этом и состоит главное различие между двумя музыкальными объединениями.]; так, в иные вечера за соседним столом оказываются экстремисты, позволяющие соседу украдкой надеть им браслет, спрятав его под манжетой, или цепь, которую прикрывает сорочка; они упорными взглядами, гоготом, смешками, бесцеремонностью, с которой поглаживают друг друга, обращают в бегство компанию школьников за соседним столиком, а официант обслуживает их вежливо, но с едва скрываемым негодованием, как в те вечера, когда подает ужин дрейфусарам, при этом если бы не предвкушение чаевых, с удовольствием сбегал бы за полицией.
С точки зрения разума, пристрастия одиночек – полная противоположность таким профессиональным объединениям, и в каком-то смысле это справедливо – разум уподобляется в этом отношении самим одиночкам, полагающим, будто ничего нет общего между организованным пороком и тем, что сами они считают непонятой любовью; но с другой стороны, это все же не вполне справедливо, поскольку, не говоря уж о том, что те и другие относятся прежде всего к разным физиологическим типам, они к тому же в разное время проходят этапы патологической или просто общественной эволюции. Правда, что одиночки не так уж редко вливаются в такие организации – иной раз просто от усталости или для удобства (так некоторые в конце концов ставят у себя телефон, хотя поначалу были его яростными противниками, или соглашаются принимать у себя членов семейства принцев Йенских, или начинают делать покупки у Потена)[17 - …или начинают делать покупки у Потена. – Между прочим, в магазине Феликса Потена на бульваре Мальзерб, 45–47, делала покупки Селеста Альбаре, секретарша, сиделка и домоправительница Пруста. Потен привлекал покупателей снижением цен на некоторые основные продукты, компенсируя это за счет стоимости более изысканных товаров. Кроме магазинов, у Потена была собственная фабрика, сети поставок и большие склады – эти нововведения положили начало принципам работы нынешних крупных супермаркетов.]. Впрочем, обычно они находят там довольно холодный прием, поскольку почти непорочный образ жизни, наложив на них отпечаток неопытности и безудержной мечтательности, придал их натуре исключительно женственный характер, а именно это всячески пытались изжить профессионалы. И нужно признать, что в натуре у некоторых новичков женское начало не только примешивается к мужскому, но и отвратительно бросается в глаза: то их сотрясают истерические судороги, то они заходятся визгливым смехом до дрожи в руках и в коленках, в общем, они похожи на обычных людей не больше, чем мартышки с меланхолическим взглядом обведенных чернотой глаз, с хваткими задними лапами, наряженные в смокинг с черным галстуком; поэтому люди более испорченные считают, что компрометируют себя в обществе этих неофитов, и неохотно допускают их в свой круг, но все же допускают, и тогда они получают доступ к льготам, посредством которых коммерция и предпринимательство преобразили жизнь отдельных людей, предоставив в их распоряжение яства, которые прежде были им не по средствам, да и найти их было трудно, а теперь они очутились среди такого изобилия, о котором, пока были одни, не могли мечтать даже в огромной толпе. Но даже при всех этих бесчисленных отдушинах ограничения, налагаемые обществом, все равно слишком тяжелы для некоторых, особенно для тех, кто никогда не ведал ограничений умственных и кому их вид любви кажется еще более редким, чем на самом деле. Ненадолго оставим в стороне тех, кто по причине своей склонности считает себя выше женщин и презирает их, воображая, что гомосексуальность – привилегия великих умов и славных эпох; эти люди, желая приобщить кого-нибудь к своим пристрастиям, выбирают не тех, кто, как им кажется, имеет к этому склонность, как морфинист к морфию, а тех, кто представляется им наиболее достойным; их обуревает страсть к апостольскому служению; так другие проповедуют сионизм, отказ от военной службы, сен-симонизм, вегетарианство или анархизм. Некоторые, если их застать поутру в постели, выглядят совершенно по-женски, и выражение лица у них женское, свойственное всему женскому полу; даже их волосы твердят о том же: локоны, разметавшись, ложатся так женственно, так естественно ниспадают на щеки подобием кос, что удивляешься: как едва проснувшаяся юная женщина, девушка, Галатея[18 - …юная женщина, девушка, Галатея… – По мнению французских исследователей, Пруст имеет в виду нереиду Галатею, которую, согласно древнегреческой мифологии, полюбил циклоп Полифем; этот образ, скорее всего, подсказала писателю картина его любимого художника Гюстава Моро «Галатея» (1880), на которой прекрасная нереида сладко спит под угрюмым взглядом мрачного циклопа.], заключенная в еще бессознательном мужском теле, ухитряется так изобретательно, сама, никем не наученная, отыскивать мельчайшие лазейки из своей тюрьмы и находить то, что необходимо ей для жизни. Разумеется, молодой человек, которому принадлежит это восхитительное лицо, не говорит: «Я женщина». Даже если по одной из множества возможных причин он живет с женщиной, он может не признаваться ей, что он такой же, как она, и клясться, что никогда не вступал в отношения с мужчинами. Но пускай она увидит его таким, как мы его изобразили: в постели, в пижаме, с голыми руками, голой шеей, по которой разметались черные пряди. Пижама превратилась в женскую ночную кофточку, голова – в головку юной испанки. Любовница в ужасе – ее глазам открылись такие правдивые признания, каких ни словами не выскажешь, ни даже поступками, впрочем, поступки их рано или поздно подтвердят (если еще не подтвердили), потому что каждое живое существо стремится к удовольствию и, если не слишком порочно, ищет удовольствия у пола, противоположного его собственному. А для человека с необычными наклонностями порок начинается не когда он вступает в некие отношения (это может быть вызвано самыми разными причинами), а когда удовольствие он находит у женщины. Молодой человек, которого мы только что попытались запечатлеть, столь несомненно был женщиной, что женщин, смотревших на него с вожделением (если они, конечно, не питали необычных пристрастий), ожидало такое же разочарование, как героинь шекспировских комедий, которых разочаровывает переодетая девица, выдающая себя за подростка. Обман совершенно такой же, и сам он это знает, догадывается о разочаровании, которое испытает женщина без всякого даже переодевания, и чувствует, какой источник поэтического воображения таится в такой ошибке. И пускай даже он не признается в том, что он женщина, своей требовательной подруге, – если только она сама не из Гоморры, – все равно, с какой хитростью, с каким проворством, с каким упрямством вьющегося растения женщина, которую он носит в себе, не сознающая себя, но очевидная, ищет мужской орган. Стоит только взглянуть на эту россыпь вьющихся волос на белой подушке, и понимаешь, что вечером, если молодому человеку удастся ускользнуть из родительских рук, то вопреки родителям, вопреки себе самому не к женщине он помчится. Пускай любовница накажет его, запрёт, на другой же день мужчина-женщина найдет способ прилепиться к мужчине – так вьюнок выбрасывает свои усики туда, где ему подвернутся лопата или грабли[19 - …так вьюнок выбрасывает свои усики туда, где ему подвернутся лопата или грабли. – Возможно, это еще одна реминисценция из «Разума цветов» Метерлинка. Ср.: «Впрочем, всякий живший в деревне имел случаи удивляться инстинкту, какому-то чувству, похожему на зрение, направляющему усики дикого винограда или вьюнка по направлению к палке прислоненных к стене граблей или лопаты» (пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, гл. VIII).]. И восхищаясь трогательным изяществом, запечатленным в облике какого-нибудь мужчины, его прелестью, непосредственным дружелюбием, совершенно мужчинам несвойственным, с какой стати нам ужасаться, когда мы узнаем, что этого молодого человека тянет к боксерам? Это две стороны одной и той же медали. Та сторона, что нам претит, еще и трогательнее других, трогательней любого изящества, потому что в ней отразился бессознательный порыв природы: это осознаёт себя пол; и вопреки заблужденьям пола, выступает на поверхность его сокровенная попытка ринуться на поиски того, что по изначальной ошибке общества оказалось вдали от него. Одним, наверно, самым робким в детстве, совсем не нужно, чтобы наслаждение, к которому они стремятся, носило чувственный характер, лишь бы связать его с мужским лицом. Другим, наделенным, вероятно, более необузданной чувственностью, настоятельно требуется физическое наслаждение, добытое определенным способом. Эти своими признаниями наверняка перепугали бы среднего обывателя. Живут они, видимо, не полностью под знаком Сатурна: женщины для них не настолько исключены, как для первых, которые с ними только разговаривают, кокетничают, разыгрывают воображаемые романы, но помимо этого женщины для них не существуют. А вторые ищут тех женщин, что любят женщин: они могут свести их с молодым человеком и усилить наслаждение, которое с ним обретут; более того, они могут наслаждаться этими женщинами так, как будто это мужчины. Поэтому у тех, кто любит мужчин первого типа, ревность может пробудить только мысль о том, какое наслаждение любимый человек мог бы испытать с другим мужчиной, – ведь таким влюбленным чужда любовь к женщинам, это для них не источник удовольствия, а только привычка да возможность когда-нибудь вступить в брак – а страдать они могут лишь из-за той любви, которая доставляет любимому радость; а вот те, что любят второй тип, часто ревнуют к женщинам. Потому что, вступая в отношения с женщиной, которая любит женщин, мужчины второго типа играют для нее роль другой женщины, и женщина дает им примерно то же самое, что они находят у мужчины; поэтому ревнивый друг страдает, чувствуя, что для человека, которого он любит, женщина, от которой этот любимый не в силах оторваться, почти то же самое, что мужчина, и в то же время что этот любимый почти ускользает от него, потому что в глазах женщин он совсем другой, незнакомый, он – некое подобие женщины. Не будем говорить о молодых сумасбродах, которые из какого-то ребячества, желая подразнить друзей и шокировать родителей, с непонятным упорством облачаются в наряды, напоминающие женские платья, красят губы и подводят глаза; не будем принимать их во внимание, им предстоит слишком жестоко поплатиться за свои пристрастия; всю дальнейшую жизнь они проведут в напрасных попытках аскетически строгим костюмом исправить вред, который причинили себе, когда отдались во власть того же беса, что толкает молодых дам из Сен-Жерменского предместья вести скандальную жизнь, отринуть все приличия, издеваться над родными – пока они в один прекрасный день не примутся настойчиво и безуспешно карабкаться вверх по склону, с которого им было так весело, так занятно катиться вниз, а вернее, по которому они были просто не в силах не скатиться. И наконец, отложим на потом разговор о тех, кто заключил договор с Гоморрой. Мы скажем о них, когда с ними сведет знакомство г-н де Шарлюс. Оставим всевозможные разновидности, до которых еще дойдет дело позже, а теперь, чтобы завершить наш обзор, добавим лишь несколько слов о тех, с кого мы начали, об одиночках. Наделяя свой порок исключительностью, которой он на самом деле не обладал, они с того дня, как открыли его у себя, решили жить одни; до этого они носили его в себе, сами о том не догадываясь, – разве что дольше, чем все остальные. Ведь никто не знает о себе изначально, что он человек с необычными наклонностями, или поэт, или сноб, или злодей. Когда школьнику, который начитался стихов о любви или насмотрелся непристойных картинок, хотелось после этого прижаться к товарищу, он воображал, будто просто разделяет с ним общее для обоих влечение к женщине. Как ему уразуметь, что он не такой, как все, если он узнаёт в себе именно то, что чувствует, когда читает мадам де Лафайетт, Расина, Бодлера, Вальтера Скотта, и ведь он еще не очень умеет с помощью самонаблюдения распознать то, что добавляет от себя, и заметить, что, хотя чувство то же самое, но направлено оно на другой предмет, что его влечет не Диана Вернон, а Роб Рой?[20 - …не Диана Вернон, а Роб Рой? – «Роб Рой» – роман Вальтера Скотта (1817); Роб Рой – реальное лицо, национальный герой Шотландии; в романе это таинственный и могущественный незнакомец, который наделен огромным обаянием и помогает воссоединиться главному герою Френсису Осбалдистону и его возлюбленной Диане Вернон.] Многие, инстинктивно защищаясь благоразумием, опережающим более зоркий взгляд разума, видят, как зеркало и стены их спален исчезают под олеографиями, изображающими актрис; они сочиняют стихи, что-то вроде:
Люблю на свете только Хлою,
Она прекрасней всех, не скрою,
Но право, я ее не стою.
Значит ли это, что в начале жизни они обладали склонностью, которая в дальнейшем исчезла, как исчезают детские белокурые волосы, превращаясь в черные как смоль? Кто знает, может быть, фотографии женщин – это начало лицемерия, а кроме того, начало отвращения, которым они проникаются к другим, наделенным тем же пристрастием? Но именно для одиночек лицемерие особенно мучительно. Быть может, даже примера другого племени, евреев, недостаточно будет, чтобы объяснить, как мало влияет на них воспитание и как ловко удается им вернуться к страсти, овладевающей ими так же беспощадно, как тяга к самоубийству, которая возвращается к сумасшедшему, как его ни охраняй, и чуть только его спасли из реки, где он топился, помогает ему отравиться, добыть револьвер и тому подобное; и мало того, что людям другого племени непонятны, невообразимы, ненавистны радости, жизненно необходимые этой страсти, – вдобавок посторонним внушают ужас нередкие опасности и постоянный стыд тех, кто ею одержим. В тот день, когда они чувствуют, что не в силах больше ни обманывать окружающих, ни обманываться сами, они переезжают в деревню и начинают избегать себе подобных (которые, по их представлениям, немногочисленны) – из ужаса перед противоестественностью или из страха искушения, а заодно сторонятся и всего остального человечества – от стыда. Им никогда не удается достичь истинной зрелости, время от времени они впадают в меланхолию и вот как-нибудь в воскресенье, в безлунный вечер, идут прогуляться по дороге до перепутья, а там их поджидает какой-нибудь друг детства, обитатель соседней усадьбы, хотя до сих пор они и словом не перемолвились. И так ничего и не сказав друг другу, они возобновляют в темноте на траве прежние игры. По будням они навещают друг друга, болтают о том о сем, не намекая на случившееся, точь-в-точь как будто ничего такого не делали и не собираются повторить, только в их отношениях проскальзывает какая-то холодность, какая-то ирония, раздражительность, обида или даже злоба. Потом сосед надолго отправляется в трудное путешествие верхом, штурмует горные кручи на спине мула, спит в снегу; его друг, полагающий, что его собственный порок – результат слабохарактерности, домоседства, застенчивости, понимает, что друг его изживет свой порок, избавится от него на высоте многих тысяч метров над уровнем моря. И в самом деле, этот друг женится. Однако покинутый не исцеляется (хотя мы увидим, что иногда наклонности, противоречащие обычным, оказываются исцелимы). Он требует, чтобы рассыльный молочника по утрам передавал ему сметану на кухне из рук в руки, а по вечерам, когда, желания слишком его донимают, блуждает, пока не представится случай вывести на верную дорогу пьяного или оправить куртку слепому. Конечно, иногда обладатели извращенных наклонностей вроде бы меняются, в их привычках больше не проглядывают признаки так называемого порока, им присущего; но ничто не исчезает: припрятанная драгоценность отыскивается; если больной стал меньше мочиться, это значит, что он больше потеет, но выделение жидкости продолжается. Однажды наш гомосексуал теряет юного родственника, и по его безутешной скорби вы понимаете, что обычные его влечения преобразились в любовь к этому юноше, любовь, быть может, чистую, для которой уважение важнее обладания: его влечения просто-напросто перечислились в эту любовь, как в чьем-нибудь бюджете перечисляются деньги из одной статьи расходов в другую, ничего не меняя в общем балансе. Бывает, что у больного приступ крапивницы ненадолго вытесняет обычные недомогания; так любовь к юноше-родственнику вытесняет на время, посредством метастазиса[21 - Метстазис – переход болезни из одной части тела в другую (устар.).], прежние привычки, но рано или поздно они вновь вернутся на место хвори, которая их временно заменила собой, а потом прошла.
Тем временем вернулся сосед нашего одиночки, теперь он женат; в конце концов одиночке приходится позвать молодоженов в гости, и, когда он видит, как хороша собой юная новобрачная, как нежен с ней муж, ему становится стыдно за прошлое. Она уже в интересном положении, ей нужно вернуться домой пораньше, а муж остается; потом, собравшись уходить, он просит друга немного его проводить, тот сперва ничего не подозревает, но на перепутье обнаруживает, что оказался на траве в объятиях альпиниста и будущего отца, и все это без единого слова. И встречи возобновляются, но в один прекрасный день приезжает и поселяется неподалеку родственник молодой женщины, и теперь муж всегда гуляет с ним. Причем когда покинутый приезжает и пытается вызвать его на разговор, муж отталкивает его с негодованием, по которому наш одиночка, будь он тактичнее, угадал бы, что внушает отвращение. Однако позже является незнакомец, посланный неверным соседом; покинутый очень занят, не может его принять, и лишь позже начинает понимать, зачем приезжал тот человек.
И вот он тоскует в одиночестве. Всех удовольствий у него – съездить на курорт неподалеку и там задать кое-какие вопросы одному железнодорожнику. Но тот получил повышение, и его переводят на другой конец Франции; теперь наш одиночка не сможет узнавать у него расписание поездов и цены на билеты в первом классе; прежде чем вернуться в свою башню и мечтать, как Гризельда[22 - Гризельда – легендарный образ, воспетый Боккаччо, Петраркой, Чосером и т. д., покорная и смиренная жена; муж жестоко ее испытывает, но она успешно проходит испытания и получает награду; правда, ни в одном из сюжетов она не удаляется мечтать в башню. Возможно, на слуху у Пруста было название оперы Массне «Гризельда» (1901): ведь Массне был учителем близкого друга Пруста Рейнальдо Ана, который откликнулся на постановку «Гризельды» восторженным письмом.], он задерживается на пляже, словно причудливая Андромеда[23 - Андромеда – в древнегреческой мифологии – прекрасная девушка, обреченная в жертву морскому чудовищу и освобожденная героем Персеем (а не аргонавтом, здесь Пруст ошибся). Между прочим, Пруст, прикованный к дому своей болезнью, в письмах друзьям не раз сравнивал с Андромедой самого себя.], которую не приплывет освобождать никакой аргонавт, словно бесплодная медуза, обреченная погибать на песке, или мается на перроне в ожидании поезда, бросая на толпу пассажиров взгляды, с виду равнодушные, презрительные или рассеянные; но, подобно искоркам света, которыми украшают себя некоторые насекомые, чтобы привлечь сородичей, или нектару, который источают иные цветы, чтобы приманить насекомых, способных их оплодотворить, взгляды эти не обманут того редкостного и, в сущности, неуловимого любителя необычной радости, когда она ему предлагается, того собрата, с кем наш специалист мог бы поговорить на своем особом языке; более того, этот язык, пожалуй, заинтересует какого-нибудь голодранца, болтающегося на перроне, но только ради корысти – так в безлюдной аудитории Коллеж де Франс на лекцию по санскриту собираются слушатели, но пришли они только погреться[24 - Коллеж де Франс – знаменитое учебное заведение в Латинском квартале, предоставляющее всем желающим бесплатные и бездипломные курсы высшего образования по научным, литературным и художественным дисциплинам.]. Медуза! Орхидея! В Бальбеке, ведомый исключительно инстинктом, я испытывал к медузе отвращение, но когда мне удавалось взглянуть на нее, как Мишле[25 - Французский историк и публицист Жюль Мишле (1798–1874) посвятил медузам проникновенные слова в своем поэтичном очерке «Море» (1861).], с точки зрения естествознания и эстетики, я видел лазурную гирлянду. Ни дать ни взять лиловые морские орхидеи, отороченные прозрачным бархатом лепестков! Подобно множеству созданий животного и растительного мира, подобно растению, что производит ваниль, но мужской и женский орган у него разделены перегородкой, так что оно остается бесплодным, пока колибри или особые маленькие пчелы не перенесут пыльцу с одного на другой или пока человек не оплодотворит их искусственно (оплодотворение тут следует понимать в духовном смысле, потому что физически союз мужчины с мужчиной бесплоден, но в какой-то мере важно, чтобы человек мог обрести единственное наслаждение, которое ему дано испытать, и чтобы «каждое создание» могло подарить кому-нибудь «свою мелодию, свой жар, свой аромат»)[26 - …«свою мелодию, свой жар, свой аромат»… – Это парафраз строк из стихотворения Виктора Гюго («Puisqu’ici-bas toute ?me», сборник «Внутренние голоса», 1837, IX). Отметим, что друг Пруста, Рейнальдо Ан, в 1888 г. положил это стихотворение на музыку, а сам писатель цитировал его в переписке.], так вот, г-н де Шарлюс, подобно им всем, принадлежал к тем мужчинам, кого, несмотря на их многочисленность, можно назвать исключениями, потому что насыщение их сексуальных нужд зависит от совпадения слишком многих условий, да и условия эти слишком редко встречаются. Такие люди, как г-н де Шарлюс, обречены на компромиссы, которые будут возникать один за другим, и нетрудно предвидеть заранее, что им надо будет смиряться с полууступками, потому что иначе наслаждения не достичь; и без того взаимная любовь у большинства смертных связана с огромными, иногда неодолимыми помехами, но этим людям она, кроме того, готовит еще и совершенно особые препятствия; то, что всем дается очень редко, для них почти невозможно, и если им выпадет воистину счастливая встреча (или чутье подскажет им, что это возможно), то они будут куда счастливее нормальных влюбленных и вкусят необыкновенное, исключительное блаженство, от которого немыслимо отказаться. Вражда Монтекки и Капулетти ничто по сравнению со всевозможными препятствиями, которые пришлось преодолевать природе, и совершенно особыми исключениями из правил, на которые приходилось ей идти, пока она подстраивала случайности, приводящие к любви, сами по себе маловероятные; лишь после всех этих усилий бывший жилетник, собиравшийся спокойно уйти к себе в контору, пошатнулся, зачарованный, при виде пузатого пятидесятилетнего незнакомца; эти Ромео и Джульетта были вправе поверить, что их любовь – не минутный каприз, а воистину веление судьбы, предначертанное гармонией их характеров, и не только их, но и их предков, вплоть до самых далеких пращуров, а потому человек, с которым они соединятся, принадлежал им еще до рождения и привлек их с помощью силы, сравнимой с той, что правит мирами, где мы прожили наши предыдущие жизни. Г-н де Шарлюс отвлек меня, когда я смотрел, принесет ли шмель орхидее пыльцу, которую она ждала так долго и только по чистой случайности могла дождаться – случайности настолько невероятной, что она могла бы считаться настоящим чудом. Но то, что я сейчас наблюдал, тоже было чудом – примерно в том же роде и не менее удивительным. Как только я взглянул на встречу этих двоих теми же глазами, все в ней показалось мне прекрасным. Каких только хитростей не изобрела природа, чтобы заставить насекомых заняться скрещиванием цветов, которые без них остались бы бесплодными, потому что мужской цветок расположен слишком далеко от женского, или чтобы, в тех случаях, когда опылением занимается ветер, помочь ему сдуть пыльцу с мужского цветка, а женскому цветку – подхватить ее на лету; при этом природа еще и избавляет цветок-женщину от обязанности источать нектар (ведь приманивать на него насекомых уже не нужно), и от заботы о заманчивом для насекомых блеске венчика, а кроме того, принуждая цветок выделять жидкость, предохраняющую его от любой чужой пыльцы, следит, чтобы он сохранил себя для той, которая нужна для оплодотворения именно ему, – но все эти немыслимые хитрости природы казались мне не более волшебными, чем существование особой разновидности мужчин-гомосексуалов, чье назначение – дарить радости любви постаревшим мужчинам; такую разновидность влекут не любые мужчины, а только те, кто намного старше их; этим влечением управляют законы совпадений и соответствий, близкие тем, что ведают скрещиванием таких гетеростильных триморфных цветков, как lythrum salicaria[27 - Lythrum salicaria (лат.) – дербенник иволистный, или плакун-трава. Здесь и далее Пруст опирается на предисловие А. Кутанса к книге Дарвина «Различные формы цветов» (1860).]. Жюпьен только что явил мне пример этой разновидности, впрочем, не самый поразительный из тех, на которые может наткнуться, пускай не слишком часто, любой собиратель человеческого гербария, любой исследователь ботаники нравов, когда ему предстанет хрупкий юноша, ждущий авансов от крепкого пузатого господина лет пятидесяти и равнодушный к знакам внимания со стороны других юношей, точь-в-точь короткостолбиковые цветы-гермафродиты primula veris (первоцвета весеннего), которые бесплодны, пока их опыляют другие короткостолбиковые primula veris, но с радостью принимают пыльцу от длинностолбиковых первоцветов. Лишь впоследствии я разобрался, что же такое г-н де Шарлюс: для него были возможны разные способы соединения с другими людьми, своим многообразием, мимолетностью вплоть до полной неуловимости, а главное, отсутствием контакта между двумя участниками подчас еще больше напоминавшие о тех цветах в саду, что опыляются от соседнего цветка, никогда до него не дотрагиваясь. Некоторых людей ему было довольно зазвать к себе и несколько часов продержать под властью своих речей – и влечение, вспыхнувшее при первом знакомстве, утолялось. Соединение происходило посредством простых слов, так же просто, как у каких-нибудь инфузорий. Иногда, как это у него получилось со мной в тот вечер, когда он затребовал меня к себе после ужина у Германтов, утоление происходило благодаря яростной отповеди, которую барон швырял в лицо гостю: так некоторые цветы, снабженные пружинкой, орошают на расстоянии ошарашенное насекомое, невольно навлекшее на себя эту немилость. Г-н де Шарлюс, из угнетенного превращаясь в угнетателя, сразу же избавлялся от своей тревоги, успокаивался и прогонял гостя, который уже не казался ему желанным. В сущности, причина гомосексуальности кроется в том, что такой человек подходит к женщине слишком близко для того, чтобы установить с ней разумные отношения, и в результате подпадает под высший закон, в силу которого множество цветов-гермафродитов остаются неопыленными; иными словами, человек этот обречен на бесплодие самооплодотворения. Правда, в поисках мужской особи люди с таким отклонением часто довольствуются таким же, как они сами, женоподобным существом. Им довольно уже и того, что существо это не принадлежит к женскому полу, хотя они и сами носят в себе зародыш женщины, который, правда, не умеют вызвать к жизни; это в них общее с многими растениями-гермафродитами и даже с некоторыми животными-гермафродитами, например улитками: те не умеют оплодотворять сами себя, но их могут оплодотворить другие гермафродиты. Те, кого влечет к людям их пола, охотно цепляются за Древний Восток или Золотой век Греции, но в сущности, они могли бы заглянуть еще дальше, в те «испытательные» эпохи, когда не существовало еще ни двудомных растений, ни однополых животных, во времена первобытного гермафродитизма, следы которого дошли до нас в виде рудиментарных мужских органов в женской анатомии и женских – в мужской. Мимика Жюпьена и г-на де Шарлюса, поначалу для меня непонятная, показалась мне такой же примечательной, как искусительные знаки, которые, если верить Дарвину, подают насекомым не одни только сложноцветные, вздымающие мелкие цветочки своих головок, чтобы их было видно издали, – бывает, например, что и гетеростильное растение выворачивает и изгибает свои тычинки, проторяя проход насекомым, или окатывает их влагой, или их просто зазывают во двор ароматы нектара и сияние венчиков. С этого дня г-ну де Шарлюсу пришлось изменить время своих визитов к г-же де Вильпаризи, и не потому, что он не мог встречаться с Жюпьеном в другом месте (это было бы даже удобнее); дело в том, что для него, как для меня, послеполуденное солнце и цветущий куст были наверняка связаны с воспоминанием о Жюпьене. Кстати, г-н де Шарлюс не ограничился тем, что отрекомендовал семью Жюпьена г-же де Вильпаризи, герцогине Германтской и прочим блистательным дамам, которые тут же стали прилежными заказчицами юной вышивальщицы, тем более что на всех не пожелавших или просто не поторопившихся явиться к ней с заказами барон тут же обрушил беспощадные репрессии, не то для острастки, не то из ярости, ведь они покусились на меры, упрочивавшие его господство; Жюпьена он стал пристраивать на все более доходные должности, а потом и вообще взял его к себе секретарем на условиях, к которым мы еще вернемся. «Эх, везет же этому Жюпьену», – говорила Франсуаза, склонная то приуменьшать, то преувеличивать благодеяния смотря по тому, распространялись ли они на нее или на других. Хотя в этом случае ей не было нужды в преувеличениях, да и зависти она не испытывала, потому что искренне любила Жюпьена. «Какой барон добрый, – добавляла она, – такой приличный, такой благочестивый, такой порядочный! Была бы у меня дочь на выданье да была бы я из богатых, отдала бы ее за барона с закрытыми глазами». – «Постойте, Франсуаза, – мягко возражала мама, – сколько же мужей было бы у вашей дочки? Помните, вы уже обещали ее Жюпьену». – «Ну конечно, – отвечала Франсуаза, – Жюпьен тоже был бы прекрасным мужем. Мало ли что одни богатые, а другие бедные, для природы это все едино. Барон и Жюпьен – одного сорта люди».
Впрочем, в те времена, сделав это первое открытие, я сильно преувеличивал избирательность и исключительность их союза. Разумеется, каждый человек, подобный г-ну де Шарлюсу, – создание необыкновенное, ведь на какие бы уступки ни толкали его жизненные обстоятельства, он их отвергает, поскольку ищет главным образом любви мужчины другой породы, то есть такого, который любит женщин, а значит, его полюбить не сможет; вопреки тому, что я подумал тогда во дворе, видя, как Жюпьен кружит вокруг г-на де Шарлюса, будто орхидея, заигрывающая со шмелем, подобные исключительные, достойные жалости создания весьма многочисленны, – по причине, которая прояснится только к концу книги, как будет видно из дальнейшего изложения, – и сами жалуются скорее на то, что их слишком много, а не слишком мало. Потому что два ангела, которые пришли к воротам Содома узнать, точно ли обитатели, как сказано в Книге Бытия, поступают так, каков вопль на них, восходящий к Всевышнему, были выбраны Господом весьма неудачно (хотя этому можно только порадоваться): лучше бы он доверил это поручение содомиту[28 - …два ангела… содомиту… – Ср.: «И пришли те два Ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел, и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицем до земли» (Быт. 19: 1). «Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю» (Быт. 18: 21).]. Уж его-то не тронули бы оправдания вроде «я отец шести детей, у меня две любовницы»; он не опустил бы свой пламенный меч, не смягчил санкции[29 - …не опустил бы свой пламенный меч, не смягчил санкции… – Ср.: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт. 3: 24). Любопытно, что огненный – или пламенный – меч в романе вручен автором не хранителю райского сада, а гонителям содомских грешников.]. Он бы возразил: «Да – и твоя жена терзается от ревности. И даже если ты этих женщин нашел не в Гоморре, все равно ты проводишь ночи с пастухами Хеврона»[30 - Хеврон – древнейший город, расположенный в исторической области Иудея в 30 км от Иерусалима.]. И немедленно прогнал бы его назад, в город, который вот-вот подлежал истреблению серным и огненным дождем[31 - …подлежал истреблению серным и огненным дождем… – Ср.: «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли» (Быт. 19: 24–25).]. Однако всем тайным содомитам позволили удрать, и в соляные столпы они не превратились, даром что при виде каждого мальчика оборачивались, как жена Лота. Так и вышло, что у них оказалась масса последователей, которым этот жест так же привычен, как женщинам легкого поведения, когда они притворяются, будто разглядывают туфли в витрине, но оборачиваются, как только мимо идет студент. Эти потомки содомитов, многочисленные настолько, что можно отнести к ним стих из Бытия: «если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет»[32 - Ср.: «И сделаю потомство твое, как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет» (Быт. 13: 16).], расселились по всей земле, получили доступ ко всем профессиям и вступают в самые закрытые клубы; если содомита не приняли в такой клуб, то бо?льшая часть черных шаров была наверняка брошена другими содомитами; но они усердно осуждают содомию, унаследовав лживость, благодаря которой их предкам удалось покинуть про?клятый город. Не исключено, что когда-нибудь они туда вернутся. Во всех странах они, конечно, представляют собой что-то вроде восточного землячества – культурного, музыкального, злоязычного, вместе очаровательного и несносного. Они будут представлены подробнее на последующих страницах этой книги, но хотелось бы заранее предостеречь против опасного плана, состоящего в том, чтобы по примеру того, как вдохновенно создавалось сионистское движение, организовать движение содомитов и заново отстроить Содом. Дело в том, что едва содомиты вступят в этот город, как тут же его и покинут, чтобы никто не подумал, что они оттуда, и женятся, и заведут любовниц в других городах, а между тем найдут себе и там развлечения по вкусу. В Содом они будут отправляться только в дни крайней необходимости, когда их собственный город опустеет, в моменты, когда голод выгоняет волка из лесу, – одним словом, все будет происходить как в Лондоне, Берлине, Риме, Петрограде или Париже.
Как бы то ни было, в тот день, перед визитом к герцогине, я не заглядывал так далеко и очень огорчился, что из-за воссоединения Жюпьена с Шарлюсом пропустил, быть может, опыление цветка шмелем.
Часть вторая
Глава первая
Я не спешил на вечер к Германтам, не уверенный, что меня пригласили, поэтому праздно ждал снаружи, но летний день, кажется, торопился не больше моего и кончаться не хотел. Шел уже десятый час, а он по-прежнему окрашивал Луксорский обелиск на площади Согласия в цвет розовой нуги. Потом оттенок изменился и обелиск стал металлическим, отчего теперь выглядел не только внушительнее, но и тоньше; в нем как будто появилась гибкость. Нетрудно было вообразить, что его можно погнуть, что эту драгоценность уже слегка искорежили. Луна стояла в небе, как четверть бережно очищенного и все-таки слегка надкушенного апельсина. Но вскоре ее матерьялу предстояло превратиться в самое прочное золото. Позади нее сжалась в комок одна жалкая звездочка – она будет служить одинокой луне единственной спутницей, а луна встанет на защиту подруги и смело поплывет вперед, потрясая своим широким и великолепным золотым полумесяцем, словно непобедимым оружием, словно каким-то восточным символом.
Перед особняком принцессы Германтской я встретил герцога де Шательро; я уже не помнил, что еще полчаса назад меня терзал страх явиться незваным, – впрочем, этот страх очень скоро вернулся. Начинаешь тревожиться, потом отвлечешься и надолго забудешь о своей тревоге, но потом она возвращается, подчас долгое время спустя после момента опасности. Я поздоровался с молодым герцогом и вступил в особняк. Но здесь следует отметить одно незначительное обстоятельство, из которого станет понятно дальнейшее.
В тот вечер, как и в предыдущие, один человек много думал о герцоге де Шательро, хотя понятия не имел, кто он такой: это был привратник принцессы Германтской (его дело было выкрикивать имена гостей). Г-н де Шательро отнюдь не принадлежал к близким друзьям принцессы – он был просто один из кузенов, и его впервые принимали у нее в салоне. Его родители рассорились с ней за десять лет до того, помирились две недели назад, в этот вечер им по какому-то делу пришлось отлучиться из Парижа, и представлять их семью они поручили сыну. Однако за несколько дней до приема привратник принцессы Германтской встретил на Елисейских Полях молодого человека, очаровательного, на его взгляд, но кто он такой, было непонятно. Правда, молодой человек оказался и любезным, и щедрым, тут ничего не скажешь. Все знаки расположения, которые привратник, как ему казалось, должен был оказать этому столь юному господину, он, напротив того, получил от него сам. Но г-н де Шательро был не только неосторожен, но и опаслив; он решился в тот день не раскрывать своего инкогнито, поскольку не знал, с кем имеет дело, но в каком бы он был ужасе (хотя бояться было нечего), если бы знал! Он ограничился тем, что притворился англичанином, и на все пылкие расспросы привратника, желавшего еще повстречаться с тем, кому он был обязан таким наслаждением и такой щедростью, твердил, пока они следовали по всей авеню Габриэль: «I do not speak french».
Герцог Германтский, несмотря ни на что, не забывал, с кем его кузен в родстве по материнской линии; он притворялся, будто в салоне принцессы Германтской и Баварской ему чудится дух Курвуазье, но благодаря новшеству, которое больше нигде в этом кругу не встречалось, все тем не менее ценили изобретательность и интеллектуальное превосходство принцессы. Дело в том, что после обеда, перед раутом – важным или не очень – стулья в салоне принцессы Германтской расставлялись таким образом, чтобы гости рассаживались небольшими группами, причем некоторые оказывались спиной друг к другу. Принцесса подсаживалась к той или иной группе, демонстрируя свое светское чутье. Впрочем, она не боялась выбрать и вовлечь в разговор кого-нибудь из другой группы. Например, она обращала внимание г-на Детайя[33 - Эдуар Детай (1848–1912), член Академии художеств, был известен в основном картинами на исторические и военные сюжеты. Антисемит и националист, он не мог вызывать у Пруста ни малейшей симпатии. Он в самом деле удостаивался приглашения на великосветские приемы.] на то, как прекрасна шея г-жи де Вильмур, которая сидела в другой группе и была им видна только со спины, г-н Детай, разумеется, признавал ее правоту, и тогда принцесса, повысив голос, произносила: «Госпожа де Вильмур, наш выдающийся художник господин Детай в восторге от вашей шеи». Г-жа де Вильмур чувствовала, что ее вовлекают в беседу; с ловкостью, приобретенной благодаря верховой езде, она медленно поворачивала свой стул на три четверти круга и, нисколько не беспокоя соседей, оказывалась лицом к принцессе. «Вы незнакомы с господином Детайем?» – спрашивала хозяйка дома, не довольствуясь уместными и сдержанными речами гостьи. «Я не знакома с ним, но знаю его картины», – почтительно отзывалась г-жа де Вильмур, демонстрируя на зависть окружающим готовность к продолжению разговора и такт, а тем временем едва заметно кивая знаменитому художнику, которого, что ни говори, лишь упомянули, а не представили ей по всем правилам. «Идите сюда, господин Детай, – говорила принцесса, – я представлю вас госпоже де Вильмур». Тут эта дама, освобождая место для автора «Сна»[34 - На картине Детайя «Сон» (1888) французские солдаты, участники Франко-прусской войны, окончившейся разгромом Франции, огромными человеческими жертвами и потерей Эльзаса и Лотарингии, спят в чистом поле и видят сны о славе их предшественников, наполеоновских солдат.], пускала в ход не меньше изобретательности, чем до того, когда разворачивала к нему стул. А принцесса придвигала стул для себя; в сущности, она окликнула г-жу де Вильмур только потому, что искала предлог расстаться с первой группой, в которой обычно проводила десять минут, и столько же времени уделить второй. За три четверти часа она успевала таким образом обойти все группы, и всякое перемещение совершалось как будто исключительно по вдохновению и из симпатии, а на самом деле имело целью показать, с какой непосредственностью гранд-дама умеет принимать гостей. Тем временем прибывали те, кого пригласили на вечер, и хозяйка дома садилась поближе к входу – прямая и гордая, осененная почти королевским величием, блистающая ярким от природы взором – между двумя некрасивыми герцогинями и испанской посланницей.
Я стоял в очереди за несколькими гостями, прибывшими до меня. Прямо перед собой я видел принцессу; ее красота осталась для меня, конечно, не единственным воспоминанием об этом вечере. Но чеканное, словно прекрасная медаль, лицо хозяйки дома было так совершенно, что врезалось мне в память. У принцессы было обыкновение при встрече говорить за несколько дней до предстоящего вечера каждому из своих приглашенных: «Вы придете, не правда ли?» с таким видом, словно ей страшно хотелось с ними побеседовать. Но на самом деле говорить с ними ей было не о чем, поэтому, когда они представали перед ней, она лишь прерывала на миг болтовню с двумя герцогинями и посланницей и благодарила их словами: «Как мило, что вы пришли»; причем она не имела в виду, что прийти на ее вечер такая уж любезность со стороны гостя, а скорее желала подчеркнуть собственную любезность; затем она бросала его на произвол судьбы, добавляя: «Вы найдете принца Германтского у входа в сад», так чтобы гость удалился и оставил ее в покое. Некоторым она вообще ничего не говорила, ограничиваясь тем, что являла им свои прекрасные ониксовые глаза, словно гости явились на выставку драгоценных камней.
Как раз до меня в зал вошел герцог де Шательро.
Ему пришлось отвечать на все улыбки и приветственные жесты, долетавшие из гостиной, поэтому он не заметил привратника. Но привратник узнал его с первого взгляда. Миг спустя ему предстояло услышать, кто тот человек, чье имя ему так хотелось узнать. Спрашивая у своего позавчерашнего «англичанина», как о нем доложить, привратник был не просто взволнован – он чувствовал себя нескромным, неделикатным. Ему казалось, что сейчас он объявит всем этим людям (которые, впрочем, ни о чем не подозревали) секрет, который он вызнал, не имея на то никакого права, и теперь выставляет на всеобщее обозрение. Когда он услыхал ответ гостя – «герцог де Шательро», его обуяла такая гордыня, что он на миг онемел. Герцог взглянул на него, узнал, понял, что погиб, а тем временем слуга взял себя в руки и, призвав на помощь свои познания в геральдике, чтобы самому дополнить чересчур скромное представление, проревел с профессиональной зычностью, которую умеряла сокровенная нежность: «Его светлость монсеньор герцог де Шательро!» Тут наступила моя очередь. Уйдя в созерцание хозяйки дома, которая еще меня не видела, я не подумал об ужасной для меня – хотя и по-другому, чем для г-на де Шательро, – обязанности этого привратника, одетого в черное, как палач, и окруженного толпой лакеев в самых что ни на есть нарядных ливреях, крепких парней, готовых схватить чужака и вышвырнуть его за дверь. Привратник спросил мое имя, я машинально назвался – так приговоренный к смерти дает привязать себя к плахе. Он тут же величественно вскинул голову и прежде, чем я успел попросить его объявить меня вполголоса, чтобы пощадить мое самолюбие на случай, если я не приглашен, или самолюбие принцессы Германтской, если приглашен, проорал опасные слоги моего имени громовым голосом, способным обрушить своды особняка.
Знаменитый Гексли (тот, чей племянник занимает сейчас одно из первых мест в мире английской литературы)[35 - Дед писателя Олдоса Хаксли (1894–1963), Томас Гексли (1825–1895), был биологом, палеонтологом и врачом (Пруст ошибается, считая их дядей и племянником). В 1919 г. Олдос Хаксли опубликовал похвальную рецензию на «Сторону Германтов».], рассказывает, что одна из его больных не осмеливалась больше бывать в обществе, поскольку часто ей представлялось, будто в кресле, любезно предложенном ей хозяевами дома, уже расположился какой-то старый господин. Она была совершенно уверена, что или гостеприимный жест хозяев, или присутствие старика ей просто мерещатся, ведь не предложат же ей кресло, если в нем уже кто-то сидит. Но когда Гексли, желая ее излечить, настоял, чтобы она опять поехала на званый вечер, ей пришлось испытать мгновения тягостной неуверенности, гадая, в самом ли деле ей любезно указывают на кресло или она, повинуясь галлюцинации, сейчас при всех усядется на колени к господину из плоти и крови. Ее краткие сомнения были мучительны. И все-таки мне пришлось еще тяжелей. Как только в ушах у меня, словно предвестье грядущей катастрофы, раскатился оглушительный звук моего имени, мне пришлось на всякий случай, чтобы меня ни в чем не заподозрили, притвориться, будто я не испытываю ни тени неуверенности, решительно шагнуть вперед и предстать перед принцессой.
Она заметила меня, когда я был уже в нескольких шагах, и – теперь-то уж было ясно, что я стал жертвой чьих-то козней – вместо того, чтобы поздороваться со мной сидя, как с другими гостями, она встала и подошла ко мне. Еще секунда – и у меня камень свалился с души, как у пациентки Гексли, когда она решилась сесть в кресло и оно оказалось свободным, то есть галлюцинацией был именно старый господин. Принцесса с улыбкой протянула мне руку. Она постояла несколько мгновений, лучась великодушием, запечатленным в той строфе Малерба, что заканчивается стихом: «И встанут ангелы, дабы воздать им честь!»[36 - Полностью эта строфа из ранней поэмы Малерба «Слезы святого Петра» (1587) звучит примерно так:Какою радостью все озарятся лики,Какие зазвучат приветственные клики,Цветы, псалмы, огни – всего не перечесть!И как отважные возрадуются братья,Когда благой Господь их заключит в объятьяИ встанут ангелы, дабы воздать им честь!]
Она извинилась, что герцогиня еще не прибыла, как будто опасаясь, что без нее мне будет скучно. Здороваясь, она взяла меня за руку и с необыкновенным изяществом покружилась на месте, вовлекая меня в вихрь своего вращения. Я почти был готов к тому, что она, как истинная распорядительница котильона, вручит мне трость с набалдашником слоновой кости или часы-браслет. По правде сказать, ничего этого она мне не дала и на этом прервала наш разговор, так его и не начав, словно собравшись танцевать бостон, вдруг принялась вслушиваться в священный квартет Бетховена и боялась нарушить его тончайшие нюансы; по-прежнему сияя от радости меня лицезреть, она лишь указала мне, где искать принца.
Я отошел от нее и больше к ней уже не приближался: ясно было, что ей совершенно нечего мне сказать и что при всей своей необъятной благожелательности эта сказочно высокая и прекрасная дама, благородная, как те, что гордо всходили на эшафот, не отважится даже предложить мне мятной воды и может только повторить то, что я от нее уже слышал дважды: «Вы найдете принца в саду». А приблизиться к принцу значило вновь почувствовать, как в новом облике оживают все те же мои опасения.
В любом случае надо было найти, кто меня представит. Я слышал неистощимую болтовню г-на де Шарлюса, перекрывавшую все разговоры; он беседовал с его превосходительством герцогом Сидония, с которым только что познакомился. Общая профессия сближает, общий порок тоже. Г-н де Шарлюс и герцог Сидония мгновенно угадали друг в друге роднивший их порок, состоявший в том, что оба были в обществе людьми монологическими и терпеть не могли, чтобы их перебивали. Сразу рассудив, что боль неисцелима, как сказано в известном сонете[37 - Феликс Арвер (1806–1850) – французский поэт, которому принес славу «Сонет, подражание итальянскому», опубликованный в 1833 г. в его единственном поэтическом сборнике. Приводим сонет в русском переводе:Есть тайна у меня: безмолвна и незрима,Любовь безвестная живет в душе моей,Я обречен молчать, но боль неисцелима,И та, кого люблю, не ведает о ней.Не глядя на меня, она проходит мимо,И я опять один, и до скончанья днейЯ от нее не жду ни взглядов, ни речейИ не молю о них: судьба неумолима.Богобоязненна, скромна и холодна,Восторгов и похвал не слушает она,Идет своим путем, не глядя на поэта,И спросит, может быть, когда на склоне летЕй попадется мой мучительный сонет:«О ком его стихи?» – но не найдет ответа.], оба решились не молчать, а говорить, но не обращать внимания на то, что скажет собеседник. От этого происходил неразборчивый шум, какой возникает в комедиях Мольера, когда несколько актеров одновременно говорят разное. Впрочем, барон, обладатель звучного голоса, был уверен, что одержит верх и его монолог перекроет слабый голосок герцога Сидония, однако герцог не отчаивался: как только г-н де Шарлюс на мгновение переводил дух, интервал заполнялся шелестением испанского гранда, невозмутимо продолжавшего свою речь. Я бы попросил г-на де Шарлюса представить меня принцу Германтскому, но опасался (и очень не зря), что он на меня сердит. Я проявил по отношению к нему черную неблагодарность, дважды отверг его посулы и с того вечера, когда он с такой сердечностью проводил меня до дому, не подавал признаков жизни. А ведь я до сегодняшнего дня понятия не имел, что увижу его встречу с Жюпьеном, так что это меня не оправдывало. Ничего такого мне и в голову не приходило. Правда, недавно, когда родители упрекали меня за лень и за то, что я до сих пор не потрудился написать г-ну де Шарлюсу, я в ярости бросил им упрек, что они заставляют меня принимать непристойные предложения. Но я кривил душой, и этот ответ подсказали мне только гнев и желание найти такие слова, которые задели бы их как можно больнее. На самом деле в том, что предлагал мне барон, я не подозревал никакой похоти и даже никакой сентиментальности. Отвечая родителям, я просто валял дурака. Но иногда будущее живет в нас без нашего ведома, и наши слова, вроде бы лживые, рисуют то, что скоро произойдет.
Г-н де Шарлюс, конечно, простил бы мне мою неблагодарность. В ярость его приводило то, что мое присутствие в тот вечер у принцессы Германтской, так же, как незадолго до того у ее кузины, выглядело издевательством над его торжественным утверждением: «В эти салоны можно попасть только благодаря мне». Моя непростительная ошибка или даже мое неискупимое преступление состояло в том, что я не посчитался с иерархией. Г-н де Шарлюс хорошо понимал, что громы и молнии, которые он обрушивал на тех, кто не подчинялся его приказам или был ему ненавистен, многим уже начинали представляться бутафорскими, несмотря на весь его гнев, и оказывались бессильны изгнать кого бы то ни было откуда бы то ни было. Но, возможно, он надеялся, что его слабеющая власть еще достаточно велика в глазах таких новичков, как я. Словом, я рассудил, что не вполне разумно было бы просить его об услуге на празднике, где само мое присутствие казалось насмешливым опровержением его претензий.
Тем временем меня остановил некий профессор Э., довольно вульгарный тип. Он удивился, видя меня у Германтов. Я удивился не меньше, потому что люди этого сорта никогда не появлялись в гостях у принцессы ни раньше, ни впоследствии. Но он только что вылечил от инфекционной пневмонии принца, которого уже и соборовать успели, и его пригласили, презрев обычай, в знак необычайной благодарности принцессы Германтской. В этих гостиных он совершенно никого не знал и был уже не в силах бесконечно блуждать в одиночестве, как вестник смерти; узнав меня, он впервые в жизни почувствовал, как много всего ему надо мне сказать – ведь это помогало ему справиться с растерянностью, – и по этой причине он ринулся ко мне. Но была и другая причина. Он считал чрезвычайно важным никогда не ошибаться в диагнозе. А у него было всегда такое количество почты, что если он видел больного только один раз, то не всегда как следует помнил, последовала ли его болезнь предуказанным ей путем. Читатель, возможно, не забыл, что в тот вечер, когда у бабушки случился первый удар и я отвел ее к нему, он распоряжался, чтобы к его фраку прикрепили все его многочисленные награды. Прошло время, и он уже не помнил письма, в котором его уведомляли о ее кончине. «Ведь бабушка ваша умерла, не правда ли? – произнес он с некоторой опаской, умерявшейся легким сомнением. – Да, все верно! В самом деле, я хорошо помню, с первой минуты, как я ее увидел, мне стало ясно, что прогноз самый мрачный».
Так профессор Э. узнал – или вспомнил – о бабушкиной смерти, и, к чести его и всего сословия врачей, должен сказать, не выразил, да и не испытал, наверно, никакого удовлетворения. Ошибкам врачей несть числа. Обычно в отношении диеты они грешат оптимизмом, в отношении развязки пессимизмом. «Вино? В умеренных количествах не повредит, в сущности, это укрепляющее… Плотские радости? Вообще говоря, это функция организма. Можно, но только без злоупотребления. Во всем должно быть чувство меры». И какой же соблазн для больного – отказ от этих двух воскресителей, от воды и целомудрия. Зато если у пациента что-то с сердцем или белок в моче, такой диагноз долго не держится. Тяжелые, но функциональные расстройства охотно объясняют воображаемым раком. Бесполезно продолжать лечение, если оно не в силах остановить неизбежное. Если же больной, предоставленный самому себе, по доброй воле придерживается строжайшей диеты и воздержания, а затем исцеляется или по крайней мере выживает, и вот уже он на авеню д’Опера раскланивается со своим врачом, полагавшим, что он уже на Пер-Лашез, – врач усматривает в его приветствии дерзкую насмешку. Он в не меньшей ярости, чем председатель суда, который видит, что у него под носом как ни в чем не бывало, без малейшей опаски, совершает невинную прогулку бездельник, которого два года тому назад он приговорил к смертной казни. Врачи (мы говорим, разумеется, не обо всех и не упускаем из памяти замечательных исключений) вообще не столько радуются, когда их вердикт подтверждается, сколько негодуют и раздражаются, когда его опровергают. Вот почему профессор Э., притом что он несомненно испытывал некоторое интеллектуальное удовлетворение от своей правоты, в разговоре о постигшем нас несчастье взял исключительно печальный тон. Он не стремился сократить беседу, ведь она позволяла ему не терять лица и служила законным поводом не уходить с приема. Заговорил он о сильной жаре, стоявшей последние дни, и даром что был он человек начитанный и объяснялся на прекрасном французском языке, спросил: «А вы не страдаете от этой гипертермии?» Медицина, конечно, со времен Мольера несколько усовершенствовалась в смысле знаний, но никак не словаря. Мой собеседник добавил: «Следует избегать потения, которое настигает нас в такую погоду, особенно в душных гостиных. Если вернувшись домой, вы захотите пить, вам поможет горячее» (он, конечно, хотел сказать «горячие напитки»).
Эта тема была мне интересна из-за того, как умирала бабушка, и недавно в книге одного крупного ученого я вычитал, что потение вредно для почек, поскольку то, что должно выходить другими путями, выходит через кожу. Я горевал, когда думал, что бабушка умирала в такие знойные дни, и чуть ли не готов был винить их в ее смерти. Об этом я доктору Э. не сказал, а он заметил: «Преимущество знойных дней в том, что люди обильно потеют, а это полезно для почек». Медицина – наука не точная.
Профессор Э. вцепился в меня и ни за что не хотел отпускать. Но я успел заметить маркиза де Вогубера, который, отступив на шаг от принцессы Германтской, раскланивался перед ней с поворотом направо и налево. Не так давно меня познакомил с ним г-н де Норпуа, и я надеялся, что он, может быть, согласится представить меня хозяину дома. Пропорции этой книги не позволяют мне объяснить здесь, из-за каких юношеских проделок г-н де Вогубер оказался одним из немногих светских людей, быть может единственным, кто состоял с г-ном де Шарлюсом в отношениях, которые в Содоме называются «конфиденциальными». Но наш приближенный к царю Теодозу[38 - Царь Теодоз – один из образов русского царя, который в других местах романа упоминается и под своим именем. На его создание Пруста вдохновил, по-видимому, официальный визит во Францию царя Николая II в октябре 1896 г.] дипломат, разделяя с бароном кое-какие недостатки, все равно оставался не более чем его бледным подобием. Одержимый желанием очаровывать, а потом и опасениями – чисто воображаемыми – как бы его тайну не раскрыли, а его самого не облили презрением, он переходил от симпатии к ненависти, причем метания эти принимали у него бесконечно смягченную, сентиментальную и простецкую форму. Все это было смешно при его целомудрии и «платонической любви» (которым он, неуемный честолюбец, со школьной скамьи принес в жертву всякое наслаждение), а главное, при его интеллектуальной никчемности, и все-таки г-н де Вогубер продолжал бросаться из одной крайности в другую. Но если г-н де Шарлюс выкрикивал неумеренные похвалы с истинным блеском красноречия, приправляя их самыми тонкими, самыми язвительными остротами, навсегда пристававшими к человеку, то г-н де Вогубер, напротив, выражал свою симпатию банально, как зауряднейший светский человек, чиновник, а неудовольствие (подобно барону, всякий раз на пустом месте) – с безудержной, но бессмысленной злостью, которая задевала тем больнее, что обычно противоречила тому, что посланник говорил полгода назад и, возможно, станет говорить спустя какое-то время; такая регулярность перемен окутывала различные фазы жизни г-на де Вогубера своеобразной астрономической поэзией, хотя в остальном он меньше, чем кто бы то ни было, наводил на мысль о небесных светилах.
Он приветствовал меня совершенно не так, как сделал бы это г-н де Шарлюс. Свое приветствие г-н де Вогубер сопроводил множеством ужимок, присущих, на его взгляд, высшему свету и дипломатическим кругам, напустив на себя бесшабашный, удалой, ликующий вид, чтобы все видели, как он доволен жизнью – хотя его осаждали горькие мысли о застрявшей на месте карьере и грозящей ему отставке – и как он молод, мужественен, обаятелен – хотя видел, как тут и там на лице, которое он уже не смел рассматривать в зеркале, застывают морщины, губя привлекательность, которой он так дорожил. Не то чтобы он в самом деле мечтал о новых победах: сама мысль о них его пугала, до того он боялся пересудов, огласки, шантажа. В тот день, когда он задумался о набережной Орсе[39 - …о набережной Орсе… – На набережной Орсе (Quai d’Orsay) расположено Министерство иностранных дел.] и пожелал блестящей карьеры, он от ребяческого, в сущности, разврата перешел к полному воздержанию и теперь, похожий на зверя в клетке, метал во все стороны взгляды, излучавшие страх, вожделение и глупость. А поскольку он был глуп, ему не приходило в голову, что повесы из его отрочества уже не мальчишки, и когда разносчик газет кричал прямо ему в лицо: «Пресса!»[40 - …«Пресса!»… – Здесь имеется в виду ежедневная газета «La Presse» («Пресса»), выходившая с перерывами с 1836 по 1935 г.], он дрожал не столько от желания, сколько от ужаса, полагая, что его узнали и выследили.
Но, лишенный радостей, принесенных в жертву набережной Орсе, г-н де Вогубер испытывал иногда внезапные сердечные порывы; потому-то ему все еще хотелось нравиться. Он заваливал министерство несусветным количеством писем, а какие хитрости собственного изобретения он пускал в ход, каких уступок добивался именем г-жи де Вогубер (которая благодаря своей дородности, родовитости, мужеподобности, а главное, благодаря заурядности супруга слыла обладательницей выдающихся талантов и, в сущности, сама исполняла обязанности посланника) – и все лишь для того, чтобы в персонал дипломатической миссии был зачислен без всяких уважительных причин какой-нибудь молодой человек, не имеющий каких бы то ни было заслуг. Правда, несколько месяцев или лет спустя, когда г-ну де Вогуберу мерещилось, что ничтожный атташе, ничего дурного не замышлявший, держит себя с начальником как-то холодно, он решал, что юнец его презирает или предает, и тогда он с таким же истерическим пылом бросался его карать, как прежде – осыпать благодеяниями. Он лез из кожи вон, чтобы наглеца отозвали, и глава дирекции по политическим вопросам получал ежедневные письма: «Когда уже вы избавите меня от этого шельмеца? Приструните его для его же пользы. Пускай поголодает, это его вразумит». По этой причине должность атташе при царе Теодозе была незавидной. Но в остальном г-н де Вогубер благодаря безупречному здравому смыслу светского человека был одним из лучших представителей французского правительства за границей. Позже, когда его сменил человек, вроде бы его превосходивший, ярый республиканец, искушенный во всем на свете, между Францией и страной, которой правил царь, тут же вспыхнула война.
Подобно г-ну де Шарлюсу, г-н де Вогубер не любил здороваться первым. И тот и другой предпочитали «отвечать», вечно опасаясь, что человек, которому они не прочь были протянуть руку, с их последней встречи успел услышать на их счет сплетни. Обо мне г-ну де Вогуберу не приходилось беспокоиться: я, разумеется, подошел поздороваться первым, хотя бы из-за разницы в возрасте. Он откликнулся радостно и восторженно, причем взгляд его продолжал метаться, словно со всех сторон было полно запретной люцерны, которую ему хотелось пощипать. Я решил, что приличней будет попросить, чтобы сперва он представил меня г-же де Вогубер, а уж потом заговаривать о представлении принцу. Услыхав мою просьбу, он, кажется, обрадовался и за себя, и за жену и решительным шагом подвел меня к маркизе. Едва мы оказались перед ней, он весьма уважительно указал ей на меня взглядом и жестом руки, но ни слова не промолвил и тут же юркнул в сторону, оставив меня наедине с женой. Она немедленно протянула мне руку, не имея понятия, кому адресует эту любезность: я понял, что г-н де Вогубер забыл, как меня зовут, а может быть, даже меня не узнал, но из вежливости не желал в этом признаться, а потому свел представление к простой пантомиме. Так что я не очень-то преуспел в своих планах: разве может представить меня хозяину дома женщина, не знающая, как меня зовут? Вдобавок ясно было, что я обязан немного побеседовать с г-жой де Вогубер. А это удручало меня с двух точек зрения. Мне не хотелось застрять на этом приеме, потому что я взял Альбертине ложу на «Федру» и договорился с ней, что незадолго до полуночи она приедет ко мне в гости. Я, конечно, ничуть не был в нее влюблен: приглашая ее в тот вечер, я делал уступку чистой чувственности, хотя в такое знойное время года чувственность, вырываясь на свободу, охотней вселяется в органы вкуса, а больше всего ищет прохлады. Она мечтает не столько о девичьих поцелуях, сколько об оранжаде, о ванне; ее тянет полюбоваться на влажную сочную луну, к которой припадают жаждущие небеса. Но Альбертина и сама напоминала мне о морской прохладе, а кроме того, я надеялся, что ее близость избавит меня от сожалений о том, что я расстанусь с множеством прелестных лиц (потому что на приеме у принцессы были не только дамы, но и юные девушки). Кстати, бурбонская и угрюмая физиономия представительной г-жи де Вогубер была начисто лишена привлекательности.
В министерстве без тени насмешки говорили, что в этой супружеской паре юбку носит муж, а брюки жена. И в этом было больше правды, чем можно подумать. Г-жа де Вогубер была мужчиной. Была ли она такой изначально или изменилась со временем – не все ли равно: и в том и в другом случае перед нами одно из самых трогательных чудес природы, которое, особенно если речь об изменении, обнаруживает сходство человеческого царства с царством цветов. Рассмотрим первую гипотезу: если будущая г-жа де Вогубер изначально была такой тяжеловесно мужеподобной – природа, прибегнув к дьявольской, но благодетельной уловке, придает девушке обманчивую внешность мужчины. И подросток, который не любит женщин и хочет исцелиться, радуется, что может схитрить и найти себе невесту, похожую на рыночного грузчика. В обратном случае, если поначалу женщина не обладает мужскими чертами, она приобретает их понемногу, чтобы нравиться мужу, в сущности, бессознательно, из своего рода мимикрии, заставляющей некоторые цветы вырабатывать сходство с насекомыми, которых им хочется привлечь. Ей грустно, что ее не любят, грустно, что она не мужчина, – поэтому она становится мужеподобной. И даже отрешаясь от случая, который мы сейчас обсуждаем, – кто из нас не замечал, до чего похожи друг на друга становятся с течением времени самые обычные супруги: иногда они даже заимствуют характерные черты друг у друга! Князь де Бюлов[41 - Бернгард, князь фон Бюлов (1840–1929) – немецкий политик, при Вильгельме II был канцлером империи, позже, в 1915 г., посланником в Риме. Женился на итальянке Марии Беккаделли. Холм Пинчо в Риме – место прогулок римлян и туристов, огромный сад с великолепными постройками.], бывший германский канцлер, был женат на итальянке. Со временем те, кто гулял на Пинчо, стали замечать, сколько итальянского изящества приобрел супруг-немец и сколько немецкой грубоватости проступило в итальянской княгине. Если брать крайние случаи в появлении вышеописанных законов, всем известен выдающийся французский дипломат, чье происхождение выдает только его имя, одно из славнейших на Востоке[42 - …выдающийся французский дипломат… имя, одно из славнейших на Востоке. – Этот дипломат – Морис Палеолог (1859–1944), происходивший из знаменитого византийского императорского рода; впрочем, по другим данным, его семья была болгарского происхождения, а фамилию Палеолог принял лишь его отец.]. С приходом зрелости, а потом и старости в нем все явственней проступали восточные черты, о которых раньше никто и не подозревал, и теперь, видя его, окружающие жалеют, что он не носит фески, ведь она была бы ему к лицу.
Но вернемся к нравам, о которых понятия не имел посланник, чей силуэт, по-старозаветному монументальный, мы сейчас начертали: г-жа де Вогубер воплощала в себе тот же врожденный или благоприобретенный облик, чьим бессмертным образцом была принцесса Палатинская[43 - Шарлотта-Элизабет Баварская (1652–1722), принцесса Палатинская, в 1671 г. вышла замуж за Филиппа Орлеанского, брата короля. Мужеподобная внешне, хорошо образованная, она в самом деле оставила письма, изобилующие более чем откровенными подробностями о нравах Версальского двора, в частности о гомосексуальных наклонностях многих вельмож. О ней уже упоминалось в томе «Под сенью дев, увенчанных цветами».], вечно в костюме для верховой езды, перенявшая у супруга не только мужеподобие, но и недостатки мужчин, которые не любят женщин; в своих письмах она передавала сплетни об отношениях между всеми знатными вельможами при дворе Людовика XIV. Таким женщинам, как г-жа де Вогубер, добавляет мужеподобности еще и то, что мужья ими не интересуются; они этого стыдятся и увядают в одиночестве, постепенно теряя все очарование женственности. В конце концов у них появляются достоинства и недостатки, которых нет у их супругов. Чем легкомысленней, женоподобней, бестактней муж, тем больше жена превращается в угрюмое олицетворение добродетелей, которыми он должен бы обладать.
Правильные черты г-жи де Вогубер поблекли от следов унижения, тоски, негодования. Я чувствовал, увы, что она рассматривает меня с живым любопытством, считая одним из юношей, которые нравятся г-ну де Вогуберу, и что теперь, когда ее стареющего мужа привлекают молодые, ей самой хотелось бы быть такой, как я. Она смотрела на меня внимательно, как провинциалки, присматривающие себе в каталоге модных новинок костюмчик-тальер[44 - …костюмчик-тальер… – Дамский костюм «тальер», состоящий из жакета с длинной юбкой, был модной новинкой начала XX в.], ведь он так идет нарисованной красавице, всегда, в сущности, одной и той же, но в силу иллюзии, сотворенной разнообразием поз и туалетов, распадающейся на множество отдельных особ. Г-жу де Вогубер притягивало ко мне то же влечение, что свойственно растительному царству, причем такое сильное, что она даже схватила меня за руку, чтобы я отвел ее выпить стакан оранжада. Но я высвободился, объясняя, что скоро должен уйти, а между тем еще не представился хозяину дома.
Расстояние, отделявшее меня от входа в сады, где он беседовал с несколькими гостями, было невелико. Но меня оно страшило, словно мне предстояло пробиться через полосу пылающего огня.
Многие дамы, которые, кажется, могли бы меня представить, были в саду, где, притворяясь, будто испытывают безудержный восторг, не знали толком, чем заняться. Вообще на подобных приемах все известно заранее. Они обретают черты реальности только на другой день, когда в них вникают те, кого не пригласили. Когда истинный писатель, лишенный глупого самолюбия, свойственного множеству сочинителей, читает статью критика, всегда искренне им восхищавшегося, и видит, что тот приводит имена посредственных литераторов, а о нем умалчивает, он мог бы и удивиться, но ему недосуг на этом застревать: он спешит к своим книгам. А светской даме делать нечего, и, читая в «Фигаро»: «Вчера принц и принцесса Германтские давали большой прием и т. д.», она восклицает: «Три дня тому назад я болтала с Мари-Жильбер, а она мне ни слова не сказала!» – и ломает себе голову, гадая, чем она не угодила Германтам. Надо сказать, что иной раз те, кого приглашали на празднества принцессы Германтской, бывали удивлены не меньше, чем те, кого не приглашали. Эти празднества разражались в моменты, когда их ждали меньше всего, и собирали людей, которых до того принцесса Германтская годами забывала. А светские люди, как правило, такие ничтожества, что ценят друг друга исходя исключительно из проявленной к ним любезности: тех, кто пригласил, обожают, тех, кто пренебрег, – ненавидят. И когда принцесса в самом деле кем-то пренебрегала, даже друзьями, и не слала им приглашений, часто это объяснялось ее страхом вызвать неудовольствие «Паламеда», который успел их «отлучить». Так что я мог не сомневаться, что она не говорила обо мне с г-ном де Шарлюсом, иначе бы я здесь не оказался. Сейчас он стоял у входа в сад, рядом с германским посланником, облокотясь о перила широкой лестницы, которая вела к особняку, и хотя его окружало несколько поклонниц, заслонявших его от гостей, те непременно должны были подходить к нему и здороваться. Он отвечал, называя каждого поименно. Слышалось то «добрый вечер, господин де Азе», то «добрый вечер, госпожа де ла Тур дю Пен-Верклоз», то «добрый вечер, госпожа де ла Тур дю Пен-Гуверне, то «добрый вечер, Филибер», то «добрый вечер, моя дорогая посланница», и так далее. Все сливалось в непрерывный стрекот, перемежевавшийся благосклонными советами и вопросами, ответов на которые г-н де Шарлюс не слушал и произносил свои реплики с наигранной мягкостью и доброжелательством, желая подчеркнуть свое равнодушие: «Берегитесь, как бы малютка не простудилась, в саду всегда немного сыро… Добрый вечер, госпожа де Брантес[45 - …госпожа де ла Тур дю Пен-Верклоз… госпожа де Брантес. – Среди гостей принцессы Германтской многие носят имена, упомянутые в справочнике «Весь Париж» на 1908 год: это и маркиз и маркиза де ла Тур дю Пен-Гуверне, и граф и графиня де ла Тур дю Пен-Верклоз, и маркиза де Брантес. Последняя, тетка Робера де Монтескью, фигурирует у Пруста в пастише на Сен-Симона (сб. «Пастиши и смесь», 1919).]. Добрый вечер, госпожа де Мекленбург[46 - …госпожа де Мекленбург. – Представители дома Мекленбургов упоминаются в мемуарах Сен-Симона.]. А дочка с вами? В своем восхитительном розовом платье? Добрый вечер, Сен-Жеран». В таком поведении, разумеется, таилась гордыня. Г-н де Шарлюс знал, что он Германт и на этом празднике он главный. Но дело было не только в гордыне: само слово «праздник» для человека с эстетическими задатками означало нечто роскошное, редкостное, когда этот праздник разыгрывается не в великосветском особняке, а на картине Карпаччо или Веронезе. Хотя, скорее всего, г-н де Шарлюс, который был как-никак германским принцем, представлял себе праздник из «Тангейзера», а сам себе казался ландграфом, при входе в Вартбург встречающим благосклонным словом каждого из гостей, покуда их вереницу, втекающую в замок или в парк, стократно приветствует длинная фраза из знаменитого «Марша»[47 - …из знаменитого «Марша». – Имеется в виду марш и хор из второго акта оперы Вагнера «Тангейзер».].
Однако пора было решаться. Под деревьями я видел более или менее дружественных дам, но они выглядели как-то по-другому, потому что сейчас они были у принцессы, а не у ее кузины, и сидели не перед тарелками саксонского фарфора, а под ветвями каштана. Элегантность обстановки была ни при чем. Будь здесь все куда менее элегантно, чем у «Орианы», я бы испытывал ту же растерянность. Если у нас в гостиной гаснет электричество и приходится заменить его масляными лампами, нам кажется, что все изменилось. Из нерешительности меня вывела г-жа де Сувре. «Добрый вечер, – сказала она, подходя ко мне. – Давно ли вы виделись с герцогиней Германтской?» Она великолепно умела придать подобным фразам такую интонацию, чтобы вы поняли, что она их произносит не из чистой глупости, как люди, не знающие, о чем говорить, которые в тысячный раз подступают к вам с упоминаниями общих знакомых, подчас весьма отдаленных. Ее взгляд, напротив того, оказался тоненькой путеводной нитью, означавшей: «Не подумайте, что я вас не узнала. Вы тот молодой человек, которого я видела у герцогини Германтской. Прекрасно вас помню». К сожалению, покровительство, простершееся надо мной благодаря этой фразе, на первый взгляд бессмысленной, но по замыслу деликатной, развеялось сразу же, как только я захотел им воспользоваться. Когда требовалось поддержать чью-нибудь просьбу, обращенную к важной персоне, г-жа де Сувре владела искусством предстать перед просителем в роли той самой особы, которая его рекомендует, а высокопоставленному знакомому продемонстрировать, что она и не думает никого рекомендовать; этот двусмысленный жест открывал ей кредит благодарности в глазах просителя, при этом важной персоне она ничем не была обязана. Видя обходительность г-жи де Сувре, я расхрабрился и попросил ее представить меня хозяину дома; она улучила момент, когда его взгляд был обращен в другую сторону, по-матерински обняла меня за плечи и, улыбаясь отвернувшемуся принцу, который не мог нас видеть, подтолкнула меня в его сторону якобы покровительственным, а на самом деле бесполезным жестом, так что я, в сущности, ничуть не приблизился к цели. Вот как малодушны светские люди.