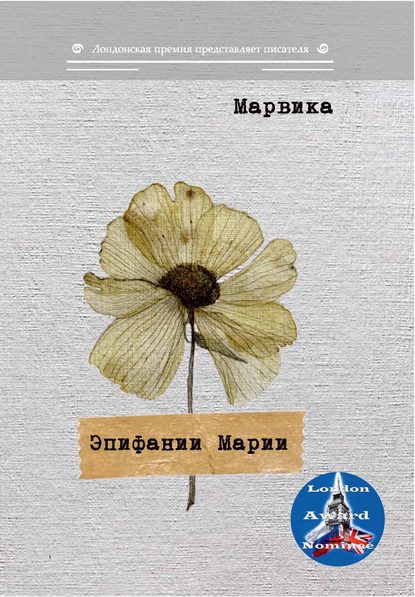По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Эпифании Марии
Автор
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рядом с окном – пожарная лестница, и Васька быстро карабкается по ней. Всё выше и выше. Дёме хорошо у Васьки за пазухой, тепло и как-то очень уютно. Вот уже и крыша. А на ней горы снега, искрящегося голубизной в солнечных бликах сильно пригревшего солнца. На вершине большого, слежавшегося за зиму сугроба Васька роет ход. А Дёма прыгает вокруг, купаясь в белоснежных фонтанах снега, летящего из-под Васькиных рук. Быстрее, быстрее – торопится Васька сделать себе укрытие. Снег колкий, с вмёрзшими льдинками, и хотя руки все в ранках и от холода гудят, Васька, спрятавшись в берлоге, счастлив. В сугробе прохладно, и Дёма, свернувшись на груди Васи тёплым мурчащим комочком, греет его. Вася слушает эту песенку, как колыбельную, гладит Дёму, целует в нос и говорит ему:
– Ма-ма.
София, 2014 г.
Переулкам нашего детства
Плывёт по потолку во тьме
Свет проезжающих машин;
Мне так приятно в тишине
Ловить уютный шорох шин.
Я слышу, как ложится снег,
Как мягко дворник путь скребёт
И как будильник на столе
Мгновеньям счастья счёт ведёт.
И снова эркер оживил
Проектор движущихся фар:
Звук, нарастая, подманил
В проём окна размытый шар.
Собой заполнив полукруг,
Перемежаясь, как гармонь,
Метнулся и пополз на звук
Холодный вкрадчивый огонь.
Но звук огонь переметнул,
В движенье плавном заскользив,
И угол дома обогнул,
Сменив тональность и мотив…
Димчево, осень 2006 г.
Предательство
От моего воображенья
Пришло желанье – не любить.
И две её руки, две ивовые плети,
О тучи бились!
Я познала горечь предательства в возрасте неполных пяти лет…
Жила я себе, жила (так говорят, когда день ото дня немногим отличается) в интернате – «от трёх до пяти». Может быть, жила бы и дальше, но внезапно разболелась. Воспалился у меня лимфатический узел в паху. Температура под сорок. По скорой из Звенигорода повезли меня в Филатовскую больницу в Москву. Помню неясно: жар, одевание, заснеженная дорога, хотя и было лето. Но вот обстановка в операционной врезалась в моё сознание навеки.
В лучах направленной на меня лампы блестели всевозможных размеров и форм ножички и вилочки с щипчиками и два огромных дяди склонились надо мной, отчаянно орущей, призывая замолчать хотя бы на мгновение.
– Тебе же не больно! – убеждали они меня, смеясь.
Один из них, державший нож в руке, был похож на Карабаса-Барабаса, готового напасть на меня. Ему было особенно, как мне казалось, весело. И вот к нему-то после проверки на боль – послушалась, замолчала, и действительно было не больно, но не поверила! – ведь он нож на меня наставил, – и обратилась я с мольбой!
– Дяденька, не режьте меня! Пожалуйста, отпустите меня! – кричала я, хотя понимала всю безысходность моего положения.
Я давно узнала, что это – безысходность. Когда мама начала собирать меня в дальнюю дорогу, я подбежала к дяде, её знакомому, и попросила закурить, потому что меня дразнил запах сигареты в его руке.
– Возьми, – сказал он и так ее повернул, что обжёг мне руку. Я оттянула большой палец и увидела саднящий водянистый пузырь. Мне было очень обидно.
Когда мама оставляла меня в незнакомом доме, я ещё не знала, что это навсегда. Просто мама исчезла, а меня отвели в большую комнату с множеством детских кроваток и положили спать. Я безудержно плакала, я промочила своими слезами насквозь всё одеяло и ждала, когда мама придёт. Потом я описалась, и меня, не ругая, переодели. Меня вырвало. И меня снова, не ругая, переодели. Больше я ничего не помнила…
Моё сознание проснулось от прикосновения к холодному вафельному полотенцу. Как и другие малыши, я протирала им ноги перед сном. И в следующий миг до меня стал доходить смысл разговора двух нянь.
Одна говорила другой обо мне:
– Видишь эту девчонку? Она «тово»: ревела всю неделю!
И вот теперь мой ум, привыкший в условиях двухлетнего пребывания вдали от семьи к различным ухищрениям коллективной жизни, метался в поисках привлекательного предложения для дяди, державшего ножик в руке. Что могла предложить я ему, готовому разделаться со мной, как Карабас-Барабас с Буратино? Что? Я панически искала. И нашла!
– Я, я буду любить вас, дядя, я буду любить вас больше… чем мою родную мамочку! – прокричала я.
И в ту же секунду все моё естество содрогнулось от ещё большего ужаса. Ужаса от того, что я отказалась от единственного, что было моим, – от любви к моей дорогой мамочке. После этого осознания я перестала беспокоиться об исходе идущей уже полным ходом операции. И вспоминаю себя уже в момент моего любознательного изучения дырки в паху. В палате, где я размотала бинты, мне думается, на третий день пребывания в больнице.
В коридоре у окна я рассматривала с другими детьми стены и башенки зоопарка, не зная, что это такое.
А в следующий проблеск памяти я увидела себя выходящей с мамой из дверей больницы. Это неописуемое ощущение её близости, запаха сирени от её руки, державшей мою руку, омрачалось беспокойством стыда – стыда моего отречения, о котором она так никогда и не узнала…
Москва, 2010 г.
О первой любви
Я неожиданно проснулась,
И ты в ногах моих сидел.
Палата девочек тянулась
Кроватями вдоль белых стен.
Приятель твой с моей соседкой
Вёл приглушённый разговор
О лошадях за перелеском.
Ловила я твой влажный взор,
Твои ленивые движенья:
Как будто не шестнадцать лет,
А тысячи преображений
Ты нёс в себе. И мой портрет,
Белеющий над изголовьем,
С моей душой столкнулся вновь
В том беспощадном первом чувстве,
Людьми зовущемся любовь.
И от того противоречья:
От восхищения тобой —
Твои красивые движенья,
– Ма-ма.
София, 2014 г.
Переулкам нашего детства
Плывёт по потолку во тьме
Свет проезжающих машин;
Мне так приятно в тишине
Ловить уютный шорох шин.
Я слышу, как ложится снег,
Как мягко дворник путь скребёт
И как будильник на столе
Мгновеньям счастья счёт ведёт.
И снова эркер оживил
Проектор движущихся фар:
Звук, нарастая, подманил
В проём окна размытый шар.
Собой заполнив полукруг,
Перемежаясь, как гармонь,
Метнулся и пополз на звук
Холодный вкрадчивый огонь.
Но звук огонь переметнул,
В движенье плавном заскользив,
И угол дома обогнул,
Сменив тональность и мотив…
Димчево, осень 2006 г.
Предательство
От моего воображенья
Пришло желанье – не любить.
И две её руки, две ивовые плети,
О тучи бились!
Я познала горечь предательства в возрасте неполных пяти лет…
Жила я себе, жила (так говорят, когда день ото дня немногим отличается) в интернате – «от трёх до пяти». Может быть, жила бы и дальше, но внезапно разболелась. Воспалился у меня лимфатический узел в паху. Температура под сорок. По скорой из Звенигорода повезли меня в Филатовскую больницу в Москву. Помню неясно: жар, одевание, заснеженная дорога, хотя и было лето. Но вот обстановка в операционной врезалась в моё сознание навеки.
В лучах направленной на меня лампы блестели всевозможных размеров и форм ножички и вилочки с щипчиками и два огромных дяди склонились надо мной, отчаянно орущей, призывая замолчать хотя бы на мгновение.
– Тебе же не больно! – убеждали они меня, смеясь.
Один из них, державший нож в руке, был похож на Карабаса-Барабаса, готового напасть на меня. Ему было особенно, как мне казалось, весело. И вот к нему-то после проверки на боль – послушалась, замолчала, и действительно было не больно, но не поверила! – ведь он нож на меня наставил, – и обратилась я с мольбой!
– Дяденька, не режьте меня! Пожалуйста, отпустите меня! – кричала я, хотя понимала всю безысходность моего положения.
Я давно узнала, что это – безысходность. Когда мама начала собирать меня в дальнюю дорогу, я подбежала к дяде, её знакомому, и попросила закурить, потому что меня дразнил запах сигареты в его руке.
– Возьми, – сказал он и так ее повернул, что обжёг мне руку. Я оттянула большой палец и увидела саднящий водянистый пузырь. Мне было очень обидно.
Когда мама оставляла меня в незнакомом доме, я ещё не знала, что это навсегда. Просто мама исчезла, а меня отвели в большую комнату с множеством детских кроваток и положили спать. Я безудержно плакала, я промочила своими слезами насквозь всё одеяло и ждала, когда мама придёт. Потом я описалась, и меня, не ругая, переодели. Меня вырвало. И меня снова, не ругая, переодели. Больше я ничего не помнила…
Моё сознание проснулось от прикосновения к холодному вафельному полотенцу. Как и другие малыши, я протирала им ноги перед сном. И в следующий миг до меня стал доходить смысл разговора двух нянь.
Одна говорила другой обо мне:
– Видишь эту девчонку? Она «тово»: ревела всю неделю!
И вот теперь мой ум, привыкший в условиях двухлетнего пребывания вдали от семьи к различным ухищрениям коллективной жизни, метался в поисках привлекательного предложения для дяди, державшего ножик в руке. Что могла предложить я ему, готовому разделаться со мной, как Карабас-Барабас с Буратино? Что? Я панически искала. И нашла!
– Я, я буду любить вас, дядя, я буду любить вас больше… чем мою родную мамочку! – прокричала я.
И в ту же секунду все моё естество содрогнулось от ещё большего ужаса. Ужаса от того, что я отказалась от единственного, что было моим, – от любви к моей дорогой мамочке. После этого осознания я перестала беспокоиться об исходе идущей уже полным ходом операции. И вспоминаю себя уже в момент моего любознательного изучения дырки в паху. В палате, где я размотала бинты, мне думается, на третий день пребывания в больнице.
В коридоре у окна я рассматривала с другими детьми стены и башенки зоопарка, не зная, что это такое.
А в следующий проблеск памяти я увидела себя выходящей с мамой из дверей больницы. Это неописуемое ощущение её близости, запаха сирени от её руки, державшей мою руку, омрачалось беспокойством стыда – стыда моего отречения, о котором она так никогда и не узнала…
Москва, 2010 г.
О первой любви
Я неожиданно проснулась,
И ты в ногах моих сидел.
Палата девочек тянулась
Кроватями вдоль белых стен.
Приятель твой с моей соседкой
Вёл приглушённый разговор
О лошадях за перелеском.
Ловила я твой влажный взор,
Твои ленивые движенья:
Как будто не шестнадцать лет,
А тысячи преображений
Ты нёс в себе. И мой портрет,
Белеющий над изголовьем,
С моей душой столкнулся вновь
В том беспощадном первом чувстве,
Людьми зовущемся любовь.
И от того противоречья:
От восхищения тобой —
Твои красивые движенья,