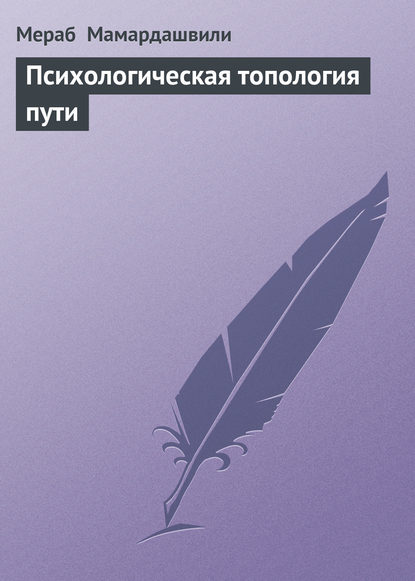По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Психологическая топология пути
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Психологическая топология пути
Мераб Мамардашвили
Мераб Мамардашвили
Психологическая топология пути
ЛЕКЦИЯ 1
6.03.1984
Мы будем иметь дело с текстом романа «В поисках утраченного времени», он будет для нас материалом, а темой будет «Время и жизнь». Почему такая тема? По одной простой причине: жизнь – и кстати, Пруст так ее и определял – есть усилие во времени[1 - T.R. – p. 1046. – Здесь и далее все цитаты из романа Пруста приводятся в переводе М.Мамардашвили по изданию: Proust, Marsel. A la recherche du Temps perdu. T. I – III. «Bibliothеque de la Plеiade». Paris, 1954 (с указанием сокращенного названия части романа и страницы).]. То есть нужно совершать усилие, чтобы оставаться живым. Мы ведь на уровне нашей интуиции знаем, что не все живо, что кажется живым. Многое из того, что мы испытываем, что мы думаем и делаем, – мертво. Мертво (в простом, начальном смысле, я пока более сложные смыслы не буду вводить), – потому что подражание чему-то другому – не твоя мысль, а чужая. Мертво, потому что – это не твое подлинное, собственное чувство, а стереотипное, стандартное, не то, которое ты испытываешь сам. Нечто такое, что мы только словесно воспроизводим, и в этой словесной оболочке отсутствует наше подлинное, личное переживание. Хочу подчеркнуть, что мертвое не в том мире существует, не после того, как мы умрем, – мертвое участвует в нашей жизни, является частью нашей жизни. Философы всегда знали (например, Гераклит), что жизнь есть смерть[2 - Одно и тоже в нас – живое и мертвое, бодрствующее и спящее, молодое и старое, ибо эти (противоположности), перемешавшись, суть те, а те, вновь перемешавшись, суть эти»(Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. С. 213).] и т д. (обычно это называют диалектикой, но это слово мешает понять суть дела). Тем самым философы говорят, что жизнь в каждое мгновение переплетена со смертью. Смерть не наступает после жизни – она участвует в самой жизни. В нашей душевной жизни всегда есть мертвые отходы или мертвые продукты повседневной жизни. И часто человек сталкивается с тем, что эти мертвые отходы занимают все пространство жизни, не оставляя в ней места для живого чувства, для живой мысли, для подлинной жизни. Кстати, словосочетание «подлинная жизнь» – одно из наиболее часто встречающихся в тексте Пруста[3 - См.: T.R. – p. 881, p. 895; J.F. – p. 718.]. «Моя подлинная жизнь» – сама интенсивность этого оборота, потребность в нем говорят о том, что очень трудно отличать живое от мертвого. Для каждого нашего жизненного состояния всегда есть его дубль. Мертвый дубль. Ведь вы на опыте своем знаете, как трудно отличить нечто, что человек говорит словесно – не испытывая, от того же самого, но – живого. Почему трудно? Потому, что слова одни и те же. И вы, наверно, часто находились в ситуации, когда, в силу какого-то сплетения обстоятельств, слово, которое у вас было на губах, вы не произносили, потому что в то же самое мгновение, когда вы хотели его сказать, чувствовали, что сказанное будет похоже на ложь. Когда вы молчите – то в том числе потому, что сказанное уже от вас не зависит, оно попало в какой-то механизм и совпадает с ложью (хотя оно может быть правдой). У Данте есть прекрасная строка в «Божественной комедии» – кстати, было бы не вредно вам почитать Данте параллельно с текстом Пруста, потому что так же, как текст Пруста есть путешествие души, так и «Божественная комедия» – одна из первых великих записей внутреннего путешествия души. И многие дантовские символы, слова и обороты непроизвольно совпадают с оборотами у Пруста, хотя Пруст вовсе не имел в виду цитировать Данте. Так вот, Данте, ведомый Вергилием, увидел чудовище обмана Гериона, с телом змеи (но скрытым во мгле) и с человеческой головой. Человек, но в действительности – змея. И Данте говорит – увидел правду (это символика), увидел воплощение человеческого обмана, но сказать ее (правду) человек считает невозможным. «Мы истину, похожую на ложь, должны хранить сомкнутыми устами»[4 - Данте Алигьери. Божественная комедия. М., 1967. Ад, XVI, с. 75. (Пер. М.Лозинского.)]. Одна из наиболее частых наших психологических ситуаций. И я привел этот пример, чтобы настроить вас на то, как отличить живое от мертвого или ложь от истины, поскольку обозначения одни и те же и, самое главное, внутренняя разница между ложью и истиной, не существуя внешне (не существуя в словах и в предметах; предметы лжи и истины похожи, неотличимы), предоставлена целиком какому-то особому внутреннему акту, который каждый совершает на собственный страх и риск. Этот акт можно назвать обостренным чувством сознания.
Значит – внутренний акт. То есть отличение устанавливается мною, оно не дано в вещах. Оно независимо от меня не существует. Тот, кто врет, говорит те же слова, что и тот, кто говорит правду. В словах правда не содержится и в этом смысле не может быть записана. Преметы лжи и истины одни и те же. И это внешне неуловимое отличие и есть внутренний акт. Но, поскольку мир его не совершает, его нельзя закрепить, сказать: это уже сделано и существует; как, скажем, можно запомнить, обозначить символом какую-то формулу и потом пользоваться только символом, не восстанавливая всего содержания. Я призываю вас совершать этот акт по отношению к тексту Пруста. Приведу маленькую цитату. Текст Пруста, поскольку он большой художник, очень красив, состоит из хорошо выбранных и хорошо связанных слов; есть непосредственная красота стиля, и она настолько доступна, что иногда именно поэтому мы не задумываемся над сказанным. Почти все слова многозначны, имеют глубину, в них есть какой-то отсвет. Пруст иногда сравнивает хороший стиль с бархатом (ткань, приятная на ощупь, и в то же время дает ощущение глубины ускользающей)[5 - T.R. – p. 898.]. Простая цитата – в романе фигурируют сестры бабушки героя (очень распространенный в Грузии тип женщин, чаще всего дворянского происхождения; то есть они принадлежали к сельскому дворянству, фактически разорившемуся, но в действительности, конечно, составляли костяк нации, который больше всего пострадал в годы революции; они были носителями просвещения, определенных норм морали, традиций). И Пруст говорит, что сестры бабушки думали, что детям всегда нужно показывать произведения, которые достойны того, чтобы ими восхищались. Им казалось, что эстетические качества подобны существующим материальным предметам (скажем, «красивое» – это материальное качество какого-то предмета, или «благородное», «возвышенное», «честное»; так же, как вы сейчас не можете не видеть меня, поскольку я – материальный предмет перед вами). И если мы попытаемся окружить ребенка такими предметами – хорошими книгами в том числе, то тем самым его образовываем.
И вдруг Пруст замечает: «Значит, они считали, что нельзя не увидеть эстетического качества (вместо «эстетического» подставьте любое другое: моральное, интеллектуальное), и они думали так, не понимая, что этого нельзя сделать (то есть увидеть) без того, чтобы не дать медленно вызреть в своей собственной душе эквиваленту этого качества»[6 - Sw. – p. 146.]. То есть совершить то, что я перед этим называл внутренним актом. Вот я сейчас занимаюсь, казалось бы, милой пустяковой фразой Пруста, но за этим стоит какая-то структура. Для Пруста человек не субъект воспитания, а субъект развития, который обречен на то, чтобы совершать внутренние акты на свой страх и риск, чтобы в душе его вызрели эквиваленты того, что внешне, казалось бы, уже существует в виде предметов или человеческих завоеваний. Так вот, людей можно якобы воспитывать, если окружить их, например, самыми великими и благородными мыслями человечества, выбитыми на скалах, изображенными на стенах домов в виде изречений, чтобы, куда человек ни посмотрел, всюду его взгляд наталкивался бы на великое изречение, и он тем самым формировался. Беда в том, что мы и к книгам часто относимся таким образом. Для Пруста же в книге не существует того содержания, с которым мы с вами должны вступить в контакт: оно может только возникнуть в зависимости от наших внутренних актов. Книга была для Пруста духовным инструментом, посредством которого можно (или нельзя) заглянуть в свою душу и в ней дать вызреть эквиваленту. А перенести из книги великие мысли или состояния в другого человека нельзя. То есть книга была частью жизни для Пруста. В каком смысле? Не в том смысле, что иногда на досуге мы читаем книги, а в том, что что-то фундаментальное происходит с нами, когда акт чтения вплетен в какую-то совокупность наших жизненных проявлений, жизненных поступков, в зависимости от того, как будет откристаллизовываться в понятную форму то, что с нами произошло, то, что мы испытали, что увидели, что нам сказано и что мы прочитали. И вот так мы и должны попытаться отнестись к тексту самого Пруста. Он позволяет нам это делать. Пруст говорил, что книги, в конце концов, не такие уж торжественные вещи, они не очень сильно отличаются от платья, которое можно кроить и так и этак, приспосабливая к своей фигуре[7 - T.R. – p. 911, 1033.]. Поэтому не надо стоять по стойке смирно перед книгами. Такова мысль Пруста.
И поскольку я уже употребил слово «жизнь», то хочу за это зацепиться. Как я бы выразил основную ситуацию Пруста в той книге, с которой мы должны иметь дело? Вообще-то это роман желаний и мотивов. В психологии есть такой термин «мотив» – имеется в виду психологическая причина того или иного дела или поступка. А Пруст слово «мотив» (и я вслед за ним) употребляет в музыкальном смысле – что есть какая-то устойчивая нота, проходящая через достаточно большое пространство музыкального произведения[8 - См.: Sw. – p. 390; C.G. – p. 143, p. 159; S.B. – p. 559.]. И у жизни есть мотив, есть какая-то нота, пронизывающая большое пространство и время жизни. И этот мотив связан чаще всего с желанием. В одном очень простом смысле: ведь в действительности мы являемся только и только желающими существами. И, кстати, одно из самых больших желаний – желание жить. Но жить – как? Чувствовать себя живым! Наши желания и позволяют нам чувствовать себя живыми. Это самая большая ценность. У жизни нет ценности вне ее самой, она сама – ценность в этом смысле. Не в том смысле, что мы должны сохранить жизнь как физический факт, – физически мы ведь знаем, что кто-то умер, а кто-то жив. Нет, имеется в виду, что желания, повторяю, есть такие наши проявления или свойства, в которых мы чувствуем себя живыми и поэтому стремимся реализовывать их. Следовательно, основное наше желание – это жить. А вот жить, оказывается, не просто. И не только по тем причинам, о которых я говорил. Я говорил, что жизнь сплетена со смертью, а там есть очень сложные вещи, стоящие за нашими жизненными актами. Стоящие за теми ситуациями (а их очень много), которые обращены к нам только одним требованием: чтобы мы со своей стороны совершили внутренний акт. И сейчас я поясню, что я хочу сказать. Возьму самую типичную ситуацию, требующую такого акта. Ситуация следующая у Пруста (расшифровывайте мысленно вслед за мной эту ситуацию в ассоциации со словами «желание», «чувствую себя живым» и т д.) – условно назову ее ситуацией места. А именно: где я? Ситуация знания или незнания мной моего действительного положения. Ну, условно говоря, на каком я свете нахожусь? Где я – по отношению к чему-то? Что в действительности со мной происходит? Потому что то, что в действительности со мной происходит, может отличаться от того, что происходит на моих глазах. Что я в действительности чувствую? Ведь очень часто мне кажется, что я люблю, а на самом деле я ненавижу. Вы знаете это не только по жизни, но и по элементарным психологическим знаниям. Мне кажется, что я люблю Альбертину (героиня прустовского романа), а в действительности я хочу слушать музыку. Почему? Да просто по каким-то причинам Альбертина стала для меня носителем этого желания – то есть каким-то механизмом, которого я не знаю, совершился перенос моего стремления к музыке на стремление к Альбертине. В моем сознании я стремлюсь к Альбертине, а в действительности хочу слушать хорошую музыку. Или: я бегу на свидание с женщиной, уверенный в том, что ищу свидания именно с ней, а в действительности я подчиняюсь каким-то другим чувствам, и тот факт, что эти чувства – другие, очень часто обнаруживается на свидании. Потому что иногда прямо пропорциональна моему нетерпению прибежать на свидание бывает скука, которая охватывает меня на свидании, и возникает желание, чтобы свидание поскорее кончилось. Причем эта скука непонятна, потому что, придя на свидание, я обнаруживаю человека, который обладает всеми теми качествами – они ведь не изменились, – из-за которых я, казалось бы, на это свидание стремился. А вот какое-то смятение, тоска овладевают тобой, то, что немцы называют Unbehagen, и ты не помнишь, как говорит Пруст, даже черт любимой женщины[9 - J.F. – p. 490.]. Ты-то считал, что именно эти черты есть предмет любви или причина любви, но, очевидно, это не так, потому что ты даже не помнишь их после свидания. А то, чего ты не помнишь, не может быть причиной страстного состояния.
Я это все привел только к тому, чтобы пояснить, что когда возникает вопрос: что я в действительности чувствую, то это не есть само собой разумеющийся вопрос, имеющий само собой разумеющийся ответ. Напомню вам, что Фолкнер в свое время… кстати, то, что я сейчас говорю, отразилось на радикально измененной, или революционной, если хотите, форме романа. Очевидно, тот тип испытания, который прежде всего хотели пройти Фолкнер и Пруст, их тип опыта не мог уложиться в классическую форму, сломал бы ее, и приходилось изобретать новую, другую форму.
И у Пруста, и у Фолкнера фактически нет именного сюжетного героя, а есть герой, фамилии которого мы даже не знаем, все слои времени перемешаны, повествование свободно скачет от одного времени к другому вне какой-либо последовательной связи, к которой мы привыкли в классическом романе. Нет изображения никакого общества, никаких социальных движений, никакой, если угодно, объективной картины. Все строится совершенно иначе. Почему? И тут я возвращусь к фразе Фолкнера, которую хотел привести. Фолкнер говорил, что самая большая трагедия человека – когда он не знает, каково его действительное положение[10 - См.: Фолкнер У. Собрание рассказов. М., 1977. С. 573; его же: Статьи и интервью. М., 1985. С. 244.]. Где он и что происходит с ним? Вернее – как и когда сцепилось то, что сейчас происходит. Например, как и когда сцепилось то, что я, придя на страстно желанное свидание, только и думаю о том, чтобы оно поскорее кончилось. Что происходит? Значит, все эти ситуации обладают одним свойством: их нужно распутывать. И форма романа должна быть такой, чтобы участвовать в распутывании этого жизненного опыта. И здесь я пока помечу одну очень важную мысль. Литература или текст есть не описание жизни, не просто что-то, что внешне (по отношению к самой жизни) является. ее украшением; не нечто, чем мы занимаемся, – пишем ли, читаем ли на досуге, а есть часть того, как сложится или не сложится жизнь. Потому что опыт нужно распутать и для этого нужно иметь инструмент. Так вот, для Пруста, и я попытаюсь в дальнейшем это показать вам, текст, то есть составление какой-то воображаемой структуры, является единственным средством распутывания опыта; когда мы начинаем что-то понимать в своей жизни, и она приобретает какой-то контур в зависимости от участия текста в ней. В жизни. Сошлюсь на известный факт: Пруст писал свой роман в общем-то наперегонки со смертью, поскольку он был тяжело больным человеком, астмой больным, а вы знаете, что астма – одно из самых психологически сложных заболеваний. Оно вызывает физические мучения, которые ближе всех других к ощущению смерти, поскольку ощущение смерти непосредственно сопровождает саму болезнь. Ты задыхаешься, и смерть – не где-то далеко, а вот – она здесь. И это как раз выпало на долю Пруста (простите, что я иду разными путями, пользуясь ассоциациями, но мне кажется, так лучше говорить, чем говорить слишком гладко и последовательно). Короче, вы понимаете, что если текст есть часть жизни, – не в том смысле, что его пишет тот же самый человек, который еще и живет, ходит на работу, у него жена, дети и т д. – нет, я имею в виду другое: чтобы распутать что-то, нужно эту ситуацию представить в каком-то особом пространстве, в пространстве текста, и тогда (если этот текст удался) ситуация меняется. Набоков, кстати, то же самое проделал – в русской литературе вообще отсутствуют такого рода вещи в силу, я бы сказал, ее провинциально-патриархальной отсталости от мировой литературы, – а Набоков пробовал такие вещи делать. Например, он описывает ситуацию, оказавшись в которой его герой, построив текст для распутывания, заглянув в самого себя, установил истинный факт своей жизни, что ближайший его друг является любовником его жены. При этом, естественно, если жизнь меняется в зависимости от текста, то этот текст бесконечен. Он не может быть до конца написан – ясно, что я сейчас сказал? – по определению, он не может быть, например, оконченным, совершенным романом. И вот у Пруста были написаны начало и конец романа: где в самом начале романа уже есть конец. Пруст сравнивал строение своего романа с собором[11 - T.R. – p. 1044 – 45.]; в нем всегда есть перекличка одной части с другой. Вы ведь разглядываете собор в последовательности, вы не можете одним взглядом охватить весь собор; скажем, вначале вы смотрите на одну часть и там какое-то изображение, но оно не отдельно существует, хотя вы смотрите на него отдельно, а перекликается с другой частью собора, которую вы увидите через какое-то время. Условно назовем эту перекличку символической, то есть термином, которым пользовались символисты, – correspondances, соответствия. (Это я ввожу, наверно, узнаваемую вами тему символических соответствий.) Скажем, какая-то сцена на 50-й странице имеет смысловую перекличку и не может быть понята по окончательному своему смыслу без того, что фигурирует на 3000-й странице (примерно в конце романа). Так вот, конец уже написан. И, следовательно, конец и начало производят внутри романа события самой жизни Пруста. В том числе знаменитую «книгу любви» Альбертины; две части романа особо выпукло ее выделяют – «Пленница» и «Беглянка». Они написаны Прустом по живому. Он имел и начало и конец романа и перекраивал свою собственную реальную любовь, которая в жизни с ним происходила: это была любовь к его секретарю Альфреду Агостинелли, который погиб, кстати, так же, как и Альбертина в романе. И хочу по этому поводу сразу сделать замечание, чтобы потом к этому не возвращаться. Вы, очевидно, знаете, что Пруст не был человеком нормального сексуального темперамента. Он был гомосексуалист. Но он был одним из немногих, у которого было мужество через эту свою, назовем условно, причуду, через нее идти, в страстном человеческом искании, к общей природе любви, а не к гомосексуальной. Она была проблемой – любовь как таковая (то есть нормальная сексуальная любовь). И он смог транспонировать, и разобраться, и понять. Потому что в общем-то там действуют те же самые законы и иногда на гомосексуальной любви виднее общие законы любви (к этой последней, так сказать, причине я еще вернусь, а об отклонениях говорить больше не буду, анализ их совершенно неинтересен и не имеет ровным счетом никакого значения). Повторяю, в романе Пруст все это с пером в руке пробежал – весь безумный бег своего чувства – и справлялся с ним; вы увидите в дальнейшем преодоление Прустом основной вещи в любви. Той, которая вырывает любящего из человеческой связи, а именно мании собственника. Он понял, что мы страшны в любви, если мы хотим владеть. И от этого он освобождался. И освобождался посредством текста. Значит, текст участвует в реальной жизни.
Возвратимся к тому, что я сказал, – к ситуации. Самая типичная ситуация – незнание самого себя и своего действительного положения; значит, основная задача – узнать свое действительное положение. Роман Пруста буквально пестрит и ситуациями такого рода, и словами, относящимися к их описанию. Это была, так сказать, его мания, он так видел мир – под знаком этой интенсивности. Вы знаете, что у нас у всех есть мании. Без этого не увидишь того, что существует вне всякой мании, само по себе. По тексту Пруста ясно виден один фундаментальный закон нашей жизни. Он состоит в следующем: к сожалению, мы почти никогда не можем достаточно взволноваться, чтобы увидеть то, что есть на самом деле. Увидеть облик реальности. Например, одно из самых важных переживаний для Пруста – это сознание того, что мы любовью убиваем тех, кого любим. Поскольку мы эгоистичны, хотим владеть и т д. А с другой стороны, всегда есть ходячие фразы, которые мешают нам интенсивно что-то пережить. Мы говорим себе: все это не так; это не похоже на то, что было в прошлом, сейчас это иначе, это пройдет, образуется; надежда мешает нам интенсивно пережить теперешний момент, перенося нас в следующий, в завтра. Мы откладываем на завтра. Надежда нам мешает – что? – интенсивно воспринять то, что есть. Поэтому, кстати говоря, в мировом искусстве с самого начала есть то, что называли священным ужасом реального. Когда реальное, или то, что есть на самом деле, предстает (к сожалению, в последнее время поэты потеряли искусство наводить на нас священный ужас перед реальностью) через некое потрясение. То есть поэт должен быть достаточно взволнован или достаточно потрясен, чтобы увидеть реальность, – скажем, реальность образа матери в романе Пруста. Ведь в действительности мы своих матерей убиваем. Но именно потому, что мы никогда не можем достаточно взволноваться, мы этого не видим. Но иногда поэты рисуют страшные фигуры, которые разбивают нашу неспособность волноваться, и мы видим реальность. При этом я хочу сказать, что задача поэта не в том, чтобы взволновать нас, а в том, чтобы мы увидели то, что есть на самом деле, – наше действительное положение, или то, что мы действительно делаем.
В качестве настройки, камертона я хотел бы привести еще одну цитату из Пруста. «Какой милый закон природы, согласно которому мы живем всегда в совершеннейшем невежестве относительно того, что любим»[12 - C.G. – p. 282.]. У него часто повторяется такой образ: как бы любящий находится по одну сторону стеклянной перегородки, как в аквариуме, стенкой которого он отгорожен от мира, и у него – один мир, он видит вещи в аквариуме. Он нас не видит. Он видит вещи своими глазами, и они для него бесконечны. Ведь поле нашего глаза бесконечно, и в этом поле мы видим то, что видит глаз. Но представьте стенку аквариума, в которой бесконечно отражается вода самого аквариума, – рыба не видит стенки, она бесконечно видит только воду. Потому что если бы она увидела стенку, то увидела бы и то, что она – в аквариуме. А она не видит, что находится в аквариуме. (Я сейчас перелагаю образы Пруста, связываю их, они появляются в разных местах романа[13 - См.: S.G. – p. 1049; C.G. – p. 282.].) И для нее этот мир – единственный. А реальность врывается в аквариум или в мир рыбы, или в мир влюбленного, подобно тому как в реальном, действительном аквариуме появляется рука человека и вынимает рыбу из воды, которая ей казалась единственной и бесконечной. Куда бы она ни посмотрела – везде была вода, а тут вдруг – рука появилась и вынула ее из аквариума. Так вот, для Пруста существует ситуация этих стеклянных перегородок, которые являются непроходимыми. То есть то, что по эту сторону стекла, невидимо и оттуда тоже, и только какие-то события, называемые реальностью, могут переносить события из одного мира в другой. Например, барон Шарлю, очень яркая фигура, жил подобно рыбе. Я сказал, что вода отражается в стекле бесконечно, тогда как рядом в тени рыбовод, pisciculteur, наблюдает за ее шевелением, – а для Шарлю таким рыбоводом была мадам Вердюрен, хозяйка салона, который он посещал. В этом салоне Шарлю представлял аристократический мир; ему казалось совершенно естественным, что все посетители салона знают, что он представитель одной из самых древнейших аристократических фамилий Франции. А видели его там совершенно иначе, и Пруст говорит, что он был бы так же потрясен, узнав, как он выглядит в глазах других, как мы бываем потрясены, когда по какой-то случайной причине спускаемся по черной лестнице к выходу и видим надписи, оставленные слугами о нас самих[14 - См.: S.G. – p. 1049.]. (Потому что слуг мы видим в своем мире.) «И более того, – замечает Пруст, – народы в той мере, в какой они являются коллекцией индивидов (то есть общества есть коллекции индивидов, и законы индивидов, следовательно, являются также, но только в другом масштабе, и общими законами; одна из важных мыслей Пруста уже такого социологического, или политического, если угодно, характера), дают более обширные примеры – но идентичные тем, которые даются индивидами, – этой глубокой и приводящей в замешательство слепоты»[15 - Ibid.].
Упрямой и приводящей в замешательство слепоты – остановимся на этих словах. Поскольку я посредством Пруста занимался чтением своего опыта и в своей душе, могу признаться, что одним из моих переживаний (из-за которых я, может быть, и стал заниматься философией) было именно это переживание – совершенно непонятной, приводящей меня в растерянность слепоты людей перед тем, что есть. Поразительный феномен, он действительно вызывает замешательство. И этот феномен определяет форму романа: он написан так, чтобы справиться – философ скажет в данном случае (простите меня за термины, вы видите, что я избегаю каких-либо специальных философских терминов, но одним воспользуюсь, чтобы просто напугать вас) – с онтологической ситуацией. Онтологическая ситуация человека есть ситуация упрямой слепоты. И нации стоят нос к носу с чем-то и – этого не видят. И люди, конечно, отдельные; а нации, я сказал, – коллекции индивидов. Скажем, достаточно присмотреться к некоторым эпизодам российской истории, чтобы увидеть, что это ситуация – я сейчас ее иначе назову, – когда мы не извлекаем опыта. Когда с нами что-то происходит, а опыта мы не извлекаем, и это бесконечно повторяется. Кстати, у Пруста очень часто фигурирует образ ада. А мы употребляем слово «ад» как обыденное или из религии заимствованное слово, но забываем его первоначальный символизм. Ад – это слово, которое символизирует нечто, что мы в жизни знаем и что является самым страшным, – вечную смерть. Смерть, которая все время происходит. Представьте себе, что мы бесконечно прожевываем кусок и прожевывание его не кончается. А это – не имеющая конца смерть. Это дурно повторяется. Все заново и заново в нашей жизни или в истории делается одна и та же ошибка, мы совершаем что-то, из-за чего раскаиваемся, но это раскаяние не мешает нам снова совершать то, из-за чего мы раскаиваемся. Почему? Потому что не существует, очевидно, структуры, в которой мы раз и навсегда извлекли бы опыт из того, из-за чего нам пришлось раскаиваться. А если этого не сделали, то есть не поняли, если мы не извлекли опыта, то это будет повторяться. Скажем, в российской истории, я бы сказал, вовсю гулял гений дурных повторений. Попробуйте сами поискать для этого примеры. Вы их очень легко найдете.
Возвращаюсь к ситуации слепоты. У слепоты есть законы. И они же есть и у прозрения, Теперь эту основную ситуацию слепоты, сказав «законы и слепоты, и прозрения», я выражу так. Основное, что занимает Пруста как реальное человеческое переживание, из-за чего, собственно, он и занялся литературой, стал романистом, – это следующий вопрос. Почему мы видим что-то и не видим этого? Почему мы что-то знаем и почему чего-то не знаем? Причем это «что-то» всегда относится к уже существующему. То есть имеется в виду отношение человека к уже существующей истине, с которой он сталкивается, и существуют какие-то законы, в силу которых он слеп и не видит. Условно назову это – ситуацией соприкосновений или несоприкосновений. Встреч. Ссылаюсь на книгу, которую вы или не читали, или не можете прочитать, потому что ее достать невозможно; а сейчас я хочу пояснить эту нечитанную книгу, ссылаясь еще на одну книгу, нечитанную, которую вы тем более не можете прочитать, потому что она, условно скажем, запрещенная, хотя в области культуры для человеческого достоинства не существует запрещенных книг. Все, что создано человеком, нам принадлежит по праву, которого никто у нас не может отнять. Я имею в виду роман Пастернака «Доктор Живаго», который построен как роман прояснения, менее удачно, чем прустовский роман, но это тоже роман распутываний. И там есть такие – магические встречи. Вот где-то, на каком-то полустанке встречаются люди, созданные друг для друга, но не узнающие друг друга. Принадлежащие друг другу как бы судьбой, но в этой встрече прошедшие мимо. Встреча как бы мигнула, как знак на полустанке железнодорожном, поезд потом отгрохотал тысячи километров и десятки лет, и где-то эта встреча перемигивается с их же другой встречей, когда они узнают друг друга, открываются друг другу. Ситуация пересекающихся или непересекающихся путей или какая-то игра в зеркале взглядов, которые сошлись в точку или не сошлись, – разделены. Чтобы пояснить то, о чем я говорю, зачитаю вам цитату. Значит – одна из кардинальных сцен романа Пруста, внутренний душевный стержень поиска, на который нанизаны другие эпизоды. Чтобы облегчить восприятие, я немножко иначе, более обыденно, выражу ситуацию, о которой я говорил. Вот что-то из моей жизни, что является частью моей жизни, что я должен был бы знать, мне как раз знать не дано, а знает тот, кому это совсем не нужно. Скажем, такая ситуация у Пруста – там тоже взгляды перекрещиваются (представьте себе, что мы все смотрим в небо и в перекрестке взглядов, на кончике перекрестка возникают или не возникают какие-то фигуры, лица, события, знания; это все – фигуры, образы, а иногда вместо образов – тени), – два героя: Марсель, то есть герой романа, и маркиз Сен-Лу, друг юных лет Марселя, притягательная фигура для него как воплощение аристократизма. (Ну, аристократия не случайно притягивала и Пруста, и героя романа. Не в силу какого-то снобизма, а в силу того, что аристократия – это символ, так сказать, или реальное, материальное бытие всего завершенного, ставшего. И вот в качестве таких совершенных воплощений того, что свершилось, – люди, которые что-то сделали в истории и доблестью своей установили имя. Потом это имя может стать пустым, конечно. Но это тоже надо разгадать.) Значит – Сен-Лу и Марсель. Марселю дано знать что-то о возлюбленной Сен-Лу, то есть знать что-то, что как раз Сен-Лу нужно, а Марселю безразлично, – он по случайности судьбы встретился с возлюбленной Сен-Лу в доме свиданий, где мог иметь эту женщину, до того как Сен-Лу влюбился в нее и т д., за двадцать франков. Марсель, следовательно, знает, какова она. Ее зовут Рахиль. И кстати, прозвище у нее в романе… по возрасту это не совпадает с вашим возрастом; я сказал «возраст», потому что есть мелодии, которые как волны существуют. Есть годы, когда была популярна какая-то мелодия, и она все время звучит по радио или где-то еще, и эта волна может охватывать собой десятилетие, потом еще десятилетие какой-то новой мелодией. Я помню, в мои времена, к несчастью или к счастью, не было транзисторных приемников, а была черная тарелка репродуктора, и из нее часто раздавалась ария из оперы Галеви «Жидовка» – «Рахиль, ты мне дана небесным провиденьем» (а по-французски – «Rachel quand du Seigneur»)… Прозвище у этой девочки, которая продавала себя в доме свиданий, было «Рахиль, ты мне дана небесным провиденьем». А Марсель был наслышан от своего друга Сен-Лу о какой-то совершенно божественной женщине, которая просто королева по своим интеллектуальным, моральным и физическим качествам. И вот происходит знакомство на улице, и вдруг Марсель видит ту самую Рахиль… «небесное провидение», и она же – возлюбленная Сен-Лу и для него «пуп земли». Царица – по своим моральным, физическим и интеллектуальным достоинствам. И Пруст пишет: «Несомненно (герой смотрит на Рахиль, на ее лицо, и он замечает), это было то же самое худое и узкое лицо, которое мы видели, и Робер (так звали Сен-Лу), и я. Но мы пришли к нему (к этому лицу – наша мысль как бы является каким-то путем, или взгляд наш тоже – путь в этом небе, где скрещиваются взгляды) по противоположным дорогам (у нашей души есть дороги, по которым мы идем), которые никогда не вступят во взаимное общение»[16 - C.G. – p. 159.].
Значит, еще один образ. Во-первых, есть дороги, во-вторых, есть несообщающиеся дороги. И мы никогда не увидим одно и то же лицо. В силу того, что с разных сторон, – то есть не с физически разных сторон, потому что физически, говорит Пруст, это одно и то же худое и узкое лицо. Физически – оно одно, дороги – разные к нему. То есть дороги наших душ часто обусловлены просто случайностью встречи. Случайно Прусту дано было ненужное ему знание, – потому что эта женщина не существует в его жизни, она просто женщина, заменимая любыми другими женщинами. Он перекрестился с нею в доме свиданий, а Сен-Лу увидел впервые Рахиль на сцене театра. Он сидел в партере, и на лицо Рахиль, которую он впервые увидел на сцене, падал отблеск всех высоких мечтаний о благородных чувствах, которые выражает искусство; все, что искусство накладывает – на что? – на роль, и в отблеске, в отсвете этой роли перед ним предстала реальная женщина. Исходная точка для Сен-Лу, в силу случайности, была другая. То есть начальная точка какого-то пути была другая. Взгляд Сен-Лу был устремлен в какую-то точку, на которую были проецированы не реальные качества женщины, а качества искусства. Или качества наших высоких стремлений. Все высокое, возвышенное, прекрасное и т д. (В другом месте романа Пруст опять говорит о перемигивании встреч, разделенных многими километрами физического пути, или физического времени[17 - См.: Ibid. P. 176.].) Итак, Сен-Лу увидел в театре Рахиль, и она предстала перед ним как точка, на которую проецированы высокие состояния, которые навеивает нам искусство, и они отражались в Сен-Лу уже образом прекрасной женщины, и в перерыве, за кулисами он представлен Рахиль, но он увидел совершенно невыразительное, размытое лицо (поскольку – за кулисами, не на сцене), «но решил отложить выяснение вопроса о том, какова действительная Рахиль»[18 - См.: Ibid. P. 175.]. То ли пустое, с размытыми чертами лицо, то ли прекрасное явление, которое он видел во время представления. Я специально этот пассаж привел и употребил вслед за Прустом слова – отложил выяснение вопроса о том, какова Рахиль в действительности, – в слове «отложил» вся философия Пруста заложена. Значит – ситуация слепоты, то есть ситуация того, что есть что-то, что мы должны знать, а мы не знаем; что-то, с чем мы встречаемся и что принадлежит нам, а мы не видим. Напомню вам другой мировой образ, чтобы вы четко настроились на эту ситуацию. Вы знаете, что одно из античных воплощений ситуации незнания или слепоты – трагедия «Царь Эдип». Ведь Эдип спит с женщиной, которая является на самом деле его матерью. И убивает на дороге в случайной драке путника, который на самом деле не просто путник, а его отец. Это части его жизни. Не какие-то безразличные вещи, а части его жизни – отец и мать. Он с ними соприкасается и – не видит. В матери он видит женщину, жену, а в отце – обидевшего его путника. Вот о чем в действительности идет речь на всех страницах прустовского романа. Повторяю, что слепота не зависит от наших способностей. Здесь слово «слепота» не употребляется в зависимости от того, умные мы или глупые. Ведь, скажем, греки не обсуждали проблему: царь Эдип – умный или глупый. Он же не по глупости не видит матери в своей жене. Все эти проблемы – вне проблем нашей сообразительности. Вот что нужно нам понять. К сообразительности, к уму и глупости это не имеет никакого отношения. Но имеет отношение к одному. Я сказал: отложил выяснение вопроса, и вторым словом обозначу это: не имеет отношения к уму или глупости, а имеет отношение к труду. Это второе слово, связанное со словом «отложил». Значит, мир Пруста, или мир слепоты, есть такой мир, в котором, если на какое-то мгновение мы имеем какое-то впечатление – как впечатление Сен-Лу, когда он неожиданно увидел размытое и невыразительное лицо, – вот если мы имеем впечатление, нельзя ничего откладывать. Секунда впечатления есть секунда, обращенная к нам с призывом «работай». Не откладывай. А я говорил уже, что откладываем мы в надежде – завтра будет все иначе. Подождем, образуется. И откладываем также и по лени. Лень чаще всего тоже является страхом увидеть, как есть на самом деле. То есть причина лени не психологическая, хоть лень и надежда – психологические механизмы, но структуры (у них есть и причины) – не психологические.
И маленький эпизод, который случился с Прустом, эпизод ошибки Пруста[19 - См.: S.B. – p. 219; lettre б Georges de Lauris (Claude Mauriac. Proust. 1953, p. 127).]. Им я поясню, что значит «работать». Как что-то уникальное, что можем сделать только мы. Во-первых, знание нельзя получить (Марсель не может передать Сен-Лу своего знания о Рахиль), нельзя сложить знания. Сен-Лу не может обогатиться знанием, которое имеет Марсель, и не может знание Марселя прибавить к своему знанию. Они несообщимы. Это раз. Во-вторых – нельзя упустить. Нужно мгновение использовать, работать именно внутри впечатления мгновения. И вот байка, которую я хотел вам рассказать, байка евангелическая. Пруст дважды – разъясняя основную идею романа, а второй раз в письме своему другу Жоржу де Лорису, – допускает характерную ошибку, цитируя канонический текст, который он должен был бы знать наизусть (наизусть он знал много текстов, у него была прекрасная память), поэтому ошибка здесь не в силу недостатка памяти, а в силу того, что она сама выразила какую-то внутреннюю страсть души, типичная ошибка (или, как говорят психоаналитики, «симптомальная» ошибка, неслучайная, то есть такая, по которой что-то можно понять, взяв ее как ошибку). Пруст цитирует слова из Евангелия от Иоанна, которые сейчас нам важны сами по себе, независимо от ошибки: «Доколе свет с вами, веруйте в свет да будете сынами света». Здесь сказано, что истина обладает таким качеством или таким законом своего появления, что она появляется только в виде молнии (появление истины – как если бы истина светила бы в течение целого дня, как солнце, такого не бывает). Так вот, пока она есть, – ходите, сказано в Евангелии. Я бы перевел – ближе к нашим проблемам и пояснительно по отношению к тексту Евангелия – шевелитесь или пошевеливайтесь, пока мелькнул свет. И не случайно я «корректирую», хотя такие тексты корректировать бессмысленно, А Пруст в обоих случаях непроизвольно, бессознательно цитирует текст с ошибкой. Еще не на долгое время свет с вами, пока есть свет – работайте. Travaillez – он пишет. Непроизвольная ошибка, но типичная, потому что речь идет о времени труда, знак которого – секунда, доля секунды. Иными словами, пространство истины может быть расширено только трудом, а само по себе оно – мгновение. И если упустил его… все – будет хаос и распад, ничего не повторится – и мир уйдет в небытие. В том числе в бесконечное повторение ада. Это будет твое межеумочное, или несовершенное, порочное состояние, оно будет бесконечно повторяться, и ты никогда не извлечешь опыта, в том числе потому, что ты каждый раз пропускал мгновение – не останавливался в труде. Условно назовем это трудом жизни, который обозначен знаком молнии. Кстати говоря, еще Гераклит говорил, что миром правит молния[20 - «Всем этим – вот правит Перун (вечный огонь). Всех и вся, нагрянув внезапно, будет огонь судить и схватит»(Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. С. 239).]. Да, еще последняя фраза. У французского поэта Сен-Жон Перса есть такой оборот, который вам покажется, конечно, парадоксальным; он и является парадоксальным, но выражающим то, о чем мы говорили. В одном своем стихотворении поэт употребил словосочетание: синтаксис молнии[21 - Saint-John Perse – Exil, 1942 (Poйtes francais XIX – XX siecles. M., Progres, 1982. P. 481).]. По определению, молния не может иметь синтаксиса, – нечто, что долю мгновения занимает, не может иметь синтаксиса, который требует пространства. И тем не менее поэт употребил это выражение: синтаксис молнии.
ЛЕКЦИЯ 2
13.03.1984
Напомню вам, что текст, с которым мы имеем дело, – это роман, как я вам говорил, желаний и мотива, роман самостановления человеческого существа, роман воспитания чувств. Вы знаете, что есть такая традиционная форма романа в европейской литературе (да и не только в европейской) – гетевский роман «Вертер» или флоберовский роман, который так и называется: «Воспитание чувств» (или чувственности). Переведя на язык, более близкий к современному тексту, я не буду употреблять термин «роман воспитания чувств», потому что он звучит как-то очень педагогически, а то, чем мы будем заниматься, очень далеко от педагогики и от литературоведения тоже. Я буду называть это романом Пути или романом освобождения, чтобы вызвать в ваших головах и в ваших душах ассоциации с существующими традициями. Скажем, с религиозной традицией, в которой есть термин «спасение», или «освобождение». Слово «Путь» имеет смысл не просто обыденного пути жизни – Путь спасения. Или, если угодно, Путь искупления. И чем больше вы будете прикладывать к этому традиционные термины, существующие в текстах, называемых священными, тем скорее это облегчит вам работу вашего собственного усвоения того, о чем я буду рассказывать. Это, конечно, будут только ассоциации, метафоры, но они пригодятся нам для того, чтобы понять, о чем идет речь. Итак – Путь прихождения к себе. Или – можно, обыгрывая возможности языка, сказать так: Путь такого прохождения жизни, в результате которого ты приходишь к себе и реализуешь себя. Основной движущий мотив и пафос и страсть Пруста состояли в том, что можно резюмировать словами «реализовать себя». Реализовать себя во всем богатстве своих желаний, которые у тебя есть, но ты их не знаешь, природа их тебе непонятна. А реализовать то, природа чего непонятна, невозможно. Если ты не поймешь своих собственных желаний, то ты себя не реализуешь. И поэтому для Пруста, и для любого человека наверно, слова «реализовать себя» совпадают со словами «понять, что ты есть на самом деле и каково твое действительное положение». Я уже упоминал в прошлый раз Фолкнера, который говорил, что самая большая трагедия человека – когда он не знает, кто он и какое занимает место. И вы знаете, что Фолкнеру понадобилась весьма усложненная форма текста, чтобы в различных временных пластах реконструировать действительный смысл тех ощущений и состояний, которые человеком испытываются сейчас, в данную минуту. Но они непонятны по своей природе, непонятны по своему смыслу, по своему значению, если ты их не развернул в реконструированные пласты и корни, уходящие очень далеко от тебя. Поль Валери говорил: «Мои чувства приходят ко мне издалека»[22 - Valйry, Paul. Euvres. «Bibliothйque de la Plйiade». T. II. Paris, 1960. P. 1514.]. Или: мои состояния идут ко мне очень издалека. Вообще человек есть существо далекого. То, что он испытывает сейчас, здесь, и то, что ему кажется самодостаточным, – вот мне кажется, например, что я вижу блокнот, значит, это акт, за который дальше идти не нужно, он сам себя исчерпывает – я понятно выражаюсь? – он самодостаточен. Так мне кажется. А в действительности даже то, что я вижу сейчас блокнот, идет, как и мое теперешнее состояние, в эту минуту издалека. Вспомните – я резюмирую – тот пример, который я вам приводил: Сен-Лу смотрит на Рахиль так же, как я смотрю на этот блокнот. Но то, как он видит Рахиль, идет к нему не из этой ситуации, не из того, что он видит сейчас, а идет к нему издалека. В том числе из мира мечтаний, из мира высоких грез, которые бросают свой отблеск на само по себе пустое лицо Рахиль, и он видит в этом отблеске, но ему-то кажется, что он видит нечто самодостаточное; он видит реальную Рахиль, которая как будто наделена теми качествами, которые он видит, и он видит прекрасную женщину. Значит, Сен-Лу идет – к тому, чтобы увидеть Рахиль, – из своего далека, а Марсель, смотрящий на Рахиль, идет из своего – другого далека. И в этом «далеко» он видит двадцатифранковую проститутку – на месте того лица, где Сен-Лу видит божественную женщину – «пуп земли».
Так вот, я возвращаюсь – оказывается, не просто видеть то, что мы видим. И поэтому, когда я говорю: прустовская мания – реализовать себя, то она у Пруста почти тождественна другой фразе, которая тоже очень часто повторяется на всем протяжении романа, и вы не сразу уловите, почему эти фразы могут быть тождественными. Я сейчас их произнесу. Значит, первая: реализовать себя. А вторая фраза следующая; она звучит примерно так (Пруст ее повторяет в разных сочетаниях, но смысл примерно один и тот же всегда): обязанность писателя – возьмем в этой формуле – реализовать впечатление[23 - T.R. – p. 890, p. 1514.]. Ну какая может быть связь между «реализацией себя», которой мы придаем общий смысл (скажем, стать человеком, стать взрослым и т д.), и «реализацией впечатления»? А это совпадает в том, что я буду называть реальностью. Пруст говорил, что единственная настоящая философия – это та, которая состоит «в восстановлении или в узнавании того, что есть на самом деле»[24 - S.B. – p. 309.]. То есть философия не есть какое-то учение или ученое книжное занятие, а есть часть нашей жизни, потому что если философией называется наша способность установить, что есть на самом деле, в том числе в наших чувствах, то, следовательно, философия есть элемент того, какими будут наши чувства или состояния после того, как мы установили, что они значат на самом деле. Реализовали себя – реализовали впечатление. Скажем, с точки зрения Пруста и с нашей тоже, – я буду все время это совмещать, потому что моя задача показать, что то, что говорит Пруст, это то, что могли бы сказать и мы, если бы подумали. Просто он подумал немножко раньше и целую книгу написал, а мы думаем немножко позже. Но мы можем воспользоваться этим духовным инструментом, чтобы заглянуть посредством этого оптического инструмента в свою собственную душу и в свой собственный опыт. Значит, Сен-Лу, имея впечатление о Рахиль, с точки зрения Пруста, не реализовал впечатления. Не раскрыл его, в том числе не прошел в то далекое, из которого Рахиль видна так, как она видна, то есть как самая прекрасная женщина на свете. Не реализовав впечатления, он не реализовал и себя в своих чувствах. Он оказался – чем? Марионеткой совершенно случайной ситуации. Рабом своих собственных состояний. А всякая философия, как и всякая мысль, есть дело свободного человека. В том числе свободного от привидений, которые вырастают из твоей собственной души. Поэтому философы считают, что человек, человеческое существо свободно в абсолютном смысле слова. Почему? Потому что если оно зависимо или является рабом, то только – рабом своих собственных привидений, которые выросли из его собственной души. Это не мир делает его рабом – по отношению к миру человек свободен абсолютно, – корни его рабства уходят в него самого. Корни рабства Сен-Лу (в данном случае рабство – это то же самое, что не реализовать себя) уходят в его неспособность реализовать свое собственное впечатление, разобраться в том, что же он чувствует на самом деле. Можно ли приписать испытанное им чувство качествам Рахиль – что она такова в абсолютном смысле, что своими достоинствами не может не вызывать любви к ней, или не такова. Вся философия Пруста состоит в том, чтобы доказать, что такого быть не может. Нет таких качеств людей, из которых вытекали бы наши к ним (к этим людям) отношения. Ведь любая женщина заменима как минимум тысячами других как объект любви. И, чтобы поставить вас на путь смысла, я напомню одну фразу Аристотеля. В свое время он очень хорошо сказал, что причина, почему мы любим, гораздо важнее объекта любви. Он имел в виду, что, любя человека, мы любим в действительности нечто другое, не совпадающее с качествами этого человека. И, следовательно, наоборот: из качеств того, кого мы любим, невыводимо наше состояние. Оно не ими рождено. Если бы это было иначе, то мир был бы совершенно непонятен. Ведь нет никакой логики в том (если призадуматься), что если какой-то человек A обладает свойствами B, то у меня – человека C – должно быть состояние любви к нему. Просто потому, что я могу любить человека A, а вы его не любите, хотя он обладает теми же качествами, и т д.
Значит, я повторяю снова, поворачивая, разъясняя, слово «реализация». Реализация себя, или – прихождение к себе. Это можно сформулировать и в виде другого, тоже очень интересного, кстати, вопроса, который, возможно, вам покажется банальным. Вопрос звучит так: вся тема романа Пруста состоит в том, как мы вообще вырастаем, и вырастаем ли вообще. То есть становимся ли мы вообще взрослыми, или мужчинами. Здесь, кажется, преимущественно женское общество, но я уже в прошлый раз употреблял термин «мужчина» в смысле человеческой доблести и позволю себе применять дальше. Для Пруста, как я уже сказал, главная проблема – вырасти, стать мужчиной. И эта проблема сводится к тому, обижаемся мы на мир или не обижаемся. Ведь что значит не быть взрослым, не быть мужчиной? Считать, что мир «центрирован» на нас, создан для того, чтобы нас или обижать, или гладить по головке. Вы знаете прекрасно, что детская психология и состоит в этом эгоцентризме, когда ребенок воображает себя центром мира в том смысле, что все, что в мире происходит, происходит для того, чтобы или доставить ему удовольствие, или обидеть его. И все события имеют для него, так сказать, знаковую природу, все они что-то означают по отношению к нему. Поэтому мы и говорим (хотя это тавтология): ребенок инфантилен. Ребенок есть ребенок. Ну а когда – взрослый? Оглянитесь вокруг себя и вы увидите общество, состояние – я бы сказал… дебильных переростков, которые так и остались в детском возрасте, которые воспринимают весь окружающий мир как то, в чем что-то происходит по отношению к ним. Не само по себе. Даже цветок в мире, с точки зрения ребенка, не растет сам по себе – как автномное явление жизни. Или – вокруг темно и копошатся демоны, которые окружают их светлый остров, – конспирации, заговоры, намерения по отношению к ним. Первый же философский акт вырастания состоит в следующем – кстати, я сейчас вспомнил фразу, которую в свое время сказал Людвиг Витгенштейн: мир не имеет по отношению к нам никаких намерений. Это – взрослая точка зрения. А ведь взрослые могут вести себя по-детски – вспомните, что один персидский царь, которому было угодно завоевать Грецию, отправил флотилию в Грецию, а в это время разбушевалось море и потопило всю его флотилию. И он приказал высечь море. Смешной акт. А подумайте о себе, сколько раз мы высекаем море, или высекаем мир, потому что нам кажется, что у мира были по отношению к нам намерения – как у моря по отношению к Ксерксу.
Вот эту тему «вырастания – невырастания» мы потом увидим в существенных деталях – скажем, маленькая сценка из прустовского текста, которая кажется совершенно, ну, как французы называют – anodin, пресной, без значения. И мы не видим, а видеть надо, хотя бы потому, что Пруст для этого и написал этот текст. Сцена в отеле: мальчик, привыкший жить все время дома, под крылышком у матери, оказывается в отеле, и он не может заснуть, потому что все вещи – шкаф, кровать, окно – на него наступают, они его давят своим присутствием, они ему кажутся живыми и злонамеренными по отношению к нему. И за этим стоит целая философия, а я помечу два пункта. Первое, что я хочу сказать: мы имеем дело с таким человеком, который проделал труд мысли, а изложенный текст – это история мысли и, кстати, славная, хорошая французская традиция. В свое время еще один великий философ, по имени Декарт, написал ученое «Рассуждение о методе», оно так и называется, но оно писалось, и Декарт сам об этом говорил, как «история моей мысли»[25 - Descartes. Euvres et Lettres. «Bibliothйque de la Plйiade». Paris, 1953. Discours de la methode. P. 126 – 127.]. Или история воспитания чувств, если угодно. Или роман «Воспитание чувств» – роман реализации себя, прохождения пути, который записан как живой опыт. В данном случае – живой опыт мысли. Так вот – реализовать впечатление. Для Пруста это означает, что впечатление имеет смысл описывать, если ты берешь его как знак какого-то скрытого и глубокого закона, стоящего за этим впечатлением. В том числе и то, как мы реализуем себя, с точки зрения Пруста. Вот я испытываю какое-то неудобство в комнате. И если я ребенок, то, конечно, считаю, – потому что шкаф плохой. А Пруст, который хочет вырасти, находит правильный путь для вырастания – какой? Взять это состояние не как неудобство, раздраженность, что легко приписать качествам объекта. Так же как любовь – я могу плохому шкафу приписать то, что я не могу спать в комнате, где он стоит, – так же как качествам женщины, которую я люблю, могу приписать то, что я ее люблю. Это одинаковые состояния. И, более того, фактически, сказав то, что сказал, я сформулировал задачу литературную. Прусту было бы скучно ощущения, которые мы испытываем, состояния, в которых мы находимся, описывать как предмет литературного труда, если это описание не имеет задачи, совпадающей с жизнестроительной задачей. Если не ставится задача установить скрытый смысл того, что я испытываю. Или закон, связанный у Пруста с пониманием, с разгадкой им природы времени и природы того, что я назвал трудом жизни. И второе – связанное с темой закона: если есть впечатление (то, которое мы должны реализовать), то реализация впечатления означает установление скрытого закона (а он всегда скрытый). Точно так же, как то, что нас притягивает в человеке и называется любовью, скрывает какой-то закон. То, что на нас давит как шкаф, скрывает какой-то закон, и тогда это описание имеет смысл. То есть оно интересно и как литературное описание, и как элемент прохождения пути. Спасение, или освобождение. Ведь вы знаете, что если человек так зависит от шкафа, то он, конечно, несвободен. А быть свободным неплохо…
Значит, у Пруста устойчиво повторяется, если говорить только о терминах, слово «закон» (вы это в десятках вариаций услышите), он даже в суждениях о других поэтах и писателях интересовался только этой темой. Закон – насколько другой открыл какие-либо законы психологической жизни. Скажем, о Нервале он говорил (Жерар де Нерваль – романтический поэт XIX века, Пруст очень любил этого поэта наряду с Бодлером); «…я могу, по меньшей мере, назвать шесть законов, которые Нерваль установил»[26 - S.B. – p. 239.]. Под «законами» Пруст, конечно, имел в виду скрытый смысл или скрытый механизм того, что на поверхности я испытываю в виде любви, раздражения, восторга, радости и т д. В том числе радость имеет смысл только тогда – почему я радуюсь? – если я могу какой-то скрытый смысл за этим увидеть, установить. И второе, что так же устойчиво повторяется, оно покажется вам странным, это – тема или слово «телескоп». (Кстати, то, что я хочу сказать, будет и для вас хорошим предупреждением для чтения прустовского текста. Я все время предполагаю совершившимся то, гарантий для совершения чего почти нет, потому что текст, хотя он и есть на две трети в русском переводе, вам недоступен, поскольку в книжном магазине вы его купить не можете.) Итак, следующее предупреждение. Со дня выхода романа по сегодняшний день продолжается традиция, в которой Пруст рассматривается как мастер деталей. Вот если он испытывает какое-нибудь чувство, значит, он его детальнейшим образом описывает, настолько, что иногда описание может казаться скучным. Какое-то особое устройство взгляда, которое до малейших деталей видит то, что мы видим как бы крупно. И бедняга Пруст всю свою жизнь сражался с этим призраком, который возник перед ним и который тоже назывался Прустом. Живой, реальный Пруст сражался с призраком Пруста, который есть детальный писатель, или мастер деталей, тонкостей, нюансов и пр. Он говорил: да нет, никакими деталями я не занимаюсь. Никакие детали меня не интересуют. Меня интересует что-либо только в той мере, в какой за этим явлением стоит какой-то общий закон[27 - См.: Ibid. P. 640.]. Более того, Пруст как раз в этом пункте произвел некоторую такую революцию, или поставил ту проблему, которая до сих пор является проблемой в литературной стилистике XX века. Я назвал бы ее проблемой – бессмысленной бесконечности описания. Дело в том, что описание само по себе не содержит критериев, которые диктовали бы нам, где остановиться в описании. Предмет можно описывать бесконечно. Это феномен бесконечности описания. И, более того, все предметы описываются произвольно. Всех литераторов XX века стала смущать фраза, которая в XIX и других веках казалась безобидной и само собой разумеющейся: «Маркиза вышла из дома в пять часов пополудни». Или в пять часов вечера. – Почему в пять часов? А почему не в шесть часов? Или, скажем, герой X вышел из дома и пошел по улице направо (это пример описания). Но почему, собственно, направо? С таким же успехом он мог пойти и налево. Кстати, если говорить о русской литературе, у Набокова появляется эта тема. Многие его тексты построены как такой литературный текст, внутри которого обыгрывается свойство построения литературного текста вообще. Он иронизирует над тем, как пишут; это как бы текст в квадрате, во второй степени. Текст о тексте. Ему было действительно смешно: почему, собственно говоря, я должен описывать, какой смысл в описании, что трамвай прошел слева направо, когда я вполне могу написать, поскольку это текст, а не реальное событие, что он пошел справа налево, или: герой пошел не налево, а направо. Какой смысл в этих описаниях? И более того, какой в них самих по себе критерий, что я должен поставить точку, что я исчерпал описание? Если я привел, скажем, десятую деталь, то всегда можно привести одиннадцатую, добавить к десятой, а к одиннадцатой добавить двенадцатую и т д. Все это не имеет смысла. Кстати, довольно интересная проблема, но слишком литературоведческая, а меня интересуют более близкие к экзистенции проблемы, или экзистенциальные проблемы (снова простите меня за редкий случай употребления мною специального философского термина). Вернусь к тому, что я хотел сказать. И Пруст в этих случаях говорит: «Да не детали я описываю, мой инструмент описания – не микроскоп, а телескоп»[28 - T.R. – p. 1041.]. А что такое телескоп? Телескоп – это увидеть то, что есть на самом деле большое, крупное, но кажется маленьким, мелким. Например, в телескоп мы видим Солнце, оно ведь – не маленький кружочек величиной с монету на нашем небе, а громадная звезда, светило. А мы видим его маленьким. Таким же маленьким нам кажется… вот я ворочаюсь в постели и не могу заснуть в отеле, где вещи злобно на меня наступают, у них почти что человеческие очертания, враждебные, – это ведь мелочь, то есть как состояние – мелкое, но описывать его можно, только если ты смотришь на него в телескоп: видишь большое там, где другие видят малое. Мелочь, ерунду. И кстати, это совпадает вообще с тем, какова природа философского мышления. Философское мышление как таковое состоит в том, чтобы увидеть то, на что смотрят другие, но увидеть за этим нечто крупное, стоящее сзади. Поэтому, скажем, философии, так же как и такого рода литературному таланту, как у Пруста, философии нельзя учить. Вот, представьте себе, была бы школа, называемая школой шутовства… Ну чем шут отличается от человека? – в цирке и мы, и шут видим один и тот же предмет. Но он видит его, как видит шут. Он то же самое видит, что и мы, но видит за этим что-то другое. Но научить этому нельзя, только можно понять и усвоить. Значит – телескоп. Инструмент, который позволяет мне увидеть любые состояния как знак каких-то других состояний. В том числе то, как видит Сен-Лу Рахиль, – мелкое событие в жизни. Но за этим можно увидеть закон, как устроены мы сами: как устроена наша психологическая жизнь, как работает наш механизм сознания. Вот что называется телескопом. Это, конечно, особый дар, особое качество взгляда Пруста. Так же, как устройство шута, который в том же предмете, на который и мы смотрим, видит то, что он видит, и – вдруг мы смеемся, и неожиданно смеемся, потому что неожиданно увидеть крупное (как вы знаете, прежде всего неожиданность есть механизм смеха).
Мы установили в прошлый раз, что всякое явление, любое нечто должно иметь какой-то смысл, иначе оно «звук пустой» – не воспринимается. Теперь я выражусь более сложно, правда, но и более эффективно, поэтому это будет более понятно. Представьте себе, что мы имеем дело с двумя пространствами: пространство 1 и пространство 2. Пространство 1 – это пространство, в котором возможны человеческие события. Пространство 2 – это пространство, в котором человеческие события невозможны и не происходят. Второе пространство назовем безразличным. Скажем, Сен-Лу в театре (место, где он впервые видит Рахиль) смотрит на Рахиль. Рахиль – это физическое явление, то есть человеческое существо, обладающее определенными физическими качествами, которые можно видеть. Но взгляд Сен-Лу упал не на физический предмет, а на лицо, заполненное отражением высоких мечтаний. Мечтаний о прекрасном, с которым мы связываем театр и т д. Значит, это есть пространство 1, в котором возможно событие, в данном случае – волнение Сен-Лу: Рахиль для него не безразлична. Но «не безразлична», «не пустой звук» – потому что она увидена им в пространстве театра. И случилось в этом пространстве событие эмоциональной жизни Сен-Лу. Обратите внимание, что я не случайно употребляю термин «событие». Все то, что мы испытываем, есть события; они имеют свои ниточки, по которым они случаются или не случаются. Мы ведь даже волнуемся по законам событий. Мы ведь не всегда волнуемся. А волнение для человека довольно большая ценность, кстати говоря. И часто в ситуациях, когда мы по формальным критериям или предметным критериям должны были бы волноваться, мы холодны как камень. Равнодушны. За этим стоит какой-то закон. Это нельзя просто списать, тем более что от этого очень многое в нашей жизни зависит. Я опять предлагаю вам прустовский телескоп. За незначительным – что есть более незначительное, чем то, как мы волнуемся, когда волнуемся, почему и т д., а вот за фактом, что я не взволнован, можно увидеть действие законов, довольно интересных и значащих в нашей жизни. Я возвращаюсь к тому, что сказал: Сен-Лу – в пространстве событий, а Пруст – не в пространстве событий. То есть в данном случае Марсель – герой романа. (Не писатель, а герой романа, который совпадает частично с писателем, сейчас это не важно, назовем его Марселем; он фактически даже имени не имеет в романе.) Для Пруста – он видит Рахиль – не происходит никакого события. Ну, а если происходит событие, то совсем другого рода, связанное с тем, что он начинает думать о том, почему Сен-Лу волнуется и событийно видит Рахиль. Но для него самого Рахиль безразлична в пространстве, в том, которое мы называли безразличным. То есть Рахиль имеет там смысл только, как выражается Пруст, в смысле «общих значений»[29 - C.G. – p. 159.]. У всех у нас есть в этом безразличном пространстве – оно ведь не абсолютно безразлично, оно безразлично с точки зрения нашей проблемы – общие значения. Есть выражение лица (общечеловеческое в жизни), выражение глаз, красота или безобразие. Нечто, так сказать, имеющее смысл, но в смысле общих актов. Красота может быть и у A, и у B, и у C. Такое выражение лица может быть у одного человека, у третьего, четвертого, миллионного – все, что имеет значение в смысле общих актов, которые заданы словами. То есть описанием. Забегая вперед, я маленькую ниточку вам дам, которую сейчас не могу развернуть. Все эти явления безразличны, потому что они неиндивидуализированны. Они имеют значение в смысле общих законов или общих актов. За ними нет индивидов. А для Сен-Лу Рахиль уникальна. Ее лицо – носитель не каких-то общих событий в смысле значащих, общих актов, а каких-то совершенно уникальных, которые, кстати, мы называем словом «шарм». Шарм есть нечто, что присуще только индивиду и что невыразимо. То, чего нельзя воссоздать путем сочетания общих слов или общих значений. Как бы вы ни описывали, а описание всегда будет в общих словах, вы никогда не передадите шарма. Нужно почувствовать шарм. Значит, мы установили, что нечто не имеет значения само по себе – в смысле: «общее значение» не существует в пространстве событий. Это так же, как – и даже Пруст эту метафору приводит[30 - См.: Ibid. P. 175.] – «пустое лицо» в кубистской живописи. Ведь не случайно в кубистской живописи вдруг появляется устойчивый образ, который проходит через очень многие произведения в XX веке: овал человеческого лица, не заполненный никакими чертами. Допустим, что для Марселя Рахиль – кубистический овал, не заполненный никакими чертами. Это уже, конечно, абстракция. Если на лицо женщины смотрит Марсель, который видит только общие значения, то он не видит лица, Для кубизма лицо не есть общее значение. Я, кажется, сложно выразился. Повторяю этот ход: живописец хочет нам сказать, что если мы видим лицо в общем смысле слова (ведь все носы, хотя они различаются, есть носы, как все глаза – глаза), то мы ничего не видим. Мы не видим лица, если это видим. То есть живопись – знак чего-то, чего мы не видим…
Итак, я сказал: пространство событий и пространство безразличное. В одном находится Сен-Лу, а в другом – Марсель. На точке соприкосновения этих пространств – лицо Рахиль. В пространстве Сен-Лу оно заполнено, но (мы как раз об этом в прошлый раз говорили) нас, и Сен-Лу тоже, то есть того, кто находится в небезразличном пространстве, должно интересовать, что есть на самом деле. Потому что судьба Сен-Лу невидимыми путями и невидимыми ниточками будет сцепляться в колесиках механизма реальности, а не в колесиках механизма его собственных представлений. Ведь из реальности придут последствия того, что Рахиль именно такова. Не такая, какой ее видит Сен-Лу. Я уже говорил вам: установить, что есть на самом деле. И все дело в том, что получить смысл, установить, что есть на самом деле, нам удается, если мы построим для этого текст. А литература как частный случай текста есть часть нашей жизни; для того чтобы узнать, что есть на самом деле, мы должны что-то сделать. В данном случае: построить текст, который породит истину. Что значит – породить истину? Придать смысл разрозненным частям информации или событий. Скажем, Сен-Лу не может узнать истину о Рахиль, потому что он не может посмотреть на нее глазами Марселя. Или, выразим это иначе: он не может этого сделать, то есть не может узнать, потому что он находится в этой точке пространства, а не в другой. И беда в том – почему речь и идет о тексте, который принесет нам истину, – что это пространство разделено. Нельзя одновременно держать вместе точку, из которой смотрит Марсель, и точку, из которой смотрю я, если я – Сен-Лу. Они разделены. Здесь вот – собрание предметных видений, того, что видят все, потому что Сен-Лу видит ведь те же самые черты (в физическом смысле слова), что и Марсель, просто для него смысл один, а для Марселя – другой. Дело в том, что это разделено и не может соединиться. А текст есть то, что соединяет, – в действительности написание литературного текста не есть занятие, отдельное от жизни; на примере Набокова я говорил вам: само построение какой-то условной, воображаемой конструкции впервые придает логику тому, что ты разделенно видел в своей жизни, и по этой логике ты узнаешь, что в действительности твой друг – любовник твоей жены. Я брал это как частный пример того, чему послужило написание текста. Или конструкция – можно текст не написать, можно держать его в голове. Но я имел в виду под текстом, в данном случае под литературным текстом, какое-то явление, событие, которое строится для того, чтобы что-то впервые получило осмысленный вид. Чтобы все стало на свое место. Скажем, я видел какое-то выражение лица моей жены, я видел, вернее, слышал какую-то интонацию в голосе моего друга или встретил их на улице вместе – все это я мог приписать самым различным причинам, никакого отношения к действительности не имеющим. Так же как Эдип свое действие, состоящее в убийстве отца, приписывал дурному характеру случайного путника. Какие-то слова, оскорбительные (или показавшиеся оскорбительными), сказанные им, – они же есть какие-то события. Есть еще какие-то другие события, они разрозненны, имеют какую-то только внутреннюю связь, которую я как раз не знаю. Поэтому Пруст очень часто говорит о том, что некоторые воображают себе такую психологию (или некоторую литературу; эти вещи взаимозаменимы в данном случае), которая была бы своего рода «наукой» о логике эмоций[31 - Cм.: Centenaire de Marsel Proust. Europe, reveue mensuelle. 1970. P. 64.]. Или эмоциональной логикой, логикой сентиментов. В данном случае «логика» – не в смысле силлогизмов и правил вывода, что обычно называется логикой, а в смысле того, что все отдельные части имеют смысл и не рассыпаются. Вот эти части можно назвать собранием. Я не случайно называю «собранием», ибо это русский эквивалент греческого слова «логос». Набор всего относящегося к делу. Все относящееся к делу обладает логосом, который мы можем, как говорили древние греки (Гераклит в данном случае), слышать или не слышать[32 - «Эту – вот Речь (Логос) сущую вечно люди не понимают…»(Фрагменты ранних греческих философов. С. 189).]. Вот мы слышим 2 и 2, но мы не выводим 4; я говорил вам, что основная ситуация человека – когда он имеет дело с уже существующей истиной, в том числе о нем самом, но не видит ее. То есть он видит 2 и 2, а вот за пределами человеческих сил находится операция 2 х 2 = 4. Не совершается эта операция. Для совершения этой операции нужен какой-то орган.
Так вот, когда я говорю «текст», я имею в виду фактически не литературный текст в традиционном смысле слова, а орган, то есть что-то, посредством чего мы видим. Естественно, орган отличается тем, что он естественным образом, без нашего усилия, видит то, что он видит. Орган естественным образом производит то, органом чего он является. Скажем, глаза производят зрение – и вот представьте себе такие мысли или состояния, которые производились бы текстами как органами. Нечто – посредством чего мы видим. Скажем, яблоки Сезанна – ведь ясно, если призадуматься, что живопись Сезанна вовсе не изображает яблоки. Если мы видим то, что нарисовано у Сезанна, это означает, что мы видим этими яблоками. То есть они становятся нашим органом, посредством которого мы видим то, чего не видим нашими глазами. Там не яблоки изображены, там построена конструкция, посредством которой мы видим что-то, чего мы не видим вовсе, глядя на яблоки, висящие на деревьях. Значит, когда я говорю «текст», я не имею в виду изображение. Я имею в виду не изобразительную сторону текста, а какую-то другую. И сейчас давайте нащупывать эту другую сторону. Мы говорим: текст есть нечто, что мы читаем. А я предлагаю вам другое. Текст есть нечто, посредством чего мы читаем что-то другое. Текст есть нечто, посредством чего мы читаем событие. «Яблоки» Сезанна есть яблоки, посредством которых мы видим что-то, чего бы мы не видели без этой конструкции. В данном случае конструкция романа может позволить увидеть мне (как в случае Набокова), что все явления имеют логику, если я предположу, что мой друг – любовник моей жены. Предположил – и все стало на свое место. Все – я услышал логос. То есть то, что говорит собрание. «Два» и «два» говорят «четыре». А я ведь говорил, что можно и не услышать этого. По той простой причине, что заставляет меня сказать «четыре». Назовем это: внутренний смысл, внутренняя логика, – так что все стало на место. Вот нечто, что заставляет меня сказать: так есть на самом деле, – это логос, услышанный мною. Но в материальных частях логоса нет ничего, что само по себе говорило бы нам – «два» и «два», каждое в отдельности, – что сумма этого «четыре».
И вот здесь мы пришли к очень сложному пункту, который резюмирует то, что мы в прошлый раз говорили. Дело в том, что логос означает: должно быть так, мир так устроен, хотя этого мы не видим. Я не вижу, что мой друг – любовник моей жены. Все, что я вижу, имеет или может иметь другие объяснения. Подчеркиваю: все, что я вижу, может иметь другие объяснения. И чаще всего мы склоняемся именно к этим другим объяснениям. Они видны. Я встретил спешащую, взволнованную жену на улице, и я с готовностью, чтобы не дай Бог не подумать, принимаю объяснение – она спешит к портнихе, хотя явно степень волнения на лице никак не объясняется банальным визитом к портнихе, но я готов это принять. Что я хочу этим сказать? Во-первых, должно быть так, мир так устроен, такое строение ситуации, логос ее, то есть все стало на место, если принял; во-вторых, того, что я принял, я не вижу. Это ведь не предмет, это – логос. Это не есть «два» и «два», а нечто, что заставляет меня сказать «четыре». И, в-третьих, самое главное, может быть, для нас – это страшно. Все в нас бунтует и сопротивляется, восстает против того, чтобы сказать: это так. Очень большое мужество нужно иметь, тем более большое, что оно беспредметно, недоказуемо, хотя только так может быть по смыслу, но доказать ведь этого нельзя. И поверить в это невозможно. В каком смысле? В психологическом смысле, человек сопротивляется. Вы знаете, существует такой психологический закон, что самый эффективный способ врать – это говорить правду, но в такой ситуации, в которой почти что исключено (как говорят грузины, нет варианта), чтобы в нее поверили. Приведу пример, иллюстрирующий пример того, что я хочу сказать, и того, каково устройство взгляда Пруста и вообще философского взгляда. То есть за мелочью увидеть – телескопом – закон. Или увидеть крупное (философ обращает внимание, а мы не обращаем внимания; иногда, обратив внимание, мы спасаемся, а не обратив внимания, погибаем). Скажем, женщина находится в комнате гостиницы с любовником и по какому-то делу звонит мужу. Муж ее спрашивает: «Где ты?». Она отвечает: «С любовником». Какова его реакция? «Ну что ты вечно какие-то глупости говоришь…» – он не поверит. А она сказала правду. Вот весь тот комплекс, в силу которого муж не поверил, назовем психологией. То есть мы не видим именно потому, что мы психологичны. А если бы мы не были психологичны, то есть – на философском языке – были бы онтологичны… как у Пруста часто бывало: когда есть феномен так называемой непроизвольной правды, он имеет мужество поверить в то, что есть в мире только акт этого же мужества. Другого содержания нет. Если бы муж поверил… – это был бы чистейший акт мужества; акт, противоречащий человеческой психологии. Следовательно, то, что я условно называю текстом, имеет антипсихологический заряд. Повторяю – то, что я называю текстом, то есть то, что мы вынуждены строить, чтобы оно породило бы смысл. Потому что смысл не порождается психологией – психология как раз противоречит логосу, не допускает, чтобы в нас действовало нечто, что заставляет нас сказать «дважды два – четыре», хотя, когда человек тебе говорит: «Я в комнате с любовником», – это и есть «дважды два – четыре». У Пруста есть такое словосочетание: единственная реальность. (А мы ведь только о реальности и говорим, да? Мы сказали, что путь к реальности лежит через текст.) Он говорит так: единственная реальность – та, которую мы думаем[33 - S.G. – p. 1126.]. Вспомните, мы очень часто думаем правду, только выбрасываем ее из головы, потому что боимся ее. И вот Пруст как бы говорит нам, что как раз то, что мы думаем, и есть правда. Здесь слово «думаем» имеет значение, потому что думаем, а ведь не видим. Потому что то, что мы думаем, есть то, что придает смысл; то, в силу чего десять вещей, двадцать вещей, тысячи вещей могут держаться вместе. Связаны, становятся на место. Но само «думаемое» в виде отдельного предмета не существует. Пруст пишет: тысячи ревностей и каждая из них правда[34 - Fug. – p. 489.]. Ревность – не одна; она расположена в том разделенном пространстве (о котором я говорил), где есть исключения точек, – нельзя быть одновременно в двух точках, нельзя одновременно смотреть глазами Сен-Лу и глазами Марселя, если ты оказался в точке, с которой ты смотришь глазами Сен-Лу. Мы ведь не одну любовь к женщине испытываем, а тысячи разновидностей любви, расположенных в тысячах событий, в разных пространствах и временах. И там же существуют тысячи ревностей. Так вот, Пруст говорит: мы ведь не замечаем, что все эти тысячи ревностей думали правду. То есть мы предполагали «плохое», условно так выразимся. Но реальность не может быть плохой, она есть то, что есть, – если мы не инфантильны, конечно. Тогда реальность – или плохая, или хорошая.
Значит, реальность – это то, что мы думали и что и есть правда. Единственная реальность – та, которая подумалась, которую подумали. И которую, как выражается Пруст, смягчает, например, присутствие[35 - См.: Ibid. P. 490.]. Присутствие любимой женщины, о которой ты мыслью знаешь правду, но ее несомненное, реальное, с ее очарованием, присутствие смягчает правду и оттесняет ее куда-то очень далеко. Присутствие есть один из механизмов эмоционального и духовного рабства; оно помогает нам не видеть правды. Так же как наш страх, скажем, помогает не увидеть реальность прямо перед собой. Следовательно, что я хочу сказать? То, что мы мыслью узнаем – а мысль ведь должна родиться, я показал, что она рождается не писхологией, а какой-то конструкцией; но то, что рождается, – этого нет. Есть все остальное, объяснимое иначе, а того, что мы думаем, – этого нет. Короче говоря, мы оказываемся в ситуации, что – я выражу ее так – мы должны видеть и верить больше тому, чего нет, чем тому, что есть и что мы видим. Повторяю, вся проблема в том, что то, чего нет, как раз это мы должны видеть и верить этому больше, чем тому, что есть. Тем самым, этой закрученной фразой, я объяснил, казалось бы, кристально ясную, но обманчивую в своей ясности, фразу из Евангелия: «Веруйте в Свет, да будете сынами Света». Здесь две опоры. Первая: «Веруйте в Свет». Именно вера требуется, потому что Его-то нет. Он есть только на одно промелькнувшее мгновение. Его нет. Значит, нас обязывают верить в то, чего нет. И, как я сказал, верить в это больше, чем в то, что есть. «И будете сынами Света» – второй аккорд. То есть будете сынами того, чего не видите, но во что верите. А я уже говорил, что верите силой построения конструкции текста. Не психологии. Значит, вы рождаетесь – из чего? в этих своих мыслях? Из синтаксиса (помните, «синтаксис молнии»). Или из формы. Логос есть нечто формальное. Флобер говорил, что идея (какое-то содержательное состояние в вашей голове) есть нечто существующее в силу формы[36 - Cм.: Poulet Georges – Etudes sur le temps humain. 1952. Flaubert. P. 360 – 363.]. Вот поди и пойми. Можно это назвать формализмом. Но в действительности не об этом речь идет, и никакого здесь нет формализма. Конечно – только силой формы, а ведь то, что я думаю, и то, чего нет, может быть только формальным. Когда я сказал: придать смысл, придать логос – логика ведь есть нечто формальное по содержанию, – то это значит, что все элементы этого содержания, как выражаются англичане, могут быть explained away. Могут быть отобъяснены. То есть в нашей жизни действует психологический закон: когда мы процедуру объяснения применяем как нечто, посредством чего мы избавляемся от того, что надо было бы объяснить. Или как нечто, посредством чего мы умудряемся не увидеть того, что должны были бы увидеть. (К портнихе шла она… – пример отобъяснения; более сложные есть отобъяснения.) Приведу социальный пример; он показывает, как функционирует наше мышление, когда мы психологичны. Это происходило в 50-м году, я тогда окончил школу в Тбилиси, уехал в Москву, в университет, и попал в неожиданную для меня ситуацию очень интенсивной комсомольской жизни, что было каким-то непонятным мистическим событием для тбилисского школьника; я вообще не понимал, что происходит, как можно сидеть на этих собраниях, коллективно ходить в кино и т д. Полная мистерия. И, естественно, я часто оказывался предметом проработок. И вот я помню, отвратительная была зима в Москве, мокрая и слякотная; мы идем по улице Горького, и рядом со мной комсорг нашей группы. А я даже на улице оказался предметом очередной такой комсомольской проработки. И вот во время возвышенных речей моего приятеля к нам подходит мальчишка лет десяти, нищий, и просит подаяние. Нормальный человек, увидев нищего, не станет думать, что на самом деле он гораздо богаче тебя. Ты видишь реально. Но мой приятель этого мальчика не видел, он его не воспринял, поскольку он не был событием в его пространстве. Почему? По одной простой причине: этот мальчишка уже занимал место в его теоретической иерархии общества. Какое место? – Мы сейчас находимся на первом этапе коммунизма, и на этом этапе есть разница между людьми. Одни беднее, другие богаче, и поскольку мальчик уже был отобъяснен, можно было его не видеть. То есть – в свое сознание, в свою способность волноваться и переживать – не допустить событие, которое происходит у тебя на глазах (оно ведь физически происходит, а ты его не видишь). Есть какие-то магнитные поля, в которых мы можем находиться и видеть что-то вне этого поля или можем не видеть. Поле разворачивает наши мозги таким образом, что мы видим или не видим. Хотя, казалось бы, нельзя не видеть. Ну как можно не видеть страдающего, замерзшего, нищего, голодного мальчика? Оказывается, можно – не видеть. (Теперь попробуйте перенести эту структуру на гораздо большее число всех житейских случаев – на чтение нами книг, любви, ненависти и т д. Вот видите, как мы далеко уходим, занимаясь Прустом. Я, казалось бы, отдаляюсь от него, но на самом деле я иду по Прусту почти текстуально.) Значит, я закрепляю: есть состояния, называемые нами идеями, которые существуют силой формы. А форма, как вы знаете, конструктивна, то есть она строится. Формы сами не бегают, формы рождаются жизнью, но формы создаются и людьми. В том числе они изобретаются в искусстве, в литературе.
Теперь пойдем дальше. Да, я один момент упустил, а он довольно-таки важен. И так дело сложно, но еще один осложняющий момент есть во всей этой ситуации магнитных ловушек или конструкций, в которых мы живем. Есть конструкции, которые не позволяют нам видеть (конструкция моего приятеля), есть конструкции, позволяющие видеть; назовем их конструкцией Пруста. Или – я приводил вам пример Сезанна – яблоки, посредством которых мы видим. Текст, посредством которого мы читаем наш опыт. И в этом чтении опыта, которое антипсихологично, то есть направлено против основных тенденций нашей психики, нашей психологии как человеческих существ, есть еще одна загвоздка. Во-первых, пометим следующее: ведь я не вижу, чтобы избежать страха, то есть избежать того, что я боюсь – а истина есть то, чего я боюсь, – ее увидеть, и потом я даже забываю в силу слоистости нашей психической жизни, что я не видел ее, потому что боялся, потом уже, на следующих этажах, исчезает даже сознание того, что я избегал истины из-за страха. Эти психологические механизмы надежды – мир ведь водит нас за нос, в том числе и психологическим механизмом надежды: завтра все исправится, дом, по которому прошла трещина, каким-то чудом можно будет отремонтировать, – так вот, беда в том, что эти психологические механизмы прекрасно аккомодируются – не ассимилируются, а аккомодируются, то есть не противоречат нашим логическим операциям, операциям рассудочного мышления. Операции рассудочного мышления вполне уживаются с психологическими механизмами (механизмами страха, надежды и т д.; отобъяснение – это тоже механизм). И вот все операции нашего прикидывающего мышления (назовем их логическими) – мы что-то наблюдаем, описываем, делаем выводы – уживаются с психологическими механизмами и не противоречат им. Мы можем мыслить, то есть совершать логические операции, так и оставаясь в этой ирреальности, не приходя к реальности. Сама по себе логика (в смысле логических операций рассудочного мышления) не выталкивает нас на путь истины. Того, что есть на самом деле. В этом смысле можно сказать, что наша реальность имеет структуру сновидения. Это тоже одна из проблем Пруста. Он говорил, что нечто, что мы называем жизнью, – разорвано, беспорядочно, вызывает непонятные боли, непонятные радости и больше похоже на сновидения. Жизнь наша – как сон. Действительно, то что мы называем реальностью, чаще всего имеет структуру сновидения. В каком смысле? Какова структура сновидения? (В упрощенном, конечно, виде, я не берусь претендовать на то, что это вещь действительно проста и мы ее понимаем.) Есть такой закон сновидения: по содержанию своих видений сон строится таким образом, чтобы эти видения позволяли нам не проснуться; сон как бы имеет структуру отобъяснения. Скажем, звонит будильник, я не хочу проснуться, и в короткие мгновения, когда еще звучит звонок (в действительности короткий, а во сне он кажется длинным), сон разыгрывает целую сцену, которая придает такой смысл этому звуку, что этот смысл позволяет мне не проснуться. И вот то, что мы называем реальностью, чаще всего состоит из таких представлений, из таких образов и состояний, которые позволяют нам спать дальше. В данном случае слово «спать» означает не знать и не видеть реальности. И в этом смысле реальность имеет структуру сновидения. Жизнь есть сон – в этом смысле слова. Вот такая психологическая закавыка. Более того, здесь есть еще одна проблема, на которую хочу обратить ваше внимание.
Фактически мы сказали, что форма, текст есть нечто, что должно быть построено, чтобы конструктивно породить во мне какое-то понимание, потому что это понимание естественным психологическим путем породиться не может. В частности, для порождения такого рода состояния понимания служат литературные тексты. Или текст жизни. Например, образ и жизнь Христа есть текст, посредством которого мы можем (или не можем) читать наш жизненный опыт. Текст организовал какой-то логос, в пространстве которого события получают осмысленный и связный вид, а не рассеянный и рассыпанный. (Иногда религиозная метафорика может помочь нам понять законы нашей жизни и устройство нашего сознания.) Так вот, все это фактически означает следующую вещь: нечто производится в нас (нечто – наше понимание) не нами, произвольно, как психологическими существами, а силой какого-то закона – силой формы. Скажем, идея существует силой формы. И вот Пруст пишет – теперь все эти вещи мы должны связать вместе – о Сен-Лу: «…все, что он узнал бы о Рахиль (то есть если бы Марсель ему сказал: послушай, я видел Рахиль в доме свиданий, она там продавлась за двадцать франков; но вся закавырка состоит в том, что Сен-Лу этого не воспринял, этого знания для него не существовало; все эти сведения – «он узнал бы» – назовем знанием, и я хочу сейчас показать вам, что знание есть одна из таких вещей, которые в эту точку, в это пространство не проникают; поэтому нам эта точка пространства будет важна, ее свойства мы должны описать, чтобы понять самих себя), – не заставило бы его сойти с дороги, на которой он находился и на которой это лицо (лицо Рахиль) являлось ему через мечтания, которые он порождал»[37 - C.G. – p. 160.]. Вот это важный психологический момент для всего нашего движения по тексту Пруста. Истина, казалось бы, существует – Пруст говорит: если бы ему сказали, то есть если бы ему было сообщено это как знание, – это «не заставило бы его сойти с дороги, на которой это лицо являлось ему в облаке мечтаний, им же самим порожденных».
ЛЕКЦИЯ 3
20.03.1984
Я хотел бы начать с некоторого предупреждения. Во-первых, оно касается стиля – не моих лекций, а стиля видения или мышления, которое я пытаюсь выявить. Вы уже поняли, наверное, что моя задача состоит не в описании литературных красот, а в выявлении стиля мышления человека, который проделал опыт, по материи своей не отличающийся от того, что мы можем испытать. Просто мы можем испытать и не понять, а вот другой человек понял и записал, и поэтому интересно к этому обратиться. И внутри этого опыта работает какой-то способ мысли, который я и хочу выделить, поскольку он является частью того, какую фигуру, какой рисунок или какой контур принимает сама жизнь человека, который приобщился к такому видению. Само это видение как-то меняет жизнь. Судьбу. Я потом еще буду говорить, что само ощущение судьбы и само представление судьбы есть очень важный элемент нашей сознательной жизни. Для начала скажу так, резко очень, что именно в той мере мы являемся людьми, в какой мере мы – люди судьбы. То есть, если мы живем в судьбе, мы – люди, а если мы живем вне судьбы, а чаще всего это именно так, то мы – полуживотные. Или, как выражался Пруст, demi-esprits[38 - T.R. – p. 894.], то есть полудухи. Все есть – и мышление, и чувства, но все наполовину. Так вот, когда я говорю о таком стиле, я пытаюсь дать вам почувствовать основной стержень этого стиля. А именно; смотреть на мир, на события в нем так, чтобы видеть вещи не как какие-то самодостаточные детали (то, что Пруст называет деталями), а видеть – то, что видишь, как элемент фигуры или закона. Элемент, требующий телескопа. Я не случайно приводил вам пример с моим сокурсником: он не видел нищего мальчика, ну, это мелкий факт, который все мы видим, – проблема в том, чтобы увидеть за этим фактом существенный закон. Не просто случайность – воспринял – не воспринял, таких бывает тысячи случаев, миллионы… мы не видим, что за этими деталями, мелочами стоит что-то и сама деталь является не самодостаточной, не самостоятельной вещью – выражением лица, цветом неба, а является элементом чего-то. И вот видеть другое сквозь деталь и есть то, что Пруст называл телескопом. Не в микроскоп разглядывать, как обычно приписывают Прусту, а телескопом подносить себе то, что есть на самом деле – большое. Но просто из-за нашего душевного удаления, – потому что есть, кроме физических расстояний, и в этом состоит глубокое ощущение Пруста, расстояния душевные, и эти расстояния настолько важны, что, говорит Пруст, можно обнимать возлюбленную и при этом быть от нее так же далеко, как если бы она была на Сириусе, на самой дальней звезде[39 - Cм.: J.R. – p. 529; S.B. – p. 170.]. И вещи выступают перед нами не на физических расстояниях, а на душевных, или духовных. И – на больших расстояниях – то, что нам кажется мелким, на самом деле может быть целой звездой. Констелляцией, или фигурой. То есть эти детали есть элементы фигур, а фигуры могут быть громадными; и я потом попытаюсь вам показать, что эти фигуры вообще занимают совершенно другие пространства и другие времена, не совпадающие с пространством и временем нашей индивидуальной жизни и значительно их превосходящие (а наша индивидуальная жизнь движется по линиям судьбы, как раз по таким линиям, которые есть линии этих пространств и времен). И я буду впредь называть их конфигуративными пространствами, или пространствами фигур. И поэтому одновременно, когда я говорю «фигура», это – и образ, часть речи, чтобы просто прояснить смысл, но, с другой стороны, это имеет какое-то содержательное для меня значение как термин или, как выражаются профессионалы, как понятие. Но пусть вас слово «понятие» не пугает, ничего в этом страшного нет. Хотя мы занимаемся мышлением, но я должен вам напомнить, что люди, опытные в мышлении, – например, Гете, которого я хочу процитировать, говорил, что все мышление не может помочь мышлению[40 - Cм.:Valeri P. Euvres. T. I. Discours en l'honneur du Goete, p. 542.]. То есть мышление совершается каким-то другим образом, и поэтому все мышление не может помочь мышлению. Что-то еще, или другое, должно быть. И вот это другое в жизни, самой жизнью укорененное, мы попытаемся нащупать.
Так вот, мне хотелось сделать следующее предупреждение: когда я привожу какие-то события, какие-то детали – не в качестве самостоятельных, а в качестве элементов фигур, – то я пользуюсь какими-то примерами. Примерами я обязан пользоваться доступными, то есть не по трудности доступными, а просто такими, которые основаны на жизненном опыте, близком каждому из нас. И здесь есть закон. Я должен приводить примеры, поскольку так построен наш язык, и он обязывает нас идти определенным путем. Если ты хочешь что-то сказать действительно дельное, то ты должен приводить примеры. Потому что фигур без элементов, без деталей не существует. И это, так сказать, законы человеческого языка. Слово «человеческий» тоже имеет для меня значение. В каком смысле? Ну, понимаете, я не могу, когда я на человеческом языке разговариваю, хитрить, я не могу разговаривать намеками. И к этому относится мое предупреждение. Наш язык, повторяю, имеет законы. Например, в нашем языке все нам принадлежит. Все, что человеком создано, все нам принадлежит. И если я ссылаюсь на Пастернака, то это не потому, что я хочу совершить незаконный акт. Я это делаю потому, что меня обязывает к этому язык. Иначе выразить нельзя, – если ты не следуешь законам языка, человеческого языка. Все, что в мире создано, нам принадлежит, и на все мы можем ссылаться. И поэтому, наоборот, если я ссылаюсь, не воспринимайте это как некий такой антимилицейский акт с моей стороны. В свое время, чтобы пояснить, что такое человеческий язык, довольно известный публицист XIX века Варфоломей Зайцев (один из немногих русских эмигрантов, где-то в 80-х годах он издавал в Женеве газету, я забыл, как она называлась, и писал очень злые памфлеты; памфлетист он был, действительно, язва самая настоящая) написал замечательный памфлет, который называется «О собачьем хвостике, или о характере русской прессы». Зайцев говорит, что если записать сейсмографом (сейсмографической записью) виляние хвостика собаки перед своим хозяином, то полученная диаграмма будет абсолютно похожа на тот язык, которым пользуется русская пресса. Но, в отличие от этого, мы пытаемся говорить на человеческом языке просто потому, что так построена культура. Законы культуры таковы. И поскольку они таковы, то это не значит, что цветок культуры растет для того, чтобы кого-нибудь обрадовать или кого-нибудь огорчить. Он растет по своим законам. Следовательно, повторяю, не делайте отсюда вывода, что я имею какой-то специальный умысел нарушать правила уличного движения или общественного порядка или показываю кукиш в кармане. Я просто подчиняюсь законам говорения. Законам того, как строится культура. И здесь есть еще один важный момент (он нам нужен в связи с Прустом), Дело в том, что когда мы говорим о чем-нибудь внешнем, – скажем, я говорю «собачий язык», имея в виду русскую прессу XIX и XX веков, – опять же вы должны понять, что это – элементы фигуры. А чтобы увидеть элементы фигуры, то есть нечто не просто хорошее или вредное, а как элементы фигуры, нужно заглянуть в себя. Вот как строится человеческая речь, ибо мы вечны. А это значит, что если мы не заглядываем в себя, то вечно будет всякая дрянь, потому что она материей наших чувств поддерживается. Из нас вырастает. И она будет сменяться. Сегодня будет одно безобразие, завтра другое. Поэтому само по себе безобразие не имеет значения. Если нас на нем «зациклят» и мы в себя не заглянем, то будут другие безобразия. Они сами по себе неинтересны. Нечего обвинять других, нужно в себя заглянуть. И опять же – нужно это делать, следуя законам языка, на котором строится любой культурный акт. Любой акт внутри культуры. Это означает также (то, что я сейчас скажу, прустовская тема), как я вам говорил в прошлый раз, что нужно мужество (не перед милицией, не бояться ее, есть вещи пострашнее милиции, потому что сегодня милиция, завтра полиция, послезавтра она еще как-то иначе будет называться; я сказал, что все это будет воспроизводиться, повторяться, само по себе это неинтересно), – мужество в себе, нам ведь самим страшно увидеть правду. Пруст говорит: я ведь не деталями занимаюсь, я занимаюсь радиографией (извините, я галлицизм допустил в русской речи, я должен был сказать – рентгеноскопией занимаюсь)[41 - T.R. – p. 718 – 719; C.G. – p. 548.]. Например, я вижу гладкий бархатный женский живот, но если я знаю, что эта женщина больна раком и этот живот скрывает (под гладкой своей поверхностью) раковую опухоль, я ничего не могу поделать: я вижу раковую опухоль. В этом смысле, говорит Пруст, у меня рентгеноскопия. Довольно-таки сложное занятие; условно назову это «философией жестокости».
У Пруста, как у всякого человека, прожившего интенсивную духовную жизнь, есть философия, и эту философию можно назвать так: философия жестокости. Приведу другой пример, который вам, может быть, будет более близок по смыслу, поскольку он относится к театру, хотя автор малоизвестен и спектакли его не ставились (да и, по-моему, самим французам он тоже не особенно известен); я имею в виду французского актера и режиссера и теоретика театра Антонена Арто, который свой театр называл «театром жестокости». Вот по аналогии с этим вы можете понимать словосочетание «философия жестокости». Оно звучит примерно так (в прустовском варианте, в одном из самых безобидных, потому что есть более обидные варианты): мы должны на собственный страх и риск из впечатлений извлечь истину, то есть извлечь фигуру; если перевести на тот язык, который я употребляю, – мы должны иметь, например, смелость, вместо фразы «Она очень мила», сказать: «Я получил удовольствие, целуя ее»[42 - Cм.: T.R. – p. 896.]. Чаще всего именно так и обстоит дело. Не она мила, а просто я получил удовольствие, поцеловав ее. И все. Насколько часто мы можем себе это сказать? Хотя чаще всего это так, но реже всего мы осмеливаемся сказать себе это. Потому что мы сразу в своем воображении строим целый роман с этой милой женщиной. И этот пассаж я завершу простой цитатой. Как-то одному из литературных критиков – Куртиусу Пруст писал (Куртиус занимался творчеством Пруста и пытался его анализировать): «…нам незачем заниматься политикой». Кстати, эта фраза уже текстуально, словами Пруста, подтверждает то, что я говорил перед этим, потому что все мое предупреждение сводилось к тому, что нам незачем заниматься политикой. В том смысле, что есть вещи более серьезные и имеющие большие политические последствия, чем сама политика. Мы занимаемся литературой. Пруст так и пишет: «Нам незачем обсуждать политику». То есть обсуждать сами по себе незначащие и вечно повторяющиеся детали или уродства. Наше дело – литература. «Литература» в данном случае употребляется в совершенно особом смысле. Литература – это не занятие, состоящее в том, что человек пишет книги. Литература, или литературный акт, есть часть построения душевной жизни у Пруста. Часть построения актов понимания того, что происходит в мире и что происходит с тобой в этом мире. Пруст говорит: «наше дело – литература», и дальше: «…конечно, нас многие могут обвинить в том, что мы страдаем morbo litterario (болезненной страстью, болезненным графоманством, не знаю, как иначе это перевести), – нет, – говорит Пруст, – уничижает нас плохая литература, а крупная литература всегда открывает нам неизвестную часть нашей души»[43 - Cм.: Centenaire de Marsel Proust – p. 74.]. И вот, из-за чего я это вспомнил, дальше идет блестящая фраза: «…не нужно бояться зайти слишком далеко». Ну, например, мы боимся сказать «рак»; всегда есть какая-то мелочь, какая-то причина, за которую мы можем зацепиться, чтобы отстранить от себя сознание, что это – рак. Так вот, Пруст говорит; «Никогда не нужно бояться зайти слишком далеко, потому что истина – еще дальше»[44 - Ibid.]. Действительно, подумайте, нам никогда не удастся зайти слишком далеко, потому что истина все равно будет еще дальше.
Итак, в прошлый раз я сформулировал следующее: когда мы испытываем любовную иллюзию, то самым существенным во время ее испытания является – как на самом деле обстоит дело, что на самом деле происходит. То есть нечто отличное от того, что мы переживаем, чаще всего является просто иллюзией, плодотворной, но иллюзией. Кстати, хочу оговорить, что я часто буду употреблять слово «иллюзия», тем более что роман Пруста можно определить так: роман до уничтожения последней иллюзии. То есть роман прохождения такого пути, который есть путь завершающийся (или незавершающийся), до уничтожения самой последней иллюзии. Ну, иллюзия не есть ругательное слово. Скажем, французские авторы прекрасно знали – потому что они лучше всех других исследовали вообще человеческое сердце и человеческую душу, больше всего потратили на это сил и больше всего успехов достигли, – что когда говорят «illiusion amoureuse» (Фурье, например), любовная иллюзия, то это не есть указание на то, что есть любовь и есть иллюзия или – любовь есть иллюзия. По определению, суть этого чувства заключается в его способности к иллюзии. И в этом нет, в самом по себе, ничего плохого, – если мы посредством этой иллюзии извлечем какие-то смыслы и пройдем какой-то путь. Путь, ведущий в самих себя, к другим людям или внутрь других людей, и путь, ведущий в действительное устройство мира. (Так что сказать: любовная иллюзия и любовь – одно и то же, – тавтология.) Так вот, самое важное для нас приходит к нам вопреки нашим волепроизвольным и сознательным усилиям, приходит «действием какого-то большого закона»[45 - C.G. – p. 160.]. Я говорил вам: можно ли сознанием воли, пускай даже знающей, что бессмысленно мое переживание, заставить себя не испытывать переживания… Я говорил вам в прошлый раз, что если мы мчимся, как выпущенное из пушки ядро, на любовное свидание, то вся проблема жизни как раз и состоит в том, можем ли мы изменить наше состояние. Оно, конечно, меняется, может измениться, но, предупреждает Пруст, действием закона, а не моим сознательным и волепроизвольным усилием. Я не могу перестать переживать, захотев перестать переживать. Не может этого быть. Следовательно, Пруст вводит какую-то категорию изменений в наших состояниях – и тем самым в нашей судьбе, в том, что с нами случится, – которая не подпадает под известную нам категорию изменений.
И я опять должен подтвердить, вернее, предупредить о свойствах нашего языка. Скажем, в отличие от «произвольного», мы склонны (и правы в этом) употреблять термин «непроизвольное». Ведь что мы понимаем под «непроизвольным»? Наши какие-то аморфные душевные состояния, эмоции и т д. Некоторые интуиции, мимолетные ощущения, чувства, которые характеризуются печатью непроизвольности. Но не об этом идет речь. Для Пруста, и вообще в принципе, как раз такого рода состояния – я назову их кисельными, то есть не имеющими структуры (у французов есть хорошее слово для этого – velleitй, то есть поползновения, потуги), – непродуктивны, и не они называются непроизвольными. Но я буду употреблять этот термин потому, что в нашем языке других слов нет. Чтобы пояснить свою мысль – во многих местах у Пруста (и у других авторов) вы встретите такое выражение: «моя жизнь или эпизоды ее, события моей жизни были, как оказалось, материалом искусства»[46 - T.R. – p. 909.]. Как мы понимаем это? Очень просто: произошло какое-то событие, и это есть материал в том смысле, что я могу его описать, рассказать о нем. И в этом смысле оно (событие) составит материю романа и какой-то сюжет. Но речь идет не об этом. Точно так же, как непроизвольное означает что-то другое, чем само слово «непроизвольное», так и слова «материя искусства», а это связано с непроизвольностью, – скажем, моя жизнь, как и ваша жизнь, эпизоды, события вашей жизни как материал, или материя, искусства не означают, что эти эпизоды есть то, о чем можно рассказать, – так вот, слово «материя» в данном случае имеет прямой, буквальный смысл. Его очень трудно уловить. Материя искусства – в совершенно прямом смысле этого слова. Не сюжет для описания или предмет для описания, а материя самого произведения искусства. Плоть его. Я сейчас об этом только предупреждаю, потому что с ходу раскрутить и понять это трудно. Просто я хочу обратить ваше внимание на сложность самого словоупотребления языка – мы не должны, услышав слово, спешить понять его по тому значению, которое оно нормально имеет. Этого значения мы отменить не можем, и мы должны пользоваться, к сожалению, теми словами, значения которых мы отменить не можем. Но мы можем сделать из них такую композицию, чтобы она нейтрализовывала неминуемо возникающую в наших головах ассоциацию по значению. Другого языка у нас нет. Переводя на язык, близкий к любви, а мы все время крутимся вокруг любви, потому что любовь – основной сюжет Пруста и романа, о котором мы говорим, я выражу немножко иначе то, что я сказал о языке, приведя известную фразу Франсуа Вийона, которая обращена как извинительная фраза по отношению к принцу; она звучит так: «Prince, on б les amours qu'on б»[47 - Villon. Euvres poetiques. Ballade de la belle Heaumiйre. Garnier – Flammarion, Paris, 1965.]. (К сожалению, в русском языке нет слова «любовь» во множественном числе, что говорит не только о недоразвитости языка, но и о недоразвитости чувств, которые выражаются в языке.) Переведем так: «Принц, у нас есть те любви, какие есть» (и дальше Вийон добавляет: «извините меня за немногое»). On б les mots qu'on б. У нас есть те слова, какие есть. Других нет.
То изменение, о котором говорит Пруст, то есть то, которое происходит действием изменения нашего состояния, оно происходит действием какого-то закона, а не мною самим производится. То есть во мне должен породиться какой-то закон, чтобы, даже вопреки мне или независимо от моих сознательных и волепроизвольных усилий, изменить мое состояние. Фактически Пруст хочет сказать, что это нечто, что производит такого рода изменение, действует наподобие органа, в отличие от воли и сознания. (Для того чтобы мне увидеть эту трубку, мне ведь не нужно организовывать сознанием и волей акт зрения; глаз производит органом зрения то, что я вижу; это ясно, да?) И здесь, в глубине, скрывается проблема, что для Пруста – то, что называется произведением искусства или текстом (помните, я употреблял слово «текст»), не есть знание. Скажем, Сен-Лу можно передать знание, что Рахиль, его возлюбленная, продавалась в доме свиданий за двадцать франков. Но я предупреждал вас, что это знание не есть сообщение, несообщимо с головой Сен-Лу. Оно не войдет в эту голову. И он не сможет изменить своего отношения к Рахиль. Он ведь знает, что Рахиль – двадцатифранковая проститутка (если ему сообщить), и посредством этого знания он не может ничего изменить. Более того, по дороге между знанием о том, что – двадцатифранковая проститутка, и результатом изменения отношения (которого не происходит) стоит громадное пространство, громадный мир того, что можно назвать психологической проработкой. И факт знания, совершенно чуждого Сен-Лу, – что за двадцать франков Рахиль продавалась в доме свиданий, – может получить для Сен-Лу (путем работы проработки) совершенно особый, тайный смысл и внутреннее уникальное, только Сен-Лу доступное очарование. Пруст говорит, что нет такого самого отвратительного существа на свете, которое хотя бы для кого-нибудь одного не представало «под знаком самой трогательной нежности и очарования»[48 - C.G. – p. 283.]. И более того, Сен-Лу даже может извлечь особую гордость – они вот так думают, а я-то знаю, что Рахиль прекрасна… – вам знакомо то, что я сейчас говорю? У него будет даже особая прерогатива внутреннего знания, абсолютного шарма того, что вопреки всему он знает. Все видят внешнее, они не знают и не понимают Рахиль. Те живут в мире рассудочных представлений и иллюзий, а я знаю. Внутренним каким-то особым знанием, тайным очарованием. Ну, примерно таким, как если бы герой одной из новелл Музиля поверил в непорочную беременность[49 - Cм.: Музиль Р. Избранное. Сборник (Тонка). Прогресс, 1980 (на нем. яз.)]. (Кстати, мы сейчас вращаемся вокруг акта веры. Когда можно совершить такой внутренний акт, тогда можно поверить в непорочную беременность, хотя это – противоречие в терминах.) Значит, как раз то, что мы суммарно и пока непонятно называем текстом, и есть что-то – я уже употребил слово «орган», – что производит, может произвести изменения, которые иначе недоступны нашим усилиям. И здесь мы сразу врезаемся в общем в сложную проблему, которая другим путем нас должна привести к теме, которую я все время обещаю и пока до нее никак не дошел. А именно: тема так называемого труда жизни. Я приведу вам пример, чтобы пояснить, что я хочу сказать. Мы сталкиваемся с таким законом нашего сознания, нашей психологической жизни, что в логосе (надеюсь, вы помните, что такое логос) – смысл какого-то собрания. Вот есть энное число вещей, в принципе относящихся к делу, и вот все, что важно для дела, это есть собрание, называемое логосом (в греческом языке само слово «логос», идущее от «легеен», имеет такой этимологический смысл). Все, что относится к делу, не только связано в логосе – логос, как я вам сказал, не присутствует отдельно ни в каком члене собрания, отдельно логос не дан, логос есть то, что есть смысл всего собрания, и он, следовательно, не может быть дан в одном члене собрания. Все члены логоса помечены словами, имеют названия. И туг существует один странный закон, к которому Пруст неоднократно возвращался. Он говорил примерно так… Фактически я уже приводил материал этого закона – например, лицо Рахиль, я сказал, что оно Сен-Лу доступно одинаково с Марселем; и тому и другому одинаково доступно лицо Рахиль в смысле, как выражается Пруст, «общих актов». То есть то, что называется «нос», «глаза», «щеки», «губы», «выражение лица» и т д., – как общее, как то, что может быть на лице Рахиль, и на лице Франсуазы, и на лицах бесконечного числа других людей. Смеющиеся глаза могут быть на одном лице, на втором, на тысячном лице. Ведь мы все это понимаем и называем. Это – доступность в смысле общих актов, то есть таких же, как у других… Я приводил вам эту цитату, но можно повторить ее: «Это лицо, с ее взглядами, улыбками, движениями рта, показалось мне значимым лишь в смысле общих актов, без чего-либо индивидуального (здесь вкрадывается словечко „индивидуального“, очень важное, хотя странно – оно нарушает законы нашего говорения, потому что, когда мы говорим „нос“, мы даже общее индивидуализируем), и я не мог иметь любопытство искать под ними персону»[50 - C.G. – p. 159.]. В другом месте, оборачивая эту же мысль отрицательной стороной, как раз той, которая сейчас мне была важна, Пруст говорит так: «…в коллекции наших идей („идеями“ в данном случае назовем просто общие понятия, названия – „нос“, „глаза“, „лицо“ и т д., или наше представление о красоте, об интересной мысли и т д. – тоже идеи) нет ни одной, которая отвечала бы индивидуальному впечатлению»[51 - Cм.: C.G. – p. 49.]. Я говорил, что есть проблема органа, который производит – не я произвожу, глаз видит – не я вижу, и проблема органа есть проблема – я выражусь так – логоса того, что вне логоса разделено. Есть глаза в логосе или нос в логосе, или есть выражение лица, улыбки в смысле общих актов, и есть все это вне логоса. Логос есть логос того, что вне логоса разделено; вне логоса это – общие акты, за которыми нет «любопытства искать персону». И во всем этом нет ничего – в общих актах или названиях, – что соответствовало бы индивидуальному впечатлению. Теперь я приведу пример для пояснения. Скажем так – известный простой факт, который мы на уровне интуиции должны ухватить: есть вода в смысле индивида «воды», и есть она же, называемая «водой», вне индивида (и это тонким образом связано с тем, что я называю органом). Вы можете взять воду из океана или моря, держать ее в пробирке, и вы будете говорить, что имеете мертвую воду. Это другая вода. Элементы ее те же самые, что и морской воды, абсолютно те же самые элементы, и какая-то тайна… вода в пробирке умирает. И умершая вода, по элементам та же самая, что вода морская, не есть та вода. И вот какое-то различие между ними мы называем, употребляя слово «жизнь». Одно мы называем живым, другое называем мертвым. Или – одно называем индивидом, потому что – что такое морская вода? Это миллионные и миллиардные сочетания деталей, такие, что маловероятно, чтобы еще один раз эти детали могли бы сочетаться в том виде, в каком они даны в виде воды. И это называется индивидуальностью. Сочетания многих элементов, или обстоятельств, или просто фактов. И хотя отдельно они те же самые, но просто факт, что они были вместе, – дополнительный. Они жили вместе. И нам приходится называть этого индивида, потому что маловероятно, чтоб сочетание этого многого еще один раз могло бы случиться. И, более того, оно не только не случится еще один раз (и поэтому, если случается только раз, называется индивидом), а еще есть сила неразложимого на элементы сочетания. И в названии ничто нас не готовит к тому, чтобы воспринять индивидуальное впечатление («воду» в данном случае). Как видите, я довольно сложное рассуждение проделал, чтобы напомнить вам простой факт.
У Пруста все произведения искусства – воображаемые, как бы внутри произведения искусства, называемого «В поисках утраченного времени», создаются еще произведения искусства, которые в нем описываются. Потому что для Пруста, и для вас, и для меня среди всех наших жизненных впечатлений довольно существенное место занимают и впечатления от искусства, которые подчиняются тем же законам, и из них тоже можно и нужно извлечь что-то, что и из любых других впечатлений. То есть для Пруста, и это существенно, впечатления от искусства не вынесены отдельно, но являются частью нашей жизни, уравнены с другими впечатлениями, из которых нужно извлечь своим собственным трудом нечто – так же как из лица Рахиль. Только мы не всегда это замечаем, потому что Рахиль для влюбленного Сен-Лу судьбоносно важна, а книжка, казалось бы, не важна, но в действительности это – такую же роль играющие в нашей жизни впечатления и так же требующие чего-то, что в самих впечатлениях не содержится в той мере, в какой они совпадают с общими значениями. И когда Пруст описывает пение Бермы, он все время сталкивается (и наглядно воссоздает, описывает эту трудность) с тем, что воспринять пение Бермы как нечто красивое очень трудно, потому что то, что есть пение Бермы, не соответствует общему представлению о том, что красиво. И нет никакого соответствия – Пруст все время подчеркивает – между общим представлением о красоте и индивидуальным впечатлением[52 - Cм.: C.G. – p. 50.]. Так же как и в названии воды нет ничего соответствующего жизни воды. То есть индивидууму воды. Поэтому я говорил, что в логосе – со стороны составляющих его названий или представлений общих фактов – нет ничего, что соответствовало бы индивидуальному впечатлению. Из логоса – из названий, составляющих логос (то есть смысл), мы ничего не можем извлечь. Они не могут нам помочь в том, чтобы – что сделать? Разобраться в том впечатлении, которое нас поразило, которое нас ударило. Например – пение Бермы или лицо Рахиль. Марсель видит лицо Рахиль с точки зрения общих актов, потому что Рахиль для него, как я говорил вам, – в безразличном пространстве. Но он ничего и не видит, и он смысла не может извлечь, и это событие – встреча с Рахиль – для него не является жизненным событием. Оно не вписывается ни в какой контур, который примет его жизненный путь. И здесь есть вещь скрывающаяся, которая сейчас взорвет все наше построение, может быть, неожиданным для вас образом и одновременно заставит осторожно относиться к словам, которые у нас есть. А у нас есть лишь те слова, которые есть. Я говорил в самом начале, что мы имеем дело с романом воспитания чувств. А сейчас мы получили очень забавный вывод на основе того, что во всем логосе нет ничего, что соответствовало бы индивидуальному впечатлению. То есть тому, что я могу извлечь из индивидуального впечатления, чтобы – что? – «образоваться». Например, «образоваться» в своем переживании красоты, восприняв красоту пения Бермы. И «образоваться» в законах любви, раскрутив свое впечатление, размотав свое впечатление от лица Рахиль. Мы получили забавный вывод, что, хотя мы говорим о воспитании чувств, мы находимся в области, где нет никаких норм и правил, – то, что я говорил об отсутствии соответствия впечатлению, на другом языке есть просто то, что мы находимся в области, где нет норм и правил. То есть ни одна норма, ни одно правило не могут нам помочь. Что же это – воспитание? Ведь что такое воспитание молодого человека? Он воспитывается путем овладения существующими нормами и правилами и путем развития в себе способности прилагать эти нормы и правила к хаосу своей жизни, к жизни своих переживаний; обуздывать свои переживания и хаос души посредством норм и правил. А мы установили, что норм и правил нет. В мире норм и правил нет ничего, что соответствовало бы индивидуальному впечатлению. Повторяю: в коллекции наших идей нет ни одной, которая отвечала бы индивидуальному впечатлению. То есть отсутствие норм и правил говорит нам об очень странном воспитании, не совпадающем с тем, что мы обычно понимаем под воспитанием, и говорит о том, что мы – в области, где нет норм и правил, сталкиваемся с одним чудовищным фактом: есть что-то, чего нельзя знать. Скажем для начала – нельзя знать заранее. То, что содержится в пении Бермы или в лице Рахиль, – нельзя знать и пережить путем знания. Вот я знаю, и посредством этого знания я переживаю то, что я вижу или с чем встречаюсь, – нельзя знать. И вот это «нельзя знать» у нас начнет часто повторяться. Хочу закрепить одну вещь. Дело в том, что – странное воспитание чувств… нет норм и правил, мы не можем воспитать себя нормами и правилами – это и есть, с другой стороны, то самое первое, что мы испытываем как живые. Совершите небольшой акт рефлексии, подумайте о самих себе: ведь именно то, для чего нет никакого эквивалента в нормах и правилах, или «в общих представлениях общих актов в общем смысле», – именно в этом и есть наша жизнь. В этом мы живы. Потому что во всем остальном, что мы знаем по правилам и по нормам, мы мертвы. Или – пока нам достаточно просто интуиции – мы чувствуем себя живыми как раз в такого рода вещах.
И я сделаю еще один шаг, чтобы закрепить, что как раз то, что не входит в логос или в эти названия, не входит в ту область, где нет эквивалентов для индивидуального впечатления, то, что остается у нас на стороне ощущения себя живыми, – и есть сознание (в отличие от знания, в отличие от многих других вещей). И есть какое-то напряжение между тем (то, что я сейчас назвал сознанием, пока оно есть просто нечто), в чем мы ощущаем себя живыми, и между эмпирическим сознанием, частью которого являются наши знания. В том числе знания норм и правил. И между ними возникло какое-то напряжение, ну хотя бы в том, что в мире знаний, норм и правил нет ничего, что соответствовало бы этому и что я мог бы пережить, – знание, взятое из мира норм и правил, наложить на мое переживание и пережить его вот таким путем. Сделаем один маленький вывод: то, что мы будем называть и дальше текстом или органом, не есть знание, И следовательно, любые изменения, с которыми мы будем иметь дело, не есть изменения, произведенные знанием. Узнав что-то о Рахиль, путем знания я ничего не могу изменить. Узнав о том, что в принципе красиво в вокале, я ничего не могу извлечь из живого восприятия пения Бермы. И вот, закрепив это, мы сталкиваемся с очень интересной проблемой. В прошлый раз, приводя пример с Сен-Лу, я специально опустил один очень важный момент, который теперь уже уместно привести в контексте мысли, что текст не есть знание. Значит, я скажу так, чтобы у нас опять-таки была ниточка: мы стоим в области воспитания чувств, или образования самого себя, или реализации себя, – в области, где существует проблема узнавания того, чего нет в элементах логоса. Проблема узнавания и неузнавания. Ведь когда я слышу пение Бермы или вижу лицо Рахиль, то передо мной в одном случае – красота пения, а в другом – факт знания о реальном биографическом обстоятельстве в жизни Рахиль, а именно что она двадцатифранковая проститутка. И я могу встретиться с этим – и не узнать. Не узнать – имея в голове общее представление о том, каково должно быть пение, что красиво, когда хорошо поют, когда плохо поют. Или знать о том, каковы женщины. Повторяю – проблема узнавания того, что есть. Пруст иногда выражался так: «не узнать друга» или «не узнать Бога»[53 - J.F. – p. 719.]. Ведь можно встретиться с Богом – и не узнать в нем Бога. Или встретиться с другом – и не узнать в нем друга. Повторяю: мы должны закрепить в голове, что это не просто случайность, а в этом действуют законы. Есть законы того, почему мы не узнаем. Точно так же, как есть законы, почему мы узнаем. То есть – условия и законы, почему мы можем узнать то, чего могли и не узнать. Вот некая такая трагедия и комедия, если хотите, до недоразумений, когда одно родное другого при встрече не узнает. Я уже, казалось бы, на совершенно обыденный язык перевожу то, что говорил, как какие-то абстрактные вещи, о красоте, о понятии красоты, о том, что понятие красоты никогда не соответствует индивидуальному впечатлению. Нет, в том-то и дело, что все это есть одно и то же. Короче говоря, эту проблему я выражу строчкой из стихотворения Гумилева (одна из гениальных тем у Пруста, и вообще – тема поэзии): «О, как божественно соединение извечно созданного друг для друга!»[54 - Гумилев Н. Стихи. Поэмы. Тбилиси: Мерани, 1989. С. 296.] То есть может быть что-то извечно созданное друг для друга, но не соединившееся. Даже при эмпирической встрече. Понятно, что можно не соединиться – просто потому, что никогда не встретились, а нет… можно встретиться и – не соединиться. А если соединиться, то – «О, как божественно соединение извечно созданного друг для друга!»
Значит, мы имеем дело с соединением или несоединением. Более того, мы имеем дело, скажем так, с трагической конечностью человека. Дело в том, что мы не можем – поскольку мы конечны, у нас нет бесконечного времени – встретиться эмпирически со всем тем, что создано для нас. Не можем – потому что пространство нашей жизни ограничено, даже географические возможности ограничены. Откуда вы знаете, что вас сейчас кто-то не ждет в Париже? И даже если бы вы могли сейчас выскочить в Париж, то я бы вам сказал: «А может быть, как раз в Лондоне, и не сейчас, а через несколько лет?» И более того, я могу задать себе вопрос: все ли, что есть наша жизнь, происходит во время нашей жизни? Ведь не случайно люди придумали идею бессмертия и надеялись на бессмертие. Они посредством этой метафоры уловили какое-то обстоятельство, действующее в нашей жизни. В том числе уловили вот эту конечность. Уверяю вас, я сам по себе точно знаю, что есть какая-то книга, которая для вас написана и которую вы никогда не прочитаете, потому что нельзя прочитать все книги. Количество книг несопоставимо с возможным количеством наших актов. Я уже не говорю об эмпирической случайности оказаться именно в той библиотеке или в том книжном магазине, где лежит эта книга. Это же необозримое море случайностей, не проходимое нами. Но интересно, что, хотя вы никогда не прочитаете книгу, в которой есть идентичный опыт с вашим, и вы могли бы сделать шаг вперед, если посредством этой книги заглянули бы в себя, а это есть задача книги, – тем не менее события этой книги могут произойти в вашей душе. Символисты ведь говорили, что есть соответствия символические. Что какая-то мысль, которая изложена в книге, которую вы никогда не прочитаете просто потому, что вы эмпирически ограничены, конечны, – эта мысль тем не менее может случиться в вашей голове. То есть что-то есть, что действует против человеческой ограниченности и против человеческой конечности. Такими действующими инструментами являются те вещи, которые я называл текстами. Философы называли это продуктивным воображением – нечто нейтрализующее, гарантирующее меня от случайности того, чего эмпирически я могу не встретить, не увидеть. И есть какие-то дополняющие способности – они называются, допустим, человеческим воображением, которым строятся конструкции, называемые текстами, которые производят в нас события, независимо от эмпирических возможностей или невозможностей встретиться с носителями или материальными, так сказать, выполнителями этих событий. Более того, мы не можем всего знать по одному фундаментальному закону. Можно сказать так: мы могли бы все знать и, хотя мы конечны, могли бы, скажем, текстами дополнить свою неспособность быть бесконечными. Ну что значит «все знать»? Быть во всех местах пространства и времени. Допустим, можно предположить некую «божественную» способность охвата всего пространства и времени и мое участие в этом. Математики и физики осуществляют так называемый предельный переход. То есть на пределе берут. Можно взять нам воображение на пределе, но при условии, что ты сам не являешься частью того мира, который ты видишь и описываешь. А если ты сам актер – не только смотришь спектакль, но еще и участвуешь в нем, то есть своим действием в спектакле меняешь все события, а они находятся в сцеплении с тобой, – то тогда ты в принципе не можешь всего знать, потому что ты участвуешь сам в этой жизни. Значит, еще одно ограничение. И тут как раз я привел вас к тому, о чем хотел сказать в связи с проблемой изменения.
Так вот, изменение нам недоступно – если не выполнены какие-то условия – само по себе, легким путем недоступно, не только потому, что вот то, о чем я говорил, не подчиняется нашей воле и сознанию, а производится иначе, а еще и потому (и я сформулирую это грубым образом), что нам приходится менять уже измененное. А «уже измененное» менять очень трудно. Сейчас я поясню эту непонятную фразу: дело в том, что человек меняет, преобразует какие-то эмпирические обстоятельства в своем сознании и воображении под знаком своих высоких идеалов – так, чтобы в том, что он видит и любит, принимает, были выполнены какие-то его требования к самому себе и к миру. Скажем, Сен-Лу увидел Рахиль – эмпирическая Рахиль (женщина с плоским лицом) стала объектом страсти Сен-Лу, потому что она изменилась, преобразовалась в его взгляде, который видел Рахиль из точки – назову ее так – «высокого». То есть из точки идеалов и мечтаний, навеиваемых искусством. Ведь Сен-Лу увидел Рахиль в театре. И мир, связываемый нами с театром – не с помещением, не с театром как таковым в физическом смысле слова, а с представлениями о человеческом благородстве, о высокой человеческой любви и т д., – это все преобразовало эмпирически видимое. И в своем отношении к прекрасной Рахиль – не к двадцатифранковой проститутке, а к прекрасной Рахиль, Сен-Лу реализовывает себя как человека, с которым он сам может жить в мире. То есть он сам для себя допустил, – почему? – потому что он сам поклонник идеалов доблести, а Рахиль доблестна, и он, любя Рахиль, любит доблесть (я сейчас словом «доблесть» заменяю многие слова, потому что когда хочешь сформулировать мысль, то спешишь и не ищешь всех терминов). Значит, я обращаю внимание на то, что отношение Сен-Лу к Рахиль (то, как он ее видит) есть, конечно, в фундаменте своем, его отношение к самому себе. В каком смысле слова? – в этом отношении должна реализовываться, не нарушаться его способность жить в мире с самим собой, уважать себя. Так ведь? Следовательно, он уже стал человеком. И вот изменить «уже человека» на «еще человека» почти невозможно. Можно, но трудно. Если помните, я приводил фразу Аристотеля – что причина, почему я что-то люблю, важнее, чем то, что я люблю. Но дело в том, что есть закон, и я сейчас фактически его сформулировал: наша жизнь устроена так, наше сознание и психика устроены так, что потом нельзя иметь то, из-за чего любишь, без того, что любишь. То есть то, из-за чего любишь, потом ты имеешь через то, что любишь. Потом уже – через Рахиль – Сен-Лу получает форму и область движения своих чувств, направленных на высокое, прекрасное, доблестное и т д. Это понятно? И вторгнуться в эту область изменением почти невозможно.
Закон этот действует и в социальной жизни, мы тысячу раз встречаемся с примерами проявления этого закона. Очень часто мы ничего не можем сделать с такими неразвитыми дикарями (так же как Марсель считал Сен-Лу дикарем, потому что Марсель-то знает, что Рахиль проститутка, и в этом смысле он просвещеннее, чем Сен-Лу): дело в том, что у нас нет цивилизации (мы нецивилизованны, кстати, примерно так же, как и русские), и часто возникает желание ввести какие-то рациональные изменения, но они всегда упираются в действие закона, который я выражу так: русские не могут стать людьми, потому что они уже стали людьми. Так, как они стали. Потому что в том, каковы они, они выполнились в доступных им пределах (и мы тоже, кстати, просто я по своему опыту сказал «русские», а есть опыт у меня и другой – наш собственный, грузинский). Уже реализовались. И вот это обладает такой инерцией, которая трудно поддается изменению и тем более не поддается сознательному волевому акту. Там должен происходить какой-то органический процесс изменений, рождаемых из органов. Из реального синтеза и развития какой-то мускулатуры, а не извне, – извне любое действие упирается в то, что «измененное» изменить уже трудно. Именно потому, что оно – измененное. И здесь возникает проблема, которая в психологии называется проблемой identity. Тождество с самим собой. Если оно достигнуто, оно нерасторжимо. Его развязать – оно как бы сцепилось с каким-то огненным взрывом, слепилось, – и развязать его, расцепить рациональными актами невозможно. То, из-за чего я люблю, существует для меня через то, что я люблю. Скажем, у Пруста есть термин, который во французской традиции идет в основном от Стендаля, – кристаллизация чувств[55 - См.: C.G. – p. 53, p. 115; T.R. – p. 992.]. Так вот, если по законам кристаллизаций случилось так, что нежность открыта в мире через Альбертину, то потом, чтобы испытывать нежность, чтобы переживать ее, – а в человеке есть потребность это переживать, даже независимо от предмета этой потребности, – чтобы переживать нежность, должна быть Альбертина[56 - Fug. – p. 556.]. А вот какова эта Альбертина? Может быть, она демон, и, испытывая нежность только через Альбертину, представляете, что со мной случится в жизни?! Какой адский бег ревности совершает герой нашего романа! Он все ревнует, он все время хочет установить, с кем и когда Альбертина ему изменила; и самое страшное, когда он утверждается в мыслях, что она лесбиянка и изменяет ему с женщиной… И вот – этот инфернальный цикл разыскивания по всем точкам пространства и времени, где ты не можешь находиться, не можешь объять все точки пространства и времени, – и ты бежишь… Если вы помните, в аду у Данте есть образ бегущих, которые наказаны тем, что все время должны бежать сломя голову. Есть такой бег, внутренний бег, который страшнее нас изматывает, чем бег физический, внешний.
То, что измененное уже не поддается изменению, прямому изменению, бросает еще один свет на то, что я назвал тождеством с самим собой. Обратите внимание, что это есть преобразование эмпирического, то есть фактов, – лицо Рахиль, какова она реально, какие у нее глаза и т д., но они преобразовались в луче воображения, в луче той точки, из которой смотрел Сен-Лу. Так? Потом произошло отождествление с предметом, через который реализуются мои высокие страсти, и тем самым реализуются достойные отношения меня к самому себе. К моему месту в мире и т д. Это я назвал тождеством, или identity. И ясно, что это есть продукт изменений, что в измененном мы имеем дело с тем, что не фактами рождено. Ведь измененная Рахиль не рождена ее свойствами, физическими свойствами. Физические свойства, как мы знаем, – просто плоский блин лица. Значит – не фактами рождено; и вот мы должны сформулировать закон, что в область того, что не рождено фактами, факты не проникают. Повторяю: в область того, что не фактами рождено, факты не проникают. Например, факт, что в доме свиданий я видел Рахиль, – этот факт не проникает в область просто потому, что эта область не рождена фактами. Поэтому факты туда и не могут проникнуть. Она совсем о другом – та область, хотя она вся накрывает факты. Любит-то он Рахиль, но это есть факт, накрытый этой областью, а не факт сам по себе, – область не рождена фактами. Не факты ее родили, и не факты ее убьют. Сколько хочешь говори Сен-Лу, какова «на самом деле» Рахиль, – не проникает. Значит, как уже говорилось с других сторон, это – сингулярная точка индивидуального переживания, внутри которого Сен-Лу не только жив, а еще и реализовал себя в своем человеческом достоинстве, в высоких критериях, отождествился, и вот это расцепить нельзя, как я сказал. Я много раз имел случай убедиться в том, что сюда факты не проникают. (Вместо фактов можно сказать: рациональные аргументы. Рациональные аргументы всегда ссылаются на факты.) Просто потому, что – не рождено фактами. Рождено другим психологическим процессом. Тем процессом, который я назвал отождествлением с самим собой, со своим образом. Я должен жить в мире с самим собой и принимать в мире только то, что позволяет мне продолжать жить в мире с самим собой. И если человек купил тождество с самим собой ценой неведения факта или непродумывания его, то он никогда его не воспримет; более того, он почувствует в тебе опасность человека, который хочет разрушить самое ценное для него, а именно – identity. Тождество с самим собой.
Это очень часто случается с так называемыми идеологиями, или мировоззрениями. Мировоззрения, или идеологии, есть область сращений человека с отношением к самому себе. И в этом сила идеологии, и ее неразрушимость, и убийственность. Потому что для человека самая большая опасность – перестать быть в мире с самим собой, перестать уважать себя. Но если сначала ты определенной ценой купил уважение, то потом цена эта реализует уважение. Или – то, из-за чего любишь, меняется местом с тем, что любишь. Что любишь, становится условием того, из-за чего любишь. Скажем, Рахиль становится условием доблести, а доблесть любишь, казалось бы, саму по себе. Понятно? Так вот, с мировоззрениями очень часто так случается; мне как-то пришлось проводить занятия с гаитянцами по философии, образовательного такого характера, с настоящими гаитянцами, причем я формально исходил из того, что имею дело с просвещенными людьми, потому что беседа шла по-французски и уже сам факт знания ими французского языка говорил об определенном минимуме просвещения и определенном минимуме наличных гибких структур мысли, которые вырабатываются просто из-за знания языка. Если люди окончили французский лицей, значит, что-то должно быть. И я столкнулся с твердыми пунктами закостенения там, где я пытался просто привести какие-то факты, рассуждения… Но потом я понял, что дело ведь не в глупости и не в уме, а дело в том, что у них была простейшая классовая схема мира, в которой есть богатые и есть бедные, есть империалисты и есть рабочие и крестьяне, и поскольку схема очень проста и усваивается без труда, умственный труд, затраченный на нее, таков, что он удовлетворил их по отношению к самим себе (они стали носителями понимания мира, они мир поняли), и поэтому они никогда с этой схемой не расстанутся. Кроме как ценой какой-то полной личностной перестройки, а это очень трудное дело для человека. Человек ленив. Мир сложен, нужно ломать голову, нужно постоянно заглядывать в себя, менять себя. (Вот наш роман, прустовский, – роман изменения себя. И в этом – героизм больного, несчастного автора. На пределе мужества Пруст проделывал с собой работу изменения, и роман его есть орган изменения себя и овладения своей реальной судьбой.) А люди, о которых я говорю, на такой труд поскольку человек ленив), за редкими исключениями, идти не хотят. Мир умещен в их головах, в этом мире они занимают место человека, понимающего мир, и все очень просто: есть империалисты, есть это, это… Богатые есть, потому что есть бедные, бедные есть, потому что богатые есть, и что сделать, чтобы не было бедных? – уничтожить богатых. Все – мир уложился. И в эту область не войдут факты и аргументы. Вот, видите, что я сейчас делаю? Я сформулировал закон неизменяемости (или трудноизменяемости) измененного, который действует в нашей психологической и сознательной жизни. Более того, я привел вам мелочи, сквозь которые глаз (в данном случае философа) видит фигуры. И поэтому это уже не мелочи, а элементы довольно крупных фигур, которые занимают большие пространства и времена., такие большие, что даже Гаити попало в наши рассуждения. То есть где-то есть нечто, что в данный момент объединяет с гаитянцем или разделяет. Но разделять ведь можно только объединенное, небезразличное. То, что происходит с гаитянцами, как они живут и как они думают, имеет значение, потому что если бы их, как китайцев, был миллиард, тогда мы непосредственно убедились бы в том, что это имеет значение.
Резюмируя то, что я сказал, мы можем выразиться так: мы имеем дело с тем, что у Пруста чаще всего называется впечатлением (слово, которое повторяется почти что на всех страницах романа), но – впечатление, очевидно, какое-то особое. И оно совмещено с точкой, которую мы можем назвать теперь сингулярной точкой (я уже термин этот употреблял), то есть такой точкой, в которую, например, факты не проникают. В которую нельзя перенести знания: она непроницаема, несоединима. И здесь же у Пруста возникает тема множества миров…
ЛЕКЦИЯ 4
27.03.1984
В ожидании сегодняшней встречи я думал о таких вещах, которые могли бы вас соблазнить, и это естественно, потому что всякий человек, который любит что-то, если он нормальный, конечно, хочет поделиться предметом своей любви, чтобы другие тоже это любили. И мне показалось, что мы к тексту Пруста должны отнестись так же, как он сам относился к впечатлениям жизни, – в следующем смысле. В одном из мест романа есть такая сцена[57 - S.G. – p. 1028 – 1029.]. Марсель едет на лошади в высоких горах, по тропинке, по которой ему проехать посоветовала герцогиня Германт, сказав, что он увидит экзотический пейзаж; и действительно, он едет на лошади среди скал, и между скал то показывается, то исчезает море, и в этом то показывающемся, то исчезающем море он узнает пейзажи Эльстира (выдуманный им художник; причем Пруст выдумал не только художника, но и произведение этого художника, которое описывается, среди других произведений, в романе). В пейзажах Эльстира (очевидно, один из первых воображенных и немножко улучшенных Прустом импрессионистов) всегда смешивались море, средневековые города, земля, так что трудно было отличить, где земля, где вода, а где каменные дома. И Марсель как бы видит эти пейзажи сквозь проемы скал, и вдруг лошадь шарахнулась от неожиданного для нее звука, и он еле удержал и лошадь, и самого себя от падения, поднял голову на источник звука и – это было первый раз в его жизни – увидел аэроплан над своей головой. Аэроплан парил примерно в ста метрах над его головой, попарил, помахал крыльями и исчез, и душа Марселя переполнилась непонятным и в то же время ясным для него ощущением другой жизни. Не той жизни, которой он живет, не той жизни, которая привычна, и не той жизни, которую можно угадать, потому что мы своим воображением угадываем что-то, что называем другой жизнью, но в действительности это – не другая жизнь, а продолжение нашего воображения. Наше воображение, как часто говорил Пруст, не может представить себе незнакомую ситуацию, потому что даже незнакомое наше воображение складывается из знакомых элементов, и мы в принципе не можем вырваться (естественным образом не можем вырваться; что-то нам должно помочь, или мы сами себе должны помочь) из сплетения известных элементов[58 - Fug. – p. 424.]. Так что это воображаемое не есть «другое». А вот в том ощущении, которое он ассоциировал со звуком планирующего самолета, он представил себе какую-то совершенно абстрактную, неясную, но переполняющую его радость, ощущение другой жизни, другого «я», то есть другого самого себя[59 - S.G. – p. 1028 – 1029.].
Мераб Мамардашвили
Мераб Мамардашвили
Психологическая топология пути
ЛЕКЦИЯ 1
6.03.1984
Мы будем иметь дело с текстом романа «В поисках утраченного времени», он будет для нас материалом, а темой будет «Время и жизнь». Почему такая тема? По одной простой причине: жизнь – и кстати, Пруст так ее и определял – есть усилие во времени[1 - T.R. – p. 1046. – Здесь и далее все цитаты из романа Пруста приводятся в переводе М.Мамардашвили по изданию: Proust, Marsel. A la recherche du Temps perdu. T. I – III. «Bibliothеque de la Plеiade». Paris, 1954 (с указанием сокращенного названия части романа и страницы).]. То есть нужно совершать усилие, чтобы оставаться живым. Мы ведь на уровне нашей интуиции знаем, что не все живо, что кажется живым. Многое из того, что мы испытываем, что мы думаем и делаем, – мертво. Мертво (в простом, начальном смысле, я пока более сложные смыслы не буду вводить), – потому что подражание чему-то другому – не твоя мысль, а чужая. Мертво, потому что – это не твое подлинное, собственное чувство, а стереотипное, стандартное, не то, которое ты испытываешь сам. Нечто такое, что мы только словесно воспроизводим, и в этой словесной оболочке отсутствует наше подлинное, личное переживание. Хочу подчеркнуть, что мертвое не в том мире существует, не после того, как мы умрем, – мертвое участвует в нашей жизни, является частью нашей жизни. Философы всегда знали (например, Гераклит), что жизнь есть смерть[2 - Одно и тоже в нас – живое и мертвое, бодрствующее и спящее, молодое и старое, ибо эти (противоположности), перемешавшись, суть те, а те, вновь перемешавшись, суть эти»(Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. С. 213).] и т д. (обычно это называют диалектикой, но это слово мешает понять суть дела). Тем самым философы говорят, что жизнь в каждое мгновение переплетена со смертью. Смерть не наступает после жизни – она участвует в самой жизни. В нашей душевной жизни всегда есть мертвые отходы или мертвые продукты повседневной жизни. И часто человек сталкивается с тем, что эти мертвые отходы занимают все пространство жизни, не оставляя в ней места для живого чувства, для живой мысли, для подлинной жизни. Кстати, словосочетание «подлинная жизнь» – одно из наиболее часто встречающихся в тексте Пруста[3 - См.: T.R. – p. 881, p. 895; J.F. – p. 718.]. «Моя подлинная жизнь» – сама интенсивность этого оборота, потребность в нем говорят о том, что очень трудно отличать живое от мертвого. Для каждого нашего жизненного состояния всегда есть его дубль. Мертвый дубль. Ведь вы на опыте своем знаете, как трудно отличить нечто, что человек говорит словесно – не испытывая, от того же самого, но – живого. Почему трудно? Потому, что слова одни и те же. И вы, наверно, часто находились в ситуации, когда, в силу какого-то сплетения обстоятельств, слово, которое у вас было на губах, вы не произносили, потому что в то же самое мгновение, когда вы хотели его сказать, чувствовали, что сказанное будет похоже на ложь. Когда вы молчите – то в том числе потому, что сказанное уже от вас не зависит, оно попало в какой-то механизм и совпадает с ложью (хотя оно может быть правдой). У Данте есть прекрасная строка в «Божественной комедии» – кстати, было бы не вредно вам почитать Данте параллельно с текстом Пруста, потому что так же, как текст Пруста есть путешествие души, так и «Божественная комедия» – одна из первых великих записей внутреннего путешествия души. И многие дантовские символы, слова и обороты непроизвольно совпадают с оборотами у Пруста, хотя Пруст вовсе не имел в виду цитировать Данте. Так вот, Данте, ведомый Вергилием, увидел чудовище обмана Гериона, с телом змеи (но скрытым во мгле) и с человеческой головой. Человек, но в действительности – змея. И Данте говорит – увидел правду (это символика), увидел воплощение человеческого обмана, но сказать ее (правду) человек считает невозможным. «Мы истину, похожую на ложь, должны хранить сомкнутыми устами»[4 - Данте Алигьери. Божественная комедия. М., 1967. Ад, XVI, с. 75. (Пер. М.Лозинского.)]. Одна из наиболее частых наших психологических ситуаций. И я привел этот пример, чтобы настроить вас на то, как отличить живое от мертвого или ложь от истины, поскольку обозначения одни и те же и, самое главное, внутренняя разница между ложью и истиной, не существуя внешне (не существуя в словах и в предметах; предметы лжи и истины похожи, неотличимы), предоставлена целиком какому-то особому внутреннему акту, который каждый совершает на собственный страх и риск. Этот акт можно назвать обостренным чувством сознания.
Значит – внутренний акт. То есть отличение устанавливается мною, оно не дано в вещах. Оно независимо от меня не существует. Тот, кто врет, говорит те же слова, что и тот, кто говорит правду. В словах правда не содержится и в этом смысле не может быть записана. Преметы лжи и истины одни и те же. И это внешне неуловимое отличие и есть внутренний акт. Но, поскольку мир его не совершает, его нельзя закрепить, сказать: это уже сделано и существует; как, скажем, можно запомнить, обозначить символом какую-то формулу и потом пользоваться только символом, не восстанавливая всего содержания. Я призываю вас совершать этот акт по отношению к тексту Пруста. Приведу маленькую цитату. Текст Пруста, поскольку он большой художник, очень красив, состоит из хорошо выбранных и хорошо связанных слов; есть непосредственная красота стиля, и она настолько доступна, что иногда именно поэтому мы не задумываемся над сказанным. Почти все слова многозначны, имеют глубину, в них есть какой-то отсвет. Пруст иногда сравнивает хороший стиль с бархатом (ткань, приятная на ощупь, и в то же время дает ощущение глубины ускользающей)[5 - T.R. – p. 898.]. Простая цитата – в романе фигурируют сестры бабушки героя (очень распространенный в Грузии тип женщин, чаще всего дворянского происхождения; то есть они принадлежали к сельскому дворянству, фактически разорившемуся, но в действительности, конечно, составляли костяк нации, который больше всего пострадал в годы революции; они были носителями просвещения, определенных норм морали, традиций). И Пруст говорит, что сестры бабушки думали, что детям всегда нужно показывать произведения, которые достойны того, чтобы ими восхищались. Им казалось, что эстетические качества подобны существующим материальным предметам (скажем, «красивое» – это материальное качество какого-то предмета, или «благородное», «возвышенное», «честное»; так же, как вы сейчас не можете не видеть меня, поскольку я – материальный предмет перед вами). И если мы попытаемся окружить ребенка такими предметами – хорошими книгами в том числе, то тем самым его образовываем.
И вдруг Пруст замечает: «Значит, они считали, что нельзя не увидеть эстетического качества (вместо «эстетического» подставьте любое другое: моральное, интеллектуальное), и они думали так, не понимая, что этого нельзя сделать (то есть увидеть) без того, чтобы не дать медленно вызреть в своей собственной душе эквиваленту этого качества»[6 - Sw. – p. 146.]. То есть совершить то, что я перед этим называл внутренним актом. Вот я сейчас занимаюсь, казалось бы, милой пустяковой фразой Пруста, но за этим стоит какая-то структура. Для Пруста человек не субъект воспитания, а субъект развития, который обречен на то, чтобы совершать внутренние акты на свой страх и риск, чтобы в душе его вызрели эквиваленты того, что внешне, казалось бы, уже существует в виде предметов или человеческих завоеваний. Так вот, людей можно якобы воспитывать, если окружить их, например, самыми великими и благородными мыслями человечества, выбитыми на скалах, изображенными на стенах домов в виде изречений, чтобы, куда человек ни посмотрел, всюду его взгляд наталкивался бы на великое изречение, и он тем самым формировался. Беда в том, что мы и к книгам часто относимся таким образом. Для Пруста же в книге не существует того содержания, с которым мы с вами должны вступить в контакт: оно может только возникнуть в зависимости от наших внутренних актов. Книга была для Пруста духовным инструментом, посредством которого можно (или нельзя) заглянуть в свою душу и в ней дать вызреть эквиваленту. А перенести из книги великие мысли или состояния в другого человека нельзя. То есть книга была частью жизни для Пруста. В каком смысле? Не в том смысле, что иногда на досуге мы читаем книги, а в том, что что-то фундаментальное происходит с нами, когда акт чтения вплетен в какую-то совокупность наших жизненных проявлений, жизненных поступков, в зависимости от того, как будет откристаллизовываться в понятную форму то, что с нами произошло, то, что мы испытали, что увидели, что нам сказано и что мы прочитали. И вот так мы и должны попытаться отнестись к тексту самого Пруста. Он позволяет нам это делать. Пруст говорил, что книги, в конце концов, не такие уж торжественные вещи, они не очень сильно отличаются от платья, которое можно кроить и так и этак, приспосабливая к своей фигуре[7 - T.R. – p. 911, 1033.]. Поэтому не надо стоять по стойке смирно перед книгами. Такова мысль Пруста.
И поскольку я уже употребил слово «жизнь», то хочу за это зацепиться. Как я бы выразил основную ситуацию Пруста в той книге, с которой мы должны иметь дело? Вообще-то это роман желаний и мотивов. В психологии есть такой термин «мотив» – имеется в виду психологическая причина того или иного дела или поступка. А Пруст слово «мотив» (и я вслед за ним) употребляет в музыкальном смысле – что есть какая-то устойчивая нота, проходящая через достаточно большое пространство музыкального произведения[8 - См.: Sw. – p. 390; C.G. – p. 143, p. 159; S.B. – p. 559.]. И у жизни есть мотив, есть какая-то нота, пронизывающая большое пространство и время жизни. И этот мотив связан чаще всего с желанием. В одном очень простом смысле: ведь в действительности мы являемся только и только желающими существами. И, кстати, одно из самых больших желаний – желание жить. Но жить – как? Чувствовать себя живым! Наши желания и позволяют нам чувствовать себя живыми. Это самая большая ценность. У жизни нет ценности вне ее самой, она сама – ценность в этом смысле. Не в том смысле, что мы должны сохранить жизнь как физический факт, – физически мы ведь знаем, что кто-то умер, а кто-то жив. Нет, имеется в виду, что желания, повторяю, есть такие наши проявления или свойства, в которых мы чувствуем себя живыми и поэтому стремимся реализовывать их. Следовательно, основное наше желание – это жить. А вот жить, оказывается, не просто. И не только по тем причинам, о которых я говорил. Я говорил, что жизнь сплетена со смертью, а там есть очень сложные вещи, стоящие за нашими жизненными актами. Стоящие за теми ситуациями (а их очень много), которые обращены к нам только одним требованием: чтобы мы со своей стороны совершили внутренний акт. И сейчас я поясню, что я хочу сказать. Возьму самую типичную ситуацию, требующую такого акта. Ситуация следующая у Пруста (расшифровывайте мысленно вслед за мной эту ситуацию в ассоциации со словами «желание», «чувствую себя живым» и т д.) – условно назову ее ситуацией места. А именно: где я? Ситуация знания или незнания мной моего действительного положения. Ну, условно говоря, на каком я свете нахожусь? Где я – по отношению к чему-то? Что в действительности со мной происходит? Потому что то, что в действительности со мной происходит, может отличаться от того, что происходит на моих глазах. Что я в действительности чувствую? Ведь очень часто мне кажется, что я люблю, а на самом деле я ненавижу. Вы знаете это не только по жизни, но и по элементарным психологическим знаниям. Мне кажется, что я люблю Альбертину (героиня прустовского романа), а в действительности я хочу слушать музыку. Почему? Да просто по каким-то причинам Альбертина стала для меня носителем этого желания – то есть каким-то механизмом, которого я не знаю, совершился перенос моего стремления к музыке на стремление к Альбертине. В моем сознании я стремлюсь к Альбертине, а в действительности хочу слушать хорошую музыку. Или: я бегу на свидание с женщиной, уверенный в том, что ищу свидания именно с ней, а в действительности я подчиняюсь каким-то другим чувствам, и тот факт, что эти чувства – другие, очень часто обнаруживается на свидании. Потому что иногда прямо пропорциональна моему нетерпению прибежать на свидание бывает скука, которая охватывает меня на свидании, и возникает желание, чтобы свидание поскорее кончилось. Причем эта скука непонятна, потому что, придя на свидание, я обнаруживаю человека, который обладает всеми теми качествами – они ведь не изменились, – из-за которых я, казалось бы, на это свидание стремился. А вот какое-то смятение, тоска овладевают тобой, то, что немцы называют Unbehagen, и ты не помнишь, как говорит Пруст, даже черт любимой женщины[9 - J.F. – p. 490.]. Ты-то считал, что именно эти черты есть предмет любви или причина любви, но, очевидно, это не так, потому что ты даже не помнишь их после свидания. А то, чего ты не помнишь, не может быть причиной страстного состояния.
Я это все привел только к тому, чтобы пояснить, что когда возникает вопрос: что я в действительности чувствую, то это не есть само собой разумеющийся вопрос, имеющий само собой разумеющийся ответ. Напомню вам, что Фолкнер в свое время… кстати, то, что я сейчас говорю, отразилось на радикально измененной, или революционной, если хотите, форме романа. Очевидно, тот тип испытания, который прежде всего хотели пройти Фолкнер и Пруст, их тип опыта не мог уложиться в классическую форму, сломал бы ее, и приходилось изобретать новую, другую форму.
И у Пруста, и у Фолкнера фактически нет именного сюжетного героя, а есть герой, фамилии которого мы даже не знаем, все слои времени перемешаны, повествование свободно скачет от одного времени к другому вне какой-либо последовательной связи, к которой мы привыкли в классическом романе. Нет изображения никакого общества, никаких социальных движений, никакой, если угодно, объективной картины. Все строится совершенно иначе. Почему? И тут я возвращусь к фразе Фолкнера, которую хотел привести. Фолкнер говорил, что самая большая трагедия человека – когда он не знает, каково его действительное положение[10 - См.: Фолкнер У. Собрание рассказов. М., 1977. С. 573; его же: Статьи и интервью. М., 1985. С. 244.]. Где он и что происходит с ним? Вернее – как и когда сцепилось то, что сейчас происходит. Например, как и когда сцепилось то, что я, придя на страстно желанное свидание, только и думаю о том, чтобы оно поскорее кончилось. Что происходит? Значит, все эти ситуации обладают одним свойством: их нужно распутывать. И форма романа должна быть такой, чтобы участвовать в распутывании этого жизненного опыта. И здесь я пока помечу одну очень важную мысль. Литература или текст есть не описание жизни, не просто что-то, что внешне (по отношению к самой жизни) является. ее украшением; не нечто, чем мы занимаемся, – пишем ли, читаем ли на досуге, а есть часть того, как сложится или не сложится жизнь. Потому что опыт нужно распутать и для этого нужно иметь инструмент. Так вот, для Пруста, и я попытаюсь в дальнейшем это показать вам, текст, то есть составление какой-то воображаемой структуры, является единственным средством распутывания опыта; когда мы начинаем что-то понимать в своей жизни, и она приобретает какой-то контур в зависимости от участия текста в ней. В жизни. Сошлюсь на известный факт: Пруст писал свой роман в общем-то наперегонки со смертью, поскольку он был тяжело больным человеком, астмой больным, а вы знаете, что астма – одно из самых психологически сложных заболеваний. Оно вызывает физические мучения, которые ближе всех других к ощущению смерти, поскольку ощущение смерти непосредственно сопровождает саму болезнь. Ты задыхаешься, и смерть – не где-то далеко, а вот – она здесь. И это как раз выпало на долю Пруста (простите, что я иду разными путями, пользуясь ассоциациями, но мне кажется, так лучше говорить, чем говорить слишком гладко и последовательно). Короче, вы понимаете, что если текст есть часть жизни, – не в том смысле, что его пишет тот же самый человек, который еще и живет, ходит на работу, у него жена, дети и т д. – нет, я имею в виду другое: чтобы распутать что-то, нужно эту ситуацию представить в каком-то особом пространстве, в пространстве текста, и тогда (если этот текст удался) ситуация меняется. Набоков, кстати, то же самое проделал – в русской литературе вообще отсутствуют такого рода вещи в силу, я бы сказал, ее провинциально-патриархальной отсталости от мировой литературы, – а Набоков пробовал такие вещи делать. Например, он описывает ситуацию, оказавшись в которой его герой, построив текст для распутывания, заглянув в самого себя, установил истинный факт своей жизни, что ближайший его друг является любовником его жены. При этом, естественно, если жизнь меняется в зависимости от текста, то этот текст бесконечен. Он не может быть до конца написан – ясно, что я сейчас сказал? – по определению, он не может быть, например, оконченным, совершенным романом. И вот у Пруста были написаны начало и конец романа: где в самом начале романа уже есть конец. Пруст сравнивал строение своего романа с собором[11 - T.R. – p. 1044 – 45.]; в нем всегда есть перекличка одной части с другой. Вы ведь разглядываете собор в последовательности, вы не можете одним взглядом охватить весь собор; скажем, вначале вы смотрите на одну часть и там какое-то изображение, но оно не отдельно существует, хотя вы смотрите на него отдельно, а перекликается с другой частью собора, которую вы увидите через какое-то время. Условно назовем эту перекличку символической, то есть термином, которым пользовались символисты, – correspondances, соответствия. (Это я ввожу, наверно, узнаваемую вами тему символических соответствий.) Скажем, какая-то сцена на 50-й странице имеет смысловую перекличку и не может быть понята по окончательному своему смыслу без того, что фигурирует на 3000-й странице (примерно в конце романа). Так вот, конец уже написан. И, следовательно, конец и начало производят внутри романа события самой жизни Пруста. В том числе знаменитую «книгу любви» Альбертины; две части романа особо выпукло ее выделяют – «Пленница» и «Беглянка». Они написаны Прустом по живому. Он имел и начало и конец романа и перекраивал свою собственную реальную любовь, которая в жизни с ним происходила: это была любовь к его секретарю Альфреду Агостинелли, который погиб, кстати, так же, как и Альбертина в романе. И хочу по этому поводу сразу сделать замечание, чтобы потом к этому не возвращаться. Вы, очевидно, знаете, что Пруст не был человеком нормального сексуального темперамента. Он был гомосексуалист. Но он был одним из немногих, у которого было мужество через эту свою, назовем условно, причуду, через нее идти, в страстном человеческом искании, к общей природе любви, а не к гомосексуальной. Она была проблемой – любовь как таковая (то есть нормальная сексуальная любовь). И он смог транспонировать, и разобраться, и понять. Потому что в общем-то там действуют те же самые законы и иногда на гомосексуальной любви виднее общие законы любви (к этой последней, так сказать, причине я еще вернусь, а об отклонениях говорить больше не буду, анализ их совершенно неинтересен и не имеет ровным счетом никакого значения). Повторяю, в романе Пруст все это с пером в руке пробежал – весь безумный бег своего чувства – и справлялся с ним; вы увидите в дальнейшем преодоление Прустом основной вещи в любви. Той, которая вырывает любящего из человеческой связи, а именно мании собственника. Он понял, что мы страшны в любви, если мы хотим владеть. И от этого он освобождался. И освобождался посредством текста. Значит, текст участвует в реальной жизни.
Возвратимся к тому, что я сказал, – к ситуации. Самая типичная ситуация – незнание самого себя и своего действительного положения; значит, основная задача – узнать свое действительное положение. Роман Пруста буквально пестрит и ситуациями такого рода, и словами, относящимися к их описанию. Это была, так сказать, его мания, он так видел мир – под знаком этой интенсивности. Вы знаете, что у нас у всех есть мании. Без этого не увидишь того, что существует вне всякой мании, само по себе. По тексту Пруста ясно виден один фундаментальный закон нашей жизни. Он состоит в следующем: к сожалению, мы почти никогда не можем достаточно взволноваться, чтобы увидеть то, что есть на самом деле. Увидеть облик реальности. Например, одно из самых важных переживаний для Пруста – это сознание того, что мы любовью убиваем тех, кого любим. Поскольку мы эгоистичны, хотим владеть и т д. А с другой стороны, всегда есть ходячие фразы, которые мешают нам интенсивно что-то пережить. Мы говорим себе: все это не так; это не похоже на то, что было в прошлом, сейчас это иначе, это пройдет, образуется; надежда мешает нам интенсивно пережить теперешний момент, перенося нас в следующий, в завтра. Мы откладываем на завтра. Надежда нам мешает – что? – интенсивно воспринять то, что есть. Поэтому, кстати говоря, в мировом искусстве с самого начала есть то, что называли священным ужасом реального. Когда реальное, или то, что есть на самом деле, предстает (к сожалению, в последнее время поэты потеряли искусство наводить на нас священный ужас перед реальностью) через некое потрясение. То есть поэт должен быть достаточно взволнован или достаточно потрясен, чтобы увидеть реальность, – скажем, реальность образа матери в романе Пруста. Ведь в действительности мы своих матерей убиваем. Но именно потому, что мы никогда не можем достаточно взволноваться, мы этого не видим. Но иногда поэты рисуют страшные фигуры, которые разбивают нашу неспособность волноваться, и мы видим реальность. При этом я хочу сказать, что задача поэта не в том, чтобы взволновать нас, а в том, чтобы мы увидели то, что есть на самом деле, – наше действительное положение, или то, что мы действительно делаем.
В качестве настройки, камертона я хотел бы привести еще одну цитату из Пруста. «Какой милый закон природы, согласно которому мы живем всегда в совершеннейшем невежестве относительно того, что любим»[12 - C.G. – p. 282.]. У него часто повторяется такой образ: как бы любящий находится по одну сторону стеклянной перегородки, как в аквариуме, стенкой которого он отгорожен от мира, и у него – один мир, он видит вещи в аквариуме. Он нас не видит. Он видит вещи своими глазами, и они для него бесконечны. Ведь поле нашего глаза бесконечно, и в этом поле мы видим то, что видит глаз. Но представьте стенку аквариума, в которой бесконечно отражается вода самого аквариума, – рыба не видит стенки, она бесконечно видит только воду. Потому что если бы она увидела стенку, то увидела бы и то, что она – в аквариуме. А она не видит, что находится в аквариуме. (Я сейчас перелагаю образы Пруста, связываю их, они появляются в разных местах романа[13 - См.: S.G. – p. 1049; C.G. – p. 282.].) И для нее этот мир – единственный. А реальность врывается в аквариум или в мир рыбы, или в мир влюбленного, подобно тому как в реальном, действительном аквариуме появляется рука человека и вынимает рыбу из воды, которая ей казалась единственной и бесконечной. Куда бы она ни посмотрела – везде была вода, а тут вдруг – рука появилась и вынула ее из аквариума. Так вот, для Пруста существует ситуация этих стеклянных перегородок, которые являются непроходимыми. То есть то, что по эту сторону стекла, невидимо и оттуда тоже, и только какие-то события, называемые реальностью, могут переносить события из одного мира в другой. Например, барон Шарлю, очень яркая фигура, жил подобно рыбе. Я сказал, что вода отражается в стекле бесконечно, тогда как рядом в тени рыбовод, pisciculteur, наблюдает за ее шевелением, – а для Шарлю таким рыбоводом была мадам Вердюрен, хозяйка салона, который он посещал. В этом салоне Шарлю представлял аристократический мир; ему казалось совершенно естественным, что все посетители салона знают, что он представитель одной из самых древнейших аристократических фамилий Франции. А видели его там совершенно иначе, и Пруст говорит, что он был бы так же потрясен, узнав, как он выглядит в глазах других, как мы бываем потрясены, когда по какой-то случайной причине спускаемся по черной лестнице к выходу и видим надписи, оставленные слугами о нас самих[14 - См.: S.G. – p. 1049.]. (Потому что слуг мы видим в своем мире.) «И более того, – замечает Пруст, – народы в той мере, в какой они являются коллекцией индивидов (то есть общества есть коллекции индивидов, и законы индивидов, следовательно, являются также, но только в другом масштабе, и общими законами; одна из важных мыслей Пруста уже такого социологического, или политического, если угодно, характера), дают более обширные примеры – но идентичные тем, которые даются индивидами, – этой глубокой и приводящей в замешательство слепоты»[15 - Ibid.].
Упрямой и приводящей в замешательство слепоты – остановимся на этих словах. Поскольку я посредством Пруста занимался чтением своего опыта и в своей душе, могу признаться, что одним из моих переживаний (из-за которых я, может быть, и стал заниматься философией) было именно это переживание – совершенно непонятной, приводящей меня в растерянность слепоты людей перед тем, что есть. Поразительный феномен, он действительно вызывает замешательство. И этот феномен определяет форму романа: он написан так, чтобы справиться – философ скажет в данном случае (простите меня за термины, вы видите, что я избегаю каких-либо специальных философских терминов, но одним воспользуюсь, чтобы просто напугать вас) – с онтологической ситуацией. Онтологическая ситуация человека есть ситуация упрямой слепоты. И нации стоят нос к носу с чем-то и – этого не видят. И люди, конечно, отдельные; а нации, я сказал, – коллекции индивидов. Скажем, достаточно присмотреться к некоторым эпизодам российской истории, чтобы увидеть, что это ситуация – я сейчас ее иначе назову, – когда мы не извлекаем опыта. Когда с нами что-то происходит, а опыта мы не извлекаем, и это бесконечно повторяется. Кстати, у Пруста очень часто фигурирует образ ада. А мы употребляем слово «ад» как обыденное или из религии заимствованное слово, но забываем его первоначальный символизм. Ад – это слово, которое символизирует нечто, что мы в жизни знаем и что является самым страшным, – вечную смерть. Смерть, которая все время происходит. Представьте себе, что мы бесконечно прожевываем кусок и прожевывание его не кончается. А это – не имеющая конца смерть. Это дурно повторяется. Все заново и заново в нашей жизни или в истории делается одна и та же ошибка, мы совершаем что-то, из-за чего раскаиваемся, но это раскаяние не мешает нам снова совершать то, из-за чего мы раскаиваемся. Почему? Потому что не существует, очевидно, структуры, в которой мы раз и навсегда извлекли бы опыт из того, из-за чего нам пришлось раскаиваться. А если этого не сделали, то есть не поняли, если мы не извлекли опыта, то это будет повторяться. Скажем, в российской истории, я бы сказал, вовсю гулял гений дурных повторений. Попробуйте сами поискать для этого примеры. Вы их очень легко найдете.
Возвращаюсь к ситуации слепоты. У слепоты есть законы. И они же есть и у прозрения, Теперь эту основную ситуацию слепоты, сказав «законы и слепоты, и прозрения», я выражу так. Основное, что занимает Пруста как реальное человеческое переживание, из-за чего, собственно, он и занялся литературой, стал романистом, – это следующий вопрос. Почему мы видим что-то и не видим этого? Почему мы что-то знаем и почему чего-то не знаем? Причем это «что-то» всегда относится к уже существующему. То есть имеется в виду отношение человека к уже существующей истине, с которой он сталкивается, и существуют какие-то законы, в силу которых он слеп и не видит. Условно назову это – ситуацией соприкосновений или несоприкосновений. Встреч. Ссылаюсь на книгу, которую вы или не читали, или не можете прочитать, потому что ее достать невозможно; а сейчас я хочу пояснить эту нечитанную книгу, ссылаясь еще на одну книгу, нечитанную, которую вы тем более не можете прочитать, потому что она, условно скажем, запрещенная, хотя в области культуры для человеческого достоинства не существует запрещенных книг. Все, что создано человеком, нам принадлежит по праву, которого никто у нас не может отнять. Я имею в виду роман Пастернака «Доктор Живаго», который построен как роман прояснения, менее удачно, чем прустовский роман, но это тоже роман распутываний. И там есть такие – магические встречи. Вот где-то, на каком-то полустанке встречаются люди, созданные друг для друга, но не узнающие друг друга. Принадлежащие друг другу как бы судьбой, но в этой встрече прошедшие мимо. Встреча как бы мигнула, как знак на полустанке железнодорожном, поезд потом отгрохотал тысячи километров и десятки лет, и где-то эта встреча перемигивается с их же другой встречей, когда они узнают друг друга, открываются друг другу. Ситуация пересекающихся или непересекающихся путей или какая-то игра в зеркале взглядов, которые сошлись в точку или не сошлись, – разделены. Чтобы пояснить то, о чем я говорю, зачитаю вам цитату. Значит – одна из кардинальных сцен романа Пруста, внутренний душевный стержень поиска, на который нанизаны другие эпизоды. Чтобы облегчить восприятие, я немножко иначе, более обыденно, выражу ситуацию, о которой я говорил. Вот что-то из моей жизни, что является частью моей жизни, что я должен был бы знать, мне как раз знать не дано, а знает тот, кому это совсем не нужно. Скажем, такая ситуация у Пруста – там тоже взгляды перекрещиваются (представьте себе, что мы все смотрим в небо и в перекрестке взглядов, на кончике перекрестка возникают или не возникают какие-то фигуры, лица, события, знания; это все – фигуры, образы, а иногда вместо образов – тени), – два героя: Марсель, то есть герой романа, и маркиз Сен-Лу, друг юных лет Марселя, притягательная фигура для него как воплощение аристократизма. (Ну, аристократия не случайно притягивала и Пруста, и героя романа. Не в силу какого-то снобизма, а в силу того, что аристократия – это символ, так сказать, или реальное, материальное бытие всего завершенного, ставшего. И вот в качестве таких совершенных воплощений того, что свершилось, – люди, которые что-то сделали в истории и доблестью своей установили имя. Потом это имя может стать пустым, конечно. Но это тоже надо разгадать.) Значит – Сен-Лу и Марсель. Марселю дано знать что-то о возлюбленной Сен-Лу, то есть знать что-то, что как раз Сен-Лу нужно, а Марселю безразлично, – он по случайности судьбы встретился с возлюбленной Сен-Лу в доме свиданий, где мог иметь эту женщину, до того как Сен-Лу влюбился в нее и т д., за двадцать франков. Марсель, следовательно, знает, какова она. Ее зовут Рахиль. И кстати, прозвище у нее в романе… по возрасту это не совпадает с вашим возрастом; я сказал «возраст», потому что есть мелодии, которые как волны существуют. Есть годы, когда была популярна какая-то мелодия, и она все время звучит по радио или где-то еще, и эта волна может охватывать собой десятилетие, потом еще десятилетие какой-то новой мелодией. Я помню, в мои времена, к несчастью или к счастью, не было транзисторных приемников, а была черная тарелка репродуктора, и из нее часто раздавалась ария из оперы Галеви «Жидовка» – «Рахиль, ты мне дана небесным провиденьем» (а по-французски – «Rachel quand du Seigneur»)… Прозвище у этой девочки, которая продавала себя в доме свиданий, было «Рахиль, ты мне дана небесным провиденьем». А Марсель был наслышан от своего друга Сен-Лу о какой-то совершенно божественной женщине, которая просто королева по своим интеллектуальным, моральным и физическим качествам. И вот происходит знакомство на улице, и вдруг Марсель видит ту самую Рахиль… «небесное провидение», и она же – возлюбленная Сен-Лу и для него «пуп земли». Царица – по своим моральным, физическим и интеллектуальным достоинствам. И Пруст пишет: «Несомненно (герой смотрит на Рахиль, на ее лицо, и он замечает), это было то же самое худое и узкое лицо, которое мы видели, и Робер (так звали Сен-Лу), и я. Но мы пришли к нему (к этому лицу – наша мысль как бы является каким-то путем, или взгляд наш тоже – путь в этом небе, где скрещиваются взгляды) по противоположным дорогам (у нашей души есть дороги, по которым мы идем), которые никогда не вступят во взаимное общение»[16 - C.G. – p. 159.].
Значит, еще один образ. Во-первых, есть дороги, во-вторых, есть несообщающиеся дороги. И мы никогда не увидим одно и то же лицо. В силу того, что с разных сторон, – то есть не с физически разных сторон, потому что физически, говорит Пруст, это одно и то же худое и узкое лицо. Физически – оно одно, дороги – разные к нему. То есть дороги наших душ часто обусловлены просто случайностью встречи. Случайно Прусту дано было ненужное ему знание, – потому что эта женщина не существует в его жизни, она просто женщина, заменимая любыми другими женщинами. Он перекрестился с нею в доме свиданий, а Сен-Лу увидел впервые Рахиль на сцене театра. Он сидел в партере, и на лицо Рахиль, которую он впервые увидел на сцене, падал отблеск всех высоких мечтаний о благородных чувствах, которые выражает искусство; все, что искусство накладывает – на что? – на роль, и в отблеске, в отсвете этой роли перед ним предстала реальная женщина. Исходная точка для Сен-Лу, в силу случайности, была другая. То есть начальная точка какого-то пути была другая. Взгляд Сен-Лу был устремлен в какую-то точку, на которую были проецированы не реальные качества женщины, а качества искусства. Или качества наших высоких стремлений. Все высокое, возвышенное, прекрасное и т д. (В другом месте романа Пруст опять говорит о перемигивании встреч, разделенных многими километрами физического пути, или физического времени[17 - См.: Ibid. P. 176.].) Итак, Сен-Лу увидел в театре Рахиль, и она предстала перед ним как точка, на которую проецированы высокие состояния, которые навеивает нам искусство, и они отражались в Сен-Лу уже образом прекрасной женщины, и в перерыве, за кулисами он представлен Рахиль, но он увидел совершенно невыразительное, размытое лицо (поскольку – за кулисами, не на сцене), «но решил отложить выяснение вопроса о том, какова действительная Рахиль»[18 - См.: Ibid. P. 175.]. То ли пустое, с размытыми чертами лицо, то ли прекрасное явление, которое он видел во время представления. Я специально этот пассаж привел и употребил вслед за Прустом слова – отложил выяснение вопроса о том, какова Рахиль в действительности, – в слове «отложил» вся философия Пруста заложена. Значит – ситуация слепоты, то есть ситуация того, что есть что-то, что мы должны знать, а мы не знаем; что-то, с чем мы встречаемся и что принадлежит нам, а мы не видим. Напомню вам другой мировой образ, чтобы вы четко настроились на эту ситуацию. Вы знаете, что одно из античных воплощений ситуации незнания или слепоты – трагедия «Царь Эдип». Ведь Эдип спит с женщиной, которая является на самом деле его матерью. И убивает на дороге в случайной драке путника, который на самом деле не просто путник, а его отец. Это части его жизни. Не какие-то безразличные вещи, а части его жизни – отец и мать. Он с ними соприкасается и – не видит. В матери он видит женщину, жену, а в отце – обидевшего его путника. Вот о чем в действительности идет речь на всех страницах прустовского романа. Повторяю, что слепота не зависит от наших способностей. Здесь слово «слепота» не употребляется в зависимости от того, умные мы или глупые. Ведь, скажем, греки не обсуждали проблему: царь Эдип – умный или глупый. Он же не по глупости не видит матери в своей жене. Все эти проблемы – вне проблем нашей сообразительности. Вот что нужно нам понять. К сообразительности, к уму и глупости это не имеет никакого отношения. Но имеет отношение к одному. Я сказал: отложил выяснение вопроса, и вторым словом обозначу это: не имеет отношения к уму или глупости, а имеет отношение к труду. Это второе слово, связанное со словом «отложил». Значит, мир Пруста, или мир слепоты, есть такой мир, в котором, если на какое-то мгновение мы имеем какое-то впечатление – как впечатление Сен-Лу, когда он неожиданно увидел размытое и невыразительное лицо, – вот если мы имеем впечатление, нельзя ничего откладывать. Секунда впечатления есть секунда, обращенная к нам с призывом «работай». Не откладывай. А я говорил уже, что откладываем мы в надежде – завтра будет все иначе. Подождем, образуется. И откладываем также и по лени. Лень чаще всего тоже является страхом увидеть, как есть на самом деле. То есть причина лени не психологическая, хоть лень и надежда – психологические механизмы, но структуры (у них есть и причины) – не психологические.
И маленький эпизод, который случился с Прустом, эпизод ошибки Пруста[19 - См.: S.B. – p. 219; lettre б Georges de Lauris (Claude Mauriac. Proust. 1953, p. 127).]. Им я поясню, что значит «работать». Как что-то уникальное, что можем сделать только мы. Во-первых, знание нельзя получить (Марсель не может передать Сен-Лу своего знания о Рахиль), нельзя сложить знания. Сен-Лу не может обогатиться знанием, которое имеет Марсель, и не может знание Марселя прибавить к своему знанию. Они несообщимы. Это раз. Во-вторых – нельзя упустить. Нужно мгновение использовать, работать именно внутри впечатления мгновения. И вот байка, которую я хотел вам рассказать, байка евангелическая. Пруст дважды – разъясняя основную идею романа, а второй раз в письме своему другу Жоржу де Лорису, – допускает характерную ошибку, цитируя канонический текст, который он должен был бы знать наизусть (наизусть он знал много текстов, у него была прекрасная память), поэтому ошибка здесь не в силу недостатка памяти, а в силу того, что она сама выразила какую-то внутреннюю страсть души, типичная ошибка (или, как говорят психоаналитики, «симптомальная» ошибка, неслучайная, то есть такая, по которой что-то можно понять, взяв ее как ошибку). Пруст цитирует слова из Евангелия от Иоанна, которые сейчас нам важны сами по себе, независимо от ошибки: «Доколе свет с вами, веруйте в свет да будете сынами света». Здесь сказано, что истина обладает таким качеством или таким законом своего появления, что она появляется только в виде молнии (появление истины – как если бы истина светила бы в течение целого дня, как солнце, такого не бывает). Так вот, пока она есть, – ходите, сказано в Евангелии. Я бы перевел – ближе к нашим проблемам и пояснительно по отношению к тексту Евангелия – шевелитесь или пошевеливайтесь, пока мелькнул свет. И не случайно я «корректирую», хотя такие тексты корректировать бессмысленно, А Пруст в обоих случаях непроизвольно, бессознательно цитирует текст с ошибкой. Еще не на долгое время свет с вами, пока есть свет – работайте. Travaillez – он пишет. Непроизвольная ошибка, но типичная, потому что речь идет о времени труда, знак которого – секунда, доля секунды. Иными словами, пространство истины может быть расширено только трудом, а само по себе оно – мгновение. И если упустил его… все – будет хаос и распад, ничего не повторится – и мир уйдет в небытие. В том числе в бесконечное повторение ада. Это будет твое межеумочное, или несовершенное, порочное состояние, оно будет бесконечно повторяться, и ты никогда не извлечешь опыта, в том числе потому, что ты каждый раз пропускал мгновение – не останавливался в труде. Условно назовем это трудом жизни, который обозначен знаком молнии. Кстати говоря, еще Гераклит говорил, что миром правит молния[20 - «Всем этим – вот правит Перун (вечный огонь). Всех и вся, нагрянув внезапно, будет огонь судить и схватит»(Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. С. 239).]. Да, еще последняя фраза. У французского поэта Сен-Жон Перса есть такой оборот, который вам покажется, конечно, парадоксальным; он и является парадоксальным, но выражающим то, о чем мы говорили. В одном своем стихотворении поэт употребил словосочетание: синтаксис молнии[21 - Saint-John Perse – Exil, 1942 (Poйtes francais XIX – XX siecles. M., Progres, 1982. P. 481).]. По определению, молния не может иметь синтаксиса, – нечто, что долю мгновения занимает, не может иметь синтаксиса, который требует пространства. И тем не менее поэт употребил это выражение: синтаксис молнии.
ЛЕКЦИЯ 2
13.03.1984
Напомню вам, что текст, с которым мы имеем дело, – это роман, как я вам говорил, желаний и мотива, роман самостановления человеческого существа, роман воспитания чувств. Вы знаете, что есть такая традиционная форма романа в европейской литературе (да и не только в европейской) – гетевский роман «Вертер» или флоберовский роман, который так и называется: «Воспитание чувств» (или чувственности). Переведя на язык, более близкий к современному тексту, я не буду употреблять термин «роман воспитания чувств», потому что он звучит как-то очень педагогически, а то, чем мы будем заниматься, очень далеко от педагогики и от литературоведения тоже. Я буду называть это романом Пути или романом освобождения, чтобы вызвать в ваших головах и в ваших душах ассоциации с существующими традициями. Скажем, с религиозной традицией, в которой есть термин «спасение», или «освобождение». Слово «Путь» имеет смысл не просто обыденного пути жизни – Путь спасения. Или, если угодно, Путь искупления. И чем больше вы будете прикладывать к этому традиционные термины, существующие в текстах, называемых священными, тем скорее это облегчит вам работу вашего собственного усвоения того, о чем я буду рассказывать. Это, конечно, будут только ассоциации, метафоры, но они пригодятся нам для того, чтобы понять, о чем идет речь. Итак – Путь прихождения к себе. Или – можно, обыгрывая возможности языка, сказать так: Путь такого прохождения жизни, в результате которого ты приходишь к себе и реализуешь себя. Основной движущий мотив и пафос и страсть Пруста состояли в том, что можно резюмировать словами «реализовать себя». Реализовать себя во всем богатстве своих желаний, которые у тебя есть, но ты их не знаешь, природа их тебе непонятна. А реализовать то, природа чего непонятна, невозможно. Если ты не поймешь своих собственных желаний, то ты себя не реализуешь. И поэтому для Пруста, и для любого человека наверно, слова «реализовать себя» совпадают со словами «понять, что ты есть на самом деле и каково твое действительное положение». Я уже упоминал в прошлый раз Фолкнера, который говорил, что самая большая трагедия человека – когда он не знает, кто он и какое занимает место. И вы знаете, что Фолкнеру понадобилась весьма усложненная форма текста, чтобы в различных временных пластах реконструировать действительный смысл тех ощущений и состояний, которые человеком испытываются сейчас, в данную минуту. Но они непонятны по своей природе, непонятны по своему смыслу, по своему значению, если ты их не развернул в реконструированные пласты и корни, уходящие очень далеко от тебя. Поль Валери говорил: «Мои чувства приходят ко мне издалека»[22 - Valйry, Paul. Euvres. «Bibliothйque de la Plйiade». T. II. Paris, 1960. P. 1514.]. Или: мои состояния идут ко мне очень издалека. Вообще человек есть существо далекого. То, что он испытывает сейчас, здесь, и то, что ему кажется самодостаточным, – вот мне кажется, например, что я вижу блокнот, значит, это акт, за который дальше идти не нужно, он сам себя исчерпывает – я понятно выражаюсь? – он самодостаточен. Так мне кажется. А в действительности даже то, что я вижу сейчас блокнот, идет, как и мое теперешнее состояние, в эту минуту издалека. Вспомните – я резюмирую – тот пример, который я вам приводил: Сен-Лу смотрит на Рахиль так же, как я смотрю на этот блокнот. Но то, как он видит Рахиль, идет к нему не из этой ситуации, не из того, что он видит сейчас, а идет к нему издалека. В том числе из мира мечтаний, из мира высоких грез, которые бросают свой отблеск на само по себе пустое лицо Рахиль, и он видит в этом отблеске, но ему-то кажется, что он видит нечто самодостаточное; он видит реальную Рахиль, которая как будто наделена теми качествами, которые он видит, и он видит прекрасную женщину. Значит, Сен-Лу идет – к тому, чтобы увидеть Рахиль, – из своего далека, а Марсель, смотрящий на Рахиль, идет из своего – другого далека. И в этом «далеко» он видит двадцатифранковую проститутку – на месте того лица, где Сен-Лу видит божественную женщину – «пуп земли».
Так вот, я возвращаюсь – оказывается, не просто видеть то, что мы видим. И поэтому, когда я говорю: прустовская мания – реализовать себя, то она у Пруста почти тождественна другой фразе, которая тоже очень часто повторяется на всем протяжении романа, и вы не сразу уловите, почему эти фразы могут быть тождественными. Я сейчас их произнесу. Значит, первая: реализовать себя. А вторая фраза следующая; она звучит примерно так (Пруст ее повторяет в разных сочетаниях, но смысл примерно один и тот же всегда): обязанность писателя – возьмем в этой формуле – реализовать впечатление[23 - T.R. – p. 890, p. 1514.]. Ну какая может быть связь между «реализацией себя», которой мы придаем общий смысл (скажем, стать человеком, стать взрослым и т д.), и «реализацией впечатления»? А это совпадает в том, что я буду называть реальностью. Пруст говорил, что единственная настоящая философия – это та, которая состоит «в восстановлении или в узнавании того, что есть на самом деле»[24 - S.B. – p. 309.]. То есть философия не есть какое-то учение или ученое книжное занятие, а есть часть нашей жизни, потому что если философией называется наша способность установить, что есть на самом деле, в том числе в наших чувствах, то, следовательно, философия есть элемент того, какими будут наши чувства или состояния после того, как мы установили, что они значат на самом деле. Реализовали себя – реализовали впечатление. Скажем, с точки зрения Пруста и с нашей тоже, – я буду все время это совмещать, потому что моя задача показать, что то, что говорит Пруст, это то, что могли бы сказать и мы, если бы подумали. Просто он подумал немножко раньше и целую книгу написал, а мы думаем немножко позже. Но мы можем воспользоваться этим духовным инструментом, чтобы заглянуть посредством этого оптического инструмента в свою собственную душу и в свой собственный опыт. Значит, Сен-Лу, имея впечатление о Рахиль, с точки зрения Пруста, не реализовал впечатления. Не раскрыл его, в том числе не прошел в то далекое, из которого Рахиль видна так, как она видна, то есть как самая прекрасная женщина на свете. Не реализовав впечатления, он не реализовал и себя в своих чувствах. Он оказался – чем? Марионеткой совершенно случайной ситуации. Рабом своих собственных состояний. А всякая философия, как и всякая мысль, есть дело свободного человека. В том числе свободного от привидений, которые вырастают из твоей собственной души. Поэтому философы считают, что человек, человеческое существо свободно в абсолютном смысле слова. Почему? Потому что если оно зависимо или является рабом, то только – рабом своих собственных привидений, которые выросли из его собственной души. Это не мир делает его рабом – по отношению к миру человек свободен абсолютно, – корни его рабства уходят в него самого. Корни рабства Сен-Лу (в данном случае рабство – это то же самое, что не реализовать себя) уходят в его неспособность реализовать свое собственное впечатление, разобраться в том, что же он чувствует на самом деле. Можно ли приписать испытанное им чувство качествам Рахиль – что она такова в абсолютном смысле, что своими достоинствами не может не вызывать любви к ней, или не такова. Вся философия Пруста состоит в том, чтобы доказать, что такого быть не может. Нет таких качеств людей, из которых вытекали бы наши к ним (к этим людям) отношения. Ведь любая женщина заменима как минимум тысячами других как объект любви. И, чтобы поставить вас на путь смысла, я напомню одну фразу Аристотеля. В свое время он очень хорошо сказал, что причина, почему мы любим, гораздо важнее объекта любви. Он имел в виду, что, любя человека, мы любим в действительности нечто другое, не совпадающее с качествами этого человека. И, следовательно, наоборот: из качеств того, кого мы любим, невыводимо наше состояние. Оно не ими рождено. Если бы это было иначе, то мир был бы совершенно непонятен. Ведь нет никакой логики в том (если призадуматься), что если какой-то человек A обладает свойствами B, то у меня – человека C – должно быть состояние любви к нему. Просто потому, что я могу любить человека A, а вы его не любите, хотя он обладает теми же качествами, и т д.
Значит, я повторяю снова, поворачивая, разъясняя, слово «реализация». Реализация себя, или – прихождение к себе. Это можно сформулировать и в виде другого, тоже очень интересного, кстати, вопроса, который, возможно, вам покажется банальным. Вопрос звучит так: вся тема романа Пруста состоит в том, как мы вообще вырастаем, и вырастаем ли вообще. То есть становимся ли мы вообще взрослыми, или мужчинами. Здесь, кажется, преимущественно женское общество, но я уже в прошлый раз употреблял термин «мужчина» в смысле человеческой доблести и позволю себе применять дальше. Для Пруста, как я уже сказал, главная проблема – вырасти, стать мужчиной. И эта проблема сводится к тому, обижаемся мы на мир или не обижаемся. Ведь что значит не быть взрослым, не быть мужчиной? Считать, что мир «центрирован» на нас, создан для того, чтобы нас или обижать, или гладить по головке. Вы знаете прекрасно, что детская психология и состоит в этом эгоцентризме, когда ребенок воображает себя центром мира в том смысле, что все, что в мире происходит, происходит для того, чтобы или доставить ему удовольствие, или обидеть его. И все события имеют для него, так сказать, знаковую природу, все они что-то означают по отношению к нему. Поэтому мы и говорим (хотя это тавтология): ребенок инфантилен. Ребенок есть ребенок. Ну а когда – взрослый? Оглянитесь вокруг себя и вы увидите общество, состояние – я бы сказал… дебильных переростков, которые так и остались в детском возрасте, которые воспринимают весь окружающий мир как то, в чем что-то происходит по отношению к ним. Не само по себе. Даже цветок в мире, с точки зрения ребенка, не растет сам по себе – как автномное явление жизни. Или – вокруг темно и копошатся демоны, которые окружают их светлый остров, – конспирации, заговоры, намерения по отношению к ним. Первый же философский акт вырастания состоит в следующем – кстати, я сейчас вспомнил фразу, которую в свое время сказал Людвиг Витгенштейн: мир не имеет по отношению к нам никаких намерений. Это – взрослая точка зрения. А ведь взрослые могут вести себя по-детски – вспомните, что один персидский царь, которому было угодно завоевать Грецию, отправил флотилию в Грецию, а в это время разбушевалось море и потопило всю его флотилию. И он приказал высечь море. Смешной акт. А подумайте о себе, сколько раз мы высекаем море, или высекаем мир, потому что нам кажется, что у мира были по отношению к нам намерения – как у моря по отношению к Ксерксу.
Вот эту тему «вырастания – невырастания» мы потом увидим в существенных деталях – скажем, маленькая сценка из прустовского текста, которая кажется совершенно, ну, как французы называют – anodin, пресной, без значения. И мы не видим, а видеть надо, хотя бы потому, что Пруст для этого и написал этот текст. Сцена в отеле: мальчик, привыкший жить все время дома, под крылышком у матери, оказывается в отеле, и он не может заснуть, потому что все вещи – шкаф, кровать, окно – на него наступают, они его давят своим присутствием, они ему кажутся живыми и злонамеренными по отношению к нему. И за этим стоит целая философия, а я помечу два пункта. Первое, что я хочу сказать: мы имеем дело с таким человеком, который проделал труд мысли, а изложенный текст – это история мысли и, кстати, славная, хорошая французская традиция. В свое время еще один великий философ, по имени Декарт, написал ученое «Рассуждение о методе», оно так и называется, но оно писалось, и Декарт сам об этом говорил, как «история моей мысли»[25 - Descartes. Euvres et Lettres. «Bibliothйque de la Plйiade». Paris, 1953. Discours de la methode. P. 126 – 127.]. Или история воспитания чувств, если угодно. Или роман «Воспитание чувств» – роман реализации себя, прохождения пути, который записан как живой опыт. В данном случае – живой опыт мысли. Так вот – реализовать впечатление. Для Пруста это означает, что впечатление имеет смысл описывать, если ты берешь его как знак какого-то скрытого и глубокого закона, стоящего за этим впечатлением. В том числе и то, как мы реализуем себя, с точки зрения Пруста. Вот я испытываю какое-то неудобство в комнате. И если я ребенок, то, конечно, считаю, – потому что шкаф плохой. А Пруст, который хочет вырасти, находит правильный путь для вырастания – какой? Взять это состояние не как неудобство, раздраженность, что легко приписать качествам объекта. Так же как любовь – я могу плохому шкафу приписать то, что я не могу спать в комнате, где он стоит, – так же как качествам женщины, которую я люблю, могу приписать то, что я ее люблю. Это одинаковые состояния. И, более того, фактически, сказав то, что сказал, я сформулировал задачу литературную. Прусту было бы скучно ощущения, которые мы испытываем, состояния, в которых мы находимся, описывать как предмет литературного труда, если это описание не имеет задачи, совпадающей с жизнестроительной задачей. Если не ставится задача установить скрытый смысл того, что я испытываю. Или закон, связанный у Пруста с пониманием, с разгадкой им природы времени и природы того, что я назвал трудом жизни. И второе – связанное с темой закона: если есть впечатление (то, которое мы должны реализовать), то реализация впечатления означает установление скрытого закона (а он всегда скрытый). Точно так же, как то, что нас притягивает в человеке и называется любовью, скрывает какой-то закон. То, что на нас давит как шкаф, скрывает какой-то закон, и тогда это описание имеет смысл. То есть оно интересно и как литературное описание, и как элемент прохождения пути. Спасение, или освобождение. Ведь вы знаете, что если человек так зависит от шкафа, то он, конечно, несвободен. А быть свободным неплохо…
Значит, у Пруста устойчиво повторяется, если говорить только о терминах, слово «закон» (вы это в десятках вариаций услышите), он даже в суждениях о других поэтах и писателях интересовался только этой темой. Закон – насколько другой открыл какие-либо законы психологической жизни. Скажем, о Нервале он говорил (Жерар де Нерваль – романтический поэт XIX века, Пруст очень любил этого поэта наряду с Бодлером); «…я могу, по меньшей мере, назвать шесть законов, которые Нерваль установил»[26 - S.B. – p. 239.]. Под «законами» Пруст, конечно, имел в виду скрытый смысл или скрытый механизм того, что на поверхности я испытываю в виде любви, раздражения, восторга, радости и т д. В том числе радость имеет смысл только тогда – почему я радуюсь? – если я могу какой-то скрытый смысл за этим увидеть, установить. И второе, что так же устойчиво повторяется, оно покажется вам странным, это – тема или слово «телескоп». (Кстати, то, что я хочу сказать, будет и для вас хорошим предупреждением для чтения прустовского текста. Я все время предполагаю совершившимся то, гарантий для совершения чего почти нет, потому что текст, хотя он и есть на две трети в русском переводе, вам недоступен, поскольку в книжном магазине вы его купить не можете.) Итак, следующее предупреждение. Со дня выхода романа по сегодняшний день продолжается традиция, в которой Пруст рассматривается как мастер деталей. Вот если он испытывает какое-нибудь чувство, значит, он его детальнейшим образом описывает, настолько, что иногда описание может казаться скучным. Какое-то особое устройство взгляда, которое до малейших деталей видит то, что мы видим как бы крупно. И бедняга Пруст всю свою жизнь сражался с этим призраком, который возник перед ним и который тоже назывался Прустом. Живой, реальный Пруст сражался с призраком Пруста, который есть детальный писатель, или мастер деталей, тонкостей, нюансов и пр. Он говорил: да нет, никакими деталями я не занимаюсь. Никакие детали меня не интересуют. Меня интересует что-либо только в той мере, в какой за этим явлением стоит какой-то общий закон[27 - См.: Ibid. P. 640.]. Более того, Пруст как раз в этом пункте произвел некоторую такую революцию, или поставил ту проблему, которая до сих пор является проблемой в литературной стилистике XX века. Я назвал бы ее проблемой – бессмысленной бесконечности описания. Дело в том, что описание само по себе не содержит критериев, которые диктовали бы нам, где остановиться в описании. Предмет можно описывать бесконечно. Это феномен бесконечности описания. И, более того, все предметы описываются произвольно. Всех литераторов XX века стала смущать фраза, которая в XIX и других веках казалась безобидной и само собой разумеющейся: «Маркиза вышла из дома в пять часов пополудни». Или в пять часов вечера. – Почему в пять часов? А почему не в шесть часов? Или, скажем, герой X вышел из дома и пошел по улице направо (это пример описания). Но почему, собственно, направо? С таким же успехом он мог пойти и налево. Кстати, если говорить о русской литературе, у Набокова появляется эта тема. Многие его тексты построены как такой литературный текст, внутри которого обыгрывается свойство построения литературного текста вообще. Он иронизирует над тем, как пишут; это как бы текст в квадрате, во второй степени. Текст о тексте. Ему было действительно смешно: почему, собственно говоря, я должен описывать, какой смысл в описании, что трамвай прошел слева направо, когда я вполне могу написать, поскольку это текст, а не реальное событие, что он пошел справа налево, или: герой пошел не налево, а направо. Какой смысл в этих описаниях? И более того, какой в них самих по себе критерий, что я должен поставить точку, что я исчерпал описание? Если я привел, скажем, десятую деталь, то всегда можно привести одиннадцатую, добавить к десятой, а к одиннадцатой добавить двенадцатую и т д. Все это не имеет смысла. Кстати, довольно интересная проблема, но слишком литературоведческая, а меня интересуют более близкие к экзистенции проблемы, или экзистенциальные проблемы (снова простите меня за редкий случай употребления мною специального философского термина). Вернусь к тому, что я хотел сказать. И Пруст в этих случаях говорит: «Да не детали я описываю, мой инструмент описания – не микроскоп, а телескоп»[28 - T.R. – p. 1041.]. А что такое телескоп? Телескоп – это увидеть то, что есть на самом деле большое, крупное, но кажется маленьким, мелким. Например, в телескоп мы видим Солнце, оно ведь – не маленький кружочек величиной с монету на нашем небе, а громадная звезда, светило. А мы видим его маленьким. Таким же маленьким нам кажется… вот я ворочаюсь в постели и не могу заснуть в отеле, где вещи злобно на меня наступают, у них почти что человеческие очертания, враждебные, – это ведь мелочь, то есть как состояние – мелкое, но описывать его можно, только если ты смотришь на него в телескоп: видишь большое там, где другие видят малое. Мелочь, ерунду. И кстати, это совпадает вообще с тем, какова природа философского мышления. Философское мышление как таковое состоит в том, чтобы увидеть то, на что смотрят другие, но увидеть за этим нечто крупное, стоящее сзади. Поэтому, скажем, философии, так же как и такого рода литературному таланту, как у Пруста, философии нельзя учить. Вот, представьте себе, была бы школа, называемая школой шутовства… Ну чем шут отличается от человека? – в цирке и мы, и шут видим один и тот же предмет. Но он видит его, как видит шут. Он то же самое видит, что и мы, но видит за этим что-то другое. Но научить этому нельзя, только можно понять и усвоить. Значит – телескоп. Инструмент, который позволяет мне увидеть любые состояния как знак каких-то других состояний. В том числе то, как видит Сен-Лу Рахиль, – мелкое событие в жизни. Но за этим можно увидеть закон, как устроены мы сами: как устроена наша психологическая жизнь, как работает наш механизм сознания. Вот что называется телескопом. Это, конечно, особый дар, особое качество взгляда Пруста. Так же, как устройство шута, который в том же предмете, на который и мы смотрим, видит то, что он видит, и – вдруг мы смеемся, и неожиданно смеемся, потому что неожиданно увидеть крупное (как вы знаете, прежде всего неожиданность есть механизм смеха).
Мы установили в прошлый раз, что всякое явление, любое нечто должно иметь какой-то смысл, иначе оно «звук пустой» – не воспринимается. Теперь я выражусь более сложно, правда, но и более эффективно, поэтому это будет более понятно. Представьте себе, что мы имеем дело с двумя пространствами: пространство 1 и пространство 2. Пространство 1 – это пространство, в котором возможны человеческие события. Пространство 2 – это пространство, в котором человеческие события невозможны и не происходят. Второе пространство назовем безразличным. Скажем, Сен-Лу в театре (место, где он впервые видит Рахиль) смотрит на Рахиль. Рахиль – это физическое явление, то есть человеческое существо, обладающее определенными физическими качествами, которые можно видеть. Но взгляд Сен-Лу упал не на физический предмет, а на лицо, заполненное отражением высоких мечтаний. Мечтаний о прекрасном, с которым мы связываем театр и т д. Значит, это есть пространство 1, в котором возможно событие, в данном случае – волнение Сен-Лу: Рахиль для него не безразлична. Но «не безразлична», «не пустой звук» – потому что она увидена им в пространстве театра. И случилось в этом пространстве событие эмоциональной жизни Сен-Лу. Обратите внимание, что я не случайно употребляю термин «событие». Все то, что мы испытываем, есть события; они имеют свои ниточки, по которым они случаются или не случаются. Мы ведь даже волнуемся по законам событий. Мы ведь не всегда волнуемся. А волнение для человека довольно большая ценность, кстати говоря. И часто в ситуациях, когда мы по формальным критериям или предметным критериям должны были бы волноваться, мы холодны как камень. Равнодушны. За этим стоит какой-то закон. Это нельзя просто списать, тем более что от этого очень многое в нашей жизни зависит. Я опять предлагаю вам прустовский телескоп. За незначительным – что есть более незначительное, чем то, как мы волнуемся, когда волнуемся, почему и т д., а вот за фактом, что я не взволнован, можно увидеть действие законов, довольно интересных и значащих в нашей жизни. Я возвращаюсь к тому, что сказал: Сен-Лу – в пространстве событий, а Пруст – не в пространстве событий. То есть в данном случае Марсель – герой романа. (Не писатель, а герой романа, который совпадает частично с писателем, сейчас это не важно, назовем его Марселем; он фактически даже имени не имеет в романе.) Для Пруста – он видит Рахиль – не происходит никакого события. Ну, а если происходит событие, то совсем другого рода, связанное с тем, что он начинает думать о том, почему Сен-Лу волнуется и событийно видит Рахиль. Но для него самого Рахиль безразлична в пространстве, в том, которое мы называли безразличным. То есть Рахиль имеет там смысл только, как выражается Пруст, в смысле «общих значений»[29 - C.G. – p. 159.]. У всех у нас есть в этом безразличном пространстве – оно ведь не абсолютно безразлично, оно безразлично с точки зрения нашей проблемы – общие значения. Есть выражение лица (общечеловеческое в жизни), выражение глаз, красота или безобразие. Нечто, так сказать, имеющее смысл, но в смысле общих актов. Красота может быть и у A, и у B, и у C. Такое выражение лица может быть у одного человека, у третьего, четвертого, миллионного – все, что имеет значение в смысле общих актов, которые заданы словами. То есть описанием. Забегая вперед, я маленькую ниточку вам дам, которую сейчас не могу развернуть. Все эти явления безразличны, потому что они неиндивидуализированны. Они имеют значение в смысле общих законов или общих актов. За ними нет индивидов. А для Сен-Лу Рахиль уникальна. Ее лицо – носитель не каких-то общих событий в смысле значащих, общих актов, а каких-то совершенно уникальных, которые, кстати, мы называем словом «шарм». Шарм есть нечто, что присуще только индивиду и что невыразимо. То, чего нельзя воссоздать путем сочетания общих слов или общих значений. Как бы вы ни описывали, а описание всегда будет в общих словах, вы никогда не передадите шарма. Нужно почувствовать шарм. Значит, мы установили, что нечто не имеет значения само по себе – в смысле: «общее значение» не существует в пространстве событий. Это так же, как – и даже Пруст эту метафору приводит[30 - См.: Ibid. P. 175.] – «пустое лицо» в кубистской живописи. Ведь не случайно в кубистской живописи вдруг появляется устойчивый образ, который проходит через очень многие произведения в XX веке: овал человеческого лица, не заполненный никакими чертами. Допустим, что для Марселя Рахиль – кубистический овал, не заполненный никакими чертами. Это уже, конечно, абстракция. Если на лицо женщины смотрит Марсель, который видит только общие значения, то он не видит лица, Для кубизма лицо не есть общее значение. Я, кажется, сложно выразился. Повторяю этот ход: живописец хочет нам сказать, что если мы видим лицо в общем смысле слова (ведь все носы, хотя они различаются, есть носы, как все глаза – глаза), то мы ничего не видим. Мы не видим лица, если это видим. То есть живопись – знак чего-то, чего мы не видим…
Итак, я сказал: пространство событий и пространство безразличное. В одном находится Сен-Лу, а в другом – Марсель. На точке соприкосновения этих пространств – лицо Рахиль. В пространстве Сен-Лу оно заполнено, но (мы как раз об этом в прошлый раз говорили) нас, и Сен-Лу тоже, то есть того, кто находится в небезразличном пространстве, должно интересовать, что есть на самом деле. Потому что судьба Сен-Лу невидимыми путями и невидимыми ниточками будет сцепляться в колесиках механизма реальности, а не в колесиках механизма его собственных представлений. Ведь из реальности придут последствия того, что Рахиль именно такова. Не такая, какой ее видит Сен-Лу. Я уже говорил вам: установить, что есть на самом деле. И все дело в том, что получить смысл, установить, что есть на самом деле, нам удается, если мы построим для этого текст. А литература как частный случай текста есть часть нашей жизни; для того чтобы узнать, что есть на самом деле, мы должны что-то сделать. В данном случае: построить текст, который породит истину. Что значит – породить истину? Придать смысл разрозненным частям информации или событий. Скажем, Сен-Лу не может узнать истину о Рахиль, потому что он не может посмотреть на нее глазами Марселя. Или, выразим это иначе: он не может этого сделать, то есть не может узнать, потому что он находится в этой точке пространства, а не в другой. И беда в том – почему речь и идет о тексте, который принесет нам истину, – что это пространство разделено. Нельзя одновременно держать вместе точку, из которой смотрит Марсель, и точку, из которой смотрю я, если я – Сен-Лу. Они разделены. Здесь вот – собрание предметных видений, того, что видят все, потому что Сен-Лу видит ведь те же самые черты (в физическом смысле слова), что и Марсель, просто для него смысл один, а для Марселя – другой. Дело в том, что это разделено и не может соединиться. А текст есть то, что соединяет, – в действительности написание литературного текста не есть занятие, отдельное от жизни; на примере Набокова я говорил вам: само построение какой-то условной, воображаемой конструкции впервые придает логику тому, что ты разделенно видел в своей жизни, и по этой логике ты узнаешь, что в действительности твой друг – любовник твоей жены. Я брал это как частный пример того, чему послужило написание текста. Или конструкция – можно текст не написать, можно держать его в голове. Но я имел в виду под текстом, в данном случае под литературным текстом, какое-то явление, событие, которое строится для того, чтобы что-то впервые получило осмысленный вид. Чтобы все стало на свое место. Скажем, я видел какое-то выражение лица моей жены, я видел, вернее, слышал какую-то интонацию в голосе моего друга или встретил их на улице вместе – все это я мог приписать самым различным причинам, никакого отношения к действительности не имеющим. Так же как Эдип свое действие, состоящее в убийстве отца, приписывал дурному характеру случайного путника. Какие-то слова, оскорбительные (или показавшиеся оскорбительными), сказанные им, – они же есть какие-то события. Есть еще какие-то другие события, они разрозненны, имеют какую-то только внутреннюю связь, которую я как раз не знаю. Поэтому Пруст очень часто говорит о том, что некоторые воображают себе такую психологию (или некоторую литературу; эти вещи взаимозаменимы в данном случае), которая была бы своего рода «наукой» о логике эмоций[31 - Cм.: Centenaire de Marsel Proust. Europe, reveue mensuelle. 1970. P. 64.]. Или эмоциональной логикой, логикой сентиментов. В данном случае «логика» – не в смысле силлогизмов и правил вывода, что обычно называется логикой, а в смысле того, что все отдельные части имеют смысл и не рассыпаются. Вот эти части можно назвать собранием. Я не случайно называю «собранием», ибо это русский эквивалент греческого слова «логос». Набор всего относящегося к делу. Все относящееся к делу обладает логосом, который мы можем, как говорили древние греки (Гераклит в данном случае), слышать или не слышать[32 - «Эту – вот Речь (Логос) сущую вечно люди не понимают…»(Фрагменты ранних греческих философов. С. 189).]. Вот мы слышим 2 и 2, но мы не выводим 4; я говорил вам, что основная ситуация человека – когда он имеет дело с уже существующей истиной, в том числе о нем самом, но не видит ее. То есть он видит 2 и 2, а вот за пределами человеческих сил находится операция 2 х 2 = 4. Не совершается эта операция. Для совершения этой операции нужен какой-то орган.
Так вот, когда я говорю «текст», я имею в виду фактически не литературный текст в традиционном смысле слова, а орган, то есть что-то, посредством чего мы видим. Естественно, орган отличается тем, что он естественным образом, без нашего усилия, видит то, что он видит. Орган естественным образом производит то, органом чего он является. Скажем, глаза производят зрение – и вот представьте себе такие мысли или состояния, которые производились бы текстами как органами. Нечто – посредством чего мы видим. Скажем, яблоки Сезанна – ведь ясно, если призадуматься, что живопись Сезанна вовсе не изображает яблоки. Если мы видим то, что нарисовано у Сезанна, это означает, что мы видим этими яблоками. То есть они становятся нашим органом, посредством которого мы видим то, чего не видим нашими глазами. Там не яблоки изображены, там построена конструкция, посредством которой мы видим что-то, чего мы не видим вовсе, глядя на яблоки, висящие на деревьях. Значит, когда я говорю «текст», я не имею в виду изображение. Я имею в виду не изобразительную сторону текста, а какую-то другую. И сейчас давайте нащупывать эту другую сторону. Мы говорим: текст есть нечто, что мы читаем. А я предлагаю вам другое. Текст есть нечто, посредством чего мы читаем что-то другое. Текст есть нечто, посредством чего мы читаем событие. «Яблоки» Сезанна есть яблоки, посредством которых мы видим что-то, чего бы мы не видели без этой конструкции. В данном случае конструкция романа может позволить увидеть мне (как в случае Набокова), что все явления имеют логику, если я предположу, что мой друг – любовник моей жены. Предположил – и все стало на свое место. Все – я услышал логос. То есть то, что говорит собрание. «Два» и «два» говорят «четыре». А я ведь говорил, что можно и не услышать этого. По той простой причине, что заставляет меня сказать «четыре». Назовем это: внутренний смысл, внутренняя логика, – так что все стало на место. Вот нечто, что заставляет меня сказать: так есть на самом деле, – это логос, услышанный мною. Но в материальных частях логоса нет ничего, что само по себе говорило бы нам – «два» и «два», каждое в отдельности, – что сумма этого «четыре».
И вот здесь мы пришли к очень сложному пункту, который резюмирует то, что мы в прошлый раз говорили. Дело в том, что логос означает: должно быть так, мир так устроен, хотя этого мы не видим. Я не вижу, что мой друг – любовник моей жены. Все, что я вижу, имеет или может иметь другие объяснения. Подчеркиваю: все, что я вижу, может иметь другие объяснения. И чаще всего мы склоняемся именно к этим другим объяснениям. Они видны. Я встретил спешащую, взволнованную жену на улице, и я с готовностью, чтобы не дай Бог не подумать, принимаю объяснение – она спешит к портнихе, хотя явно степень волнения на лице никак не объясняется банальным визитом к портнихе, но я готов это принять. Что я хочу этим сказать? Во-первых, должно быть так, мир так устроен, такое строение ситуации, логос ее, то есть все стало на место, если принял; во-вторых, того, что я принял, я не вижу. Это ведь не предмет, это – логос. Это не есть «два» и «два», а нечто, что заставляет меня сказать «четыре». И, в-третьих, самое главное, может быть, для нас – это страшно. Все в нас бунтует и сопротивляется, восстает против того, чтобы сказать: это так. Очень большое мужество нужно иметь, тем более большое, что оно беспредметно, недоказуемо, хотя только так может быть по смыслу, но доказать ведь этого нельзя. И поверить в это невозможно. В каком смысле? В психологическом смысле, человек сопротивляется. Вы знаете, существует такой психологический закон, что самый эффективный способ врать – это говорить правду, но в такой ситуации, в которой почти что исключено (как говорят грузины, нет варианта), чтобы в нее поверили. Приведу пример, иллюстрирующий пример того, что я хочу сказать, и того, каково устройство взгляда Пруста и вообще философского взгляда. То есть за мелочью увидеть – телескопом – закон. Или увидеть крупное (философ обращает внимание, а мы не обращаем внимания; иногда, обратив внимание, мы спасаемся, а не обратив внимания, погибаем). Скажем, женщина находится в комнате гостиницы с любовником и по какому-то делу звонит мужу. Муж ее спрашивает: «Где ты?». Она отвечает: «С любовником». Какова его реакция? «Ну что ты вечно какие-то глупости говоришь…» – он не поверит. А она сказала правду. Вот весь тот комплекс, в силу которого муж не поверил, назовем психологией. То есть мы не видим именно потому, что мы психологичны. А если бы мы не были психологичны, то есть – на философском языке – были бы онтологичны… как у Пруста часто бывало: когда есть феномен так называемой непроизвольной правды, он имеет мужество поверить в то, что есть в мире только акт этого же мужества. Другого содержания нет. Если бы муж поверил… – это был бы чистейший акт мужества; акт, противоречащий человеческой психологии. Следовательно, то, что я условно называю текстом, имеет антипсихологический заряд. Повторяю – то, что я называю текстом, то есть то, что мы вынуждены строить, чтобы оно породило бы смысл. Потому что смысл не порождается психологией – психология как раз противоречит логосу, не допускает, чтобы в нас действовало нечто, что заставляет нас сказать «дважды два – четыре», хотя, когда человек тебе говорит: «Я в комнате с любовником», – это и есть «дважды два – четыре». У Пруста есть такое словосочетание: единственная реальность. (А мы ведь только о реальности и говорим, да? Мы сказали, что путь к реальности лежит через текст.) Он говорит так: единственная реальность – та, которую мы думаем[33 - S.G. – p. 1126.]. Вспомните, мы очень часто думаем правду, только выбрасываем ее из головы, потому что боимся ее. И вот Пруст как бы говорит нам, что как раз то, что мы думаем, и есть правда. Здесь слово «думаем» имеет значение, потому что думаем, а ведь не видим. Потому что то, что мы думаем, есть то, что придает смысл; то, в силу чего десять вещей, двадцать вещей, тысячи вещей могут держаться вместе. Связаны, становятся на место. Но само «думаемое» в виде отдельного предмета не существует. Пруст пишет: тысячи ревностей и каждая из них правда[34 - Fug. – p. 489.]. Ревность – не одна; она расположена в том разделенном пространстве (о котором я говорил), где есть исключения точек, – нельзя быть одновременно в двух точках, нельзя одновременно смотреть глазами Сен-Лу и глазами Марселя, если ты оказался в точке, с которой ты смотришь глазами Сен-Лу. Мы ведь не одну любовь к женщине испытываем, а тысячи разновидностей любви, расположенных в тысячах событий, в разных пространствах и временах. И там же существуют тысячи ревностей. Так вот, Пруст говорит: мы ведь не замечаем, что все эти тысячи ревностей думали правду. То есть мы предполагали «плохое», условно так выразимся. Но реальность не может быть плохой, она есть то, что есть, – если мы не инфантильны, конечно. Тогда реальность – или плохая, или хорошая.
Значит, реальность – это то, что мы думали и что и есть правда. Единственная реальность – та, которая подумалась, которую подумали. И которую, как выражается Пруст, смягчает, например, присутствие[35 - См.: Ibid. P. 490.]. Присутствие любимой женщины, о которой ты мыслью знаешь правду, но ее несомненное, реальное, с ее очарованием, присутствие смягчает правду и оттесняет ее куда-то очень далеко. Присутствие есть один из механизмов эмоционального и духовного рабства; оно помогает нам не видеть правды. Так же как наш страх, скажем, помогает не увидеть реальность прямо перед собой. Следовательно, что я хочу сказать? То, что мы мыслью узнаем – а мысль ведь должна родиться, я показал, что она рождается не писхологией, а какой-то конструкцией; но то, что рождается, – этого нет. Есть все остальное, объяснимое иначе, а того, что мы думаем, – этого нет. Короче говоря, мы оказываемся в ситуации, что – я выражу ее так – мы должны видеть и верить больше тому, чего нет, чем тому, что есть и что мы видим. Повторяю, вся проблема в том, что то, чего нет, как раз это мы должны видеть и верить этому больше, чем тому, что есть. Тем самым, этой закрученной фразой, я объяснил, казалось бы, кристально ясную, но обманчивую в своей ясности, фразу из Евангелия: «Веруйте в Свет, да будете сынами Света». Здесь две опоры. Первая: «Веруйте в Свет». Именно вера требуется, потому что Его-то нет. Он есть только на одно промелькнувшее мгновение. Его нет. Значит, нас обязывают верить в то, чего нет. И, как я сказал, верить в это больше, чем в то, что есть. «И будете сынами Света» – второй аккорд. То есть будете сынами того, чего не видите, но во что верите. А я уже говорил, что верите силой построения конструкции текста. Не психологии. Значит, вы рождаетесь – из чего? в этих своих мыслях? Из синтаксиса (помните, «синтаксис молнии»). Или из формы. Логос есть нечто формальное. Флобер говорил, что идея (какое-то содержательное состояние в вашей голове) есть нечто существующее в силу формы[36 - Cм.: Poulet Georges – Etudes sur le temps humain. 1952. Flaubert. P. 360 – 363.]. Вот поди и пойми. Можно это назвать формализмом. Но в действительности не об этом речь идет, и никакого здесь нет формализма. Конечно – только силой формы, а ведь то, что я думаю, и то, чего нет, может быть только формальным. Когда я сказал: придать смысл, придать логос – логика ведь есть нечто формальное по содержанию, – то это значит, что все элементы этого содержания, как выражаются англичане, могут быть explained away. Могут быть отобъяснены. То есть в нашей жизни действует психологический закон: когда мы процедуру объяснения применяем как нечто, посредством чего мы избавляемся от того, что надо было бы объяснить. Или как нечто, посредством чего мы умудряемся не увидеть того, что должны были бы увидеть. (К портнихе шла она… – пример отобъяснения; более сложные есть отобъяснения.) Приведу социальный пример; он показывает, как функционирует наше мышление, когда мы психологичны. Это происходило в 50-м году, я тогда окончил школу в Тбилиси, уехал в Москву, в университет, и попал в неожиданную для меня ситуацию очень интенсивной комсомольской жизни, что было каким-то непонятным мистическим событием для тбилисского школьника; я вообще не понимал, что происходит, как можно сидеть на этих собраниях, коллективно ходить в кино и т д. Полная мистерия. И, естественно, я часто оказывался предметом проработок. И вот я помню, отвратительная была зима в Москве, мокрая и слякотная; мы идем по улице Горького, и рядом со мной комсорг нашей группы. А я даже на улице оказался предметом очередной такой комсомольской проработки. И вот во время возвышенных речей моего приятеля к нам подходит мальчишка лет десяти, нищий, и просит подаяние. Нормальный человек, увидев нищего, не станет думать, что на самом деле он гораздо богаче тебя. Ты видишь реально. Но мой приятель этого мальчика не видел, он его не воспринял, поскольку он не был событием в его пространстве. Почему? По одной простой причине: этот мальчишка уже занимал место в его теоретической иерархии общества. Какое место? – Мы сейчас находимся на первом этапе коммунизма, и на этом этапе есть разница между людьми. Одни беднее, другие богаче, и поскольку мальчик уже был отобъяснен, можно было его не видеть. То есть – в свое сознание, в свою способность волноваться и переживать – не допустить событие, которое происходит у тебя на глазах (оно ведь физически происходит, а ты его не видишь). Есть какие-то магнитные поля, в которых мы можем находиться и видеть что-то вне этого поля или можем не видеть. Поле разворачивает наши мозги таким образом, что мы видим или не видим. Хотя, казалось бы, нельзя не видеть. Ну как можно не видеть страдающего, замерзшего, нищего, голодного мальчика? Оказывается, можно – не видеть. (Теперь попробуйте перенести эту структуру на гораздо большее число всех житейских случаев – на чтение нами книг, любви, ненависти и т д. Вот видите, как мы далеко уходим, занимаясь Прустом. Я, казалось бы, отдаляюсь от него, но на самом деле я иду по Прусту почти текстуально.) Значит, я закрепляю: есть состояния, называемые нами идеями, которые существуют силой формы. А форма, как вы знаете, конструктивна, то есть она строится. Формы сами не бегают, формы рождаются жизнью, но формы создаются и людьми. В том числе они изобретаются в искусстве, в литературе.
Теперь пойдем дальше. Да, я один момент упустил, а он довольно-таки важен. И так дело сложно, но еще один осложняющий момент есть во всей этой ситуации магнитных ловушек или конструкций, в которых мы живем. Есть конструкции, которые не позволяют нам видеть (конструкция моего приятеля), есть конструкции, позволяющие видеть; назовем их конструкцией Пруста. Или – я приводил вам пример Сезанна – яблоки, посредством которых мы видим. Текст, посредством которого мы читаем наш опыт. И в этом чтении опыта, которое антипсихологично, то есть направлено против основных тенденций нашей психики, нашей психологии как человеческих существ, есть еще одна загвоздка. Во-первых, пометим следующее: ведь я не вижу, чтобы избежать страха, то есть избежать того, что я боюсь – а истина есть то, чего я боюсь, – ее увидеть, и потом я даже забываю в силу слоистости нашей психической жизни, что я не видел ее, потому что боялся, потом уже, на следующих этажах, исчезает даже сознание того, что я избегал истины из-за страха. Эти психологические механизмы надежды – мир ведь водит нас за нос, в том числе и психологическим механизмом надежды: завтра все исправится, дом, по которому прошла трещина, каким-то чудом можно будет отремонтировать, – так вот, беда в том, что эти психологические механизмы прекрасно аккомодируются – не ассимилируются, а аккомодируются, то есть не противоречат нашим логическим операциям, операциям рассудочного мышления. Операции рассудочного мышления вполне уживаются с психологическими механизмами (механизмами страха, надежды и т д.; отобъяснение – это тоже механизм). И вот все операции нашего прикидывающего мышления (назовем их логическими) – мы что-то наблюдаем, описываем, делаем выводы – уживаются с психологическими механизмами и не противоречат им. Мы можем мыслить, то есть совершать логические операции, так и оставаясь в этой ирреальности, не приходя к реальности. Сама по себе логика (в смысле логических операций рассудочного мышления) не выталкивает нас на путь истины. Того, что есть на самом деле. В этом смысле можно сказать, что наша реальность имеет структуру сновидения. Это тоже одна из проблем Пруста. Он говорил, что нечто, что мы называем жизнью, – разорвано, беспорядочно, вызывает непонятные боли, непонятные радости и больше похоже на сновидения. Жизнь наша – как сон. Действительно, то что мы называем реальностью, чаще всего имеет структуру сновидения. В каком смысле? Какова структура сновидения? (В упрощенном, конечно, виде, я не берусь претендовать на то, что это вещь действительно проста и мы ее понимаем.) Есть такой закон сновидения: по содержанию своих видений сон строится таким образом, чтобы эти видения позволяли нам не проснуться; сон как бы имеет структуру отобъяснения. Скажем, звонит будильник, я не хочу проснуться, и в короткие мгновения, когда еще звучит звонок (в действительности короткий, а во сне он кажется длинным), сон разыгрывает целую сцену, которая придает такой смысл этому звуку, что этот смысл позволяет мне не проснуться. И вот то, что мы называем реальностью, чаще всего состоит из таких представлений, из таких образов и состояний, которые позволяют нам спать дальше. В данном случае слово «спать» означает не знать и не видеть реальности. И в этом смысле реальность имеет структуру сновидения. Жизнь есть сон – в этом смысле слова. Вот такая психологическая закавыка. Более того, здесь есть еще одна проблема, на которую хочу обратить ваше внимание.
Фактически мы сказали, что форма, текст есть нечто, что должно быть построено, чтобы конструктивно породить во мне какое-то понимание, потому что это понимание естественным психологическим путем породиться не может. В частности, для порождения такого рода состояния понимания служат литературные тексты. Или текст жизни. Например, образ и жизнь Христа есть текст, посредством которого мы можем (или не можем) читать наш жизненный опыт. Текст организовал какой-то логос, в пространстве которого события получают осмысленный и связный вид, а не рассеянный и рассыпанный. (Иногда религиозная метафорика может помочь нам понять законы нашей жизни и устройство нашего сознания.) Так вот, все это фактически означает следующую вещь: нечто производится в нас (нечто – наше понимание) не нами, произвольно, как психологическими существами, а силой какого-то закона – силой формы. Скажем, идея существует силой формы. И вот Пруст пишет – теперь все эти вещи мы должны связать вместе – о Сен-Лу: «…все, что он узнал бы о Рахиль (то есть если бы Марсель ему сказал: послушай, я видел Рахиль в доме свиданий, она там продавлась за двадцать франков; но вся закавырка состоит в том, что Сен-Лу этого не воспринял, этого знания для него не существовало; все эти сведения – «он узнал бы» – назовем знанием, и я хочу сейчас показать вам, что знание есть одна из таких вещей, которые в эту точку, в это пространство не проникают; поэтому нам эта точка пространства будет важна, ее свойства мы должны описать, чтобы понять самих себя), – не заставило бы его сойти с дороги, на которой он находился и на которой это лицо (лицо Рахиль) являлось ему через мечтания, которые он порождал»[37 - C.G. – p. 160.]. Вот это важный психологический момент для всего нашего движения по тексту Пруста. Истина, казалось бы, существует – Пруст говорит: если бы ему сказали, то есть если бы ему было сообщено это как знание, – это «не заставило бы его сойти с дороги, на которой это лицо являлось ему в облаке мечтаний, им же самим порожденных».
ЛЕКЦИЯ 3
20.03.1984
Я хотел бы начать с некоторого предупреждения. Во-первых, оно касается стиля – не моих лекций, а стиля видения или мышления, которое я пытаюсь выявить. Вы уже поняли, наверное, что моя задача состоит не в описании литературных красот, а в выявлении стиля мышления человека, который проделал опыт, по материи своей не отличающийся от того, что мы можем испытать. Просто мы можем испытать и не понять, а вот другой человек понял и записал, и поэтому интересно к этому обратиться. И внутри этого опыта работает какой-то способ мысли, который я и хочу выделить, поскольку он является частью того, какую фигуру, какой рисунок или какой контур принимает сама жизнь человека, который приобщился к такому видению. Само это видение как-то меняет жизнь. Судьбу. Я потом еще буду говорить, что само ощущение судьбы и само представление судьбы есть очень важный элемент нашей сознательной жизни. Для начала скажу так, резко очень, что именно в той мере мы являемся людьми, в какой мере мы – люди судьбы. То есть, если мы живем в судьбе, мы – люди, а если мы живем вне судьбы, а чаще всего это именно так, то мы – полуживотные. Или, как выражался Пруст, demi-esprits[38 - T.R. – p. 894.], то есть полудухи. Все есть – и мышление, и чувства, но все наполовину. Так вот, когда я говорю о таком стиле, я пытаюсь дать вам почувствовать основной стержень этого стиля. А именно; смотреть на мир, на события в нем так, чтобы видеть вещи не как какие-то самодостаточные детали (то, что Пруст называет деталями), а видеть – то, что видишь, как элемент фигуры или закона. Элемент, требующий телескопа. Я не случайно приводил вам пример с моим сокурсником: он не видел нищего мальчика, ну, это мелкий факт, который все мы видим, – проблема в том, чтобы увидеть за этим фактом существенный закон. Не просто случайность – воспринял – не воспринял, таких бывает тысячи случаев, миллионы… мы не видим, что за этими деталями, мелочами стоит что-то и сама деталь является не самодостаточной, не самостоятельной вещью – выражением лица, цветом неба, а является элементом чего-то. И вот видеть другое сквозь деталь и есть то, что Пруст называл телескопом. Не в микроскоп разглядывать, как обычно приписывают Прусту, а телескопом подносить себе то, что есть на самом деле – большое. Но просто из-за нашего душевного удаления, – потому что есть, кроме физических расстояний, и в этом состоит глубокое ощущение Пруста, расстояния душевные, и эти расстояния настолько важны, что, говорит Пруст, можно обнимать возлюбленную и при этом быть от нее так же далеко, как если бы она была на Сириусе, на самой дальней звезде[39 - Cм.: J.R. – p. 529; S.B. – p. 170.]. И вещи выступают перед нами не на физических расстояниях, а на душевных, или духовных. И – на больших расстояниях – то, что нам кажется мелким, на самом деле может быть целой звездой. Констелляцией, или фигурой. То есть эти детали есть элементы фигур, а фигуры могут быть громадными; и я потом попытаюсь вам показать, что эти фигуры вообще занимают совершенно другие пространства и другие времена, не совпадающие с пространством и временем нашей индивидуальной жизни и значительно их превосходящие (а наша индивидуальная жизнь движется по линиям судьбы, как раз по таким линиям, которые есть линии этих пространств и времен). И я буду впредь называть их конфигуративными пространствами, или пространствами фигур. И поэтому одновременно, когда я говорю «фигура», это – и образ, часть речи, чтобы просто прояснить смысл, но, с другой стороны, это имеет какое-то содержательное для меня значение как термин или, как выражаются профессионалы, как понятие. Но пусть вас слово «понятие» не пугает, ничего в этом страшного нет. Хотя мы занимаемся мышлением, но я должен вам напомнить, что люди, опытные в мышлении, – например, Гете, которого я хочу процитировать, говорил, что все мышление не может помочь мышлению[40 - Cм.:Valeri P. Euvres. T. I. Discours en l'honneur du Goete, p. 542.]. То есть мышление совершается каким-то другим образом, и поэтому все мышление не может помочь мышлению. Что-то еще, или другое, должно быть. И вот это другое в жизни, самой жизнью укорененное, мы попытаемся нащупать.
Так вот, мне хотелось сделать следующее предупреждение: когда я привожу какие-то события, какие-то детали – не в качестве самостоятельных, а в качестве элементов фигур, – то я пользуюсь какими-то примерами. Примерами я обязан пользоваться доступными, то есть не по трудности доступными, а просто такими, которые основаны на жизненном опыте, близком каждому из нас. И здесь есть закон. Я должен приводить примеры, поскольку так построен наш язык, и он обязывает нас идти определенным путем. Если ты хочешь что-то сказать действительно дельное, то ты должен приводить примеры. Потому что фигур без элементов, без деталей не существует. И это, так сказать, законы человеческого языка. Слово «человеческий» тоже имеет для меня значение. В каком смысле? Ну, понимаете, я не могу, когда я на человеческом языке разговариваю, хитрить, я не могу разговаривать намеками. И к этому относится мое предупреждение. Наш язык, повторяю, имеет законы. Например, в нашем языке все нам принадлежит. Все, что человеком создано, все нам принадлежит. И если я ссылаюсь на Пастернака, то это не потому, что я хочу совершить незаконный акт. Я это делаю потому, что меня обязывает к этому язык. Иначе выразить нельзя, – если ты не следуешь законам языка, человеческого языка. Все, что в мире создано, нам принадлежит, и на все мы можем ссылаться. И поэтому, наоборот, если я ссылаюсь, не воспринимайте это как некий такой антимилицейский акт с моей стороны. В свое время, чтобы пояснить, что такое человеческий язык, довольно известный публицист XIX века Варфоломей Зайцев (один из немногих русских эмигрантов, где-то в 80-х годах он издавал в Женеве газету, я забыл, как она называлась, и писал очень злые памфлеты; памфлетист он был, действительно, язва самая настоящая) написал замечательный памфлет, который называется «О собачьем хвостике, или о характере русской прессы». Зайцев говорит, что если записать сейсмографом (сейсмографической записью) виляние хвостика собаки перед своим хозяином, то полученная диаграмма будет абсолютно похожа на тот язык, которым пользуется русская пресса. Но, в отличие от этого, мы пытаемся говорить на человеческом языке просто потому, что так построена культура. Законы культуры таковы. И поскольку они таковы, то это не значит, что цветок культуры растет для того, чтобы кого-нибудь обрадовать или кого-нибудь огорчить. Он растет по своим законам. Следовательно, повторяю, не делайте отсюда вывода, что я имею какой-то специальный умысел нарушать правила уличного движения или общественного порядка или показываю кукиш в кармане. Я просто подчиняюсь законам говорения. Законам того, как строится культура. И здесь есть еще один важный момент (он нам нужен в связи с Прустом), Дело в том, что когда мы говорим о чем-нибудь внешнем, – скажем, я говорю «собачий язык», имея в виду русскую прессу XIX и XX веков, – опять же вы должны понять, что это – элементы фигуры. А чтобы увидеть элементы фигуры, то есть нечто не просто хорошее или вредное, а как элементы фигуры, нужно заглянуть в себя. Вот как строится человеческая речь, ибо мы вечны. А это значит, что если мы не заглядываем в себя, то вечно будет всякая дрянь, потому что она материей наших чувств поддерживается. Из нас вырастает. И она будет сменяться. Сегодня будет одно безобразие, завтра другое. Поэтому само по себе безобразие не имеет значения. Если нас на нем «зациклят» и мы в себя не заглянем, то будут другие безобразия. Они сами по себе неинтересны. Нечего обвинять других, нужно в себя заглянуть. И опять же – нужно это делать, следуя законам языка, на котором строится любой культурный акт. Любой акт внутри культуры. Это означает также (то, что я сейчас скажу, прустовская тема), как я вам говорил в прошлый раз, что нужно мужество (не перед милицией, не бояться ее, есть вещи пострашнее милиции, потому что сегодня милиция, завтра полиция, послезавтра она еще как-то иначе будет называться; я сказал, что все это будет воспроизводиться, повторяться, само по себе это неинтересно), – мужество в себе, нам ведь самим страшно увидеть правду. Пруст говорит: я ведь не деталями занимаюсь, я занимаюсь радиографией (извините, я галлицизм допустил в русской речи, я должен был сказать – рентгеноскопией занимаюсь)[41 - T.R. – p. 718 – 719; C.G. – p. 548.]. Например, я вижу гладкий бархатный женский живот, но если я знаю, что эта женщина больна раком и этот живот скрывает (под гладкой своей поверхностью) раковую опухоль, я ничего не могу поделать: я вижу раковую опухоль. В этом смысле, говорит Пруст, у меня рентгеноскопия. Довольно-таки сложное занятие; условно назову это «философией жестокости».
У Пруста, как у всякого человека, прожившего интенсивную духовную жизнь, есть философия, и эту философию можно назвать так: философия жестокости. Приведу другой пример, который вам, может быть, будет более близок по смыслу, поскольку он относится к театру, хотя автор малоизвестен и спектакли его не ставились (да и, по-моему, самим французам он тоже не особенно известен); я имею в виду французского актера и режиссера и теоретика театра Антонена Арто, который свой театр называл «театром жестокости». Вот по аналогии с этим вы можете понимать словосочетание «философия жестокости». Оно звучит примерно так (в прустовском варианте, в одном из самых безобидных, потому что есть более обидные варианты): мы должны на собственный страх и риск из впечатлений извлечь истину, то есть извлечь фигуру; если перевести на тот язык, который я употребляю, – мы должны иметь, например, смелость, вместо фразы «Она очень мила», сказать: «Я получил удовольствие, целуя ее»[42 - Cм.: T.R. – p. 896.]. Чаще всего именно так и обстоит дело. Не она мила, а просто я получил удовольствие, поцеловав ее. И все. Насколько часто мы можем себе это сказать? Хотя чаще всего это так, но реже всего мы осмеливаемся сказать себе это. Потому что мы сразу в своем воображении строим целый роман с этой милой женщиной. И этот пассаж я завершу простой цитатой. Как-то одному из литературных критиков – Куртиусу Пруст писал (Куртиус занимался творчеством Пруста и пытался его анализировать): «…нам незачем заниматься политикой». Кстати, эта фраза уже текстуально, словами Пруста, подтверждает то, что я говорил перед этим, потому что все мое предупреждение сводилось к тому, что нам незачем заниматься политикой. В том смысле, что есть вещи более серьезные и имеющие большие политические последствия, чем сама политика. Мы занимаемся литературой. Пруст так и пишет: «Нам незачем обсуждать политику». То есть обсуждать сами по себе незначащие и вечно повторяющиеся детали или уродства. Наше дело – литература. «Литература» в данном случае употребляется в совершенно особом смысле. Литература – это не занятие, состоящее в том, что человек пишет книги. Литература, или литературный акт, есть часть построения душевной жизни у Пруста. Часть построения актов понимания того, что происходит в мире и что происходит с тобой в этом мире. Пруст говорит: «наше дело – литература», и дальше: «…конечно, нас многие могут обвинить в том, что мы страдаем morbo litterario (болезненной страстью, болезненным графоманством, не знаю, как иначе это перевести), – нет, – говорит Пруст, – уничижает нас плохая литература, а крупная литература всегда открывает нам неизвестную часть нашей души»[43 - Cм.: Centenaire de Marsel Proust – p. 74.]. И вот, из-за чего я это вспомнил, дальше идет блестящая фраза: «…не нужно бояться зайти слишком далеко». Ну, например, мы боимся сказать «рак»; всегда есть какая-то мелочь, какая-то причина, за которую мы можем зацепиться, чтобы отстранить от себя сознание, что это – рак. Так вот, Пруст говорит; «Никогда не нужно бояться зайти слишком далеко, потому что истина – еще дальше»[44 - Ibid.]. Действительно, подумайте, нам никогда не удастся зайти слишком далеко, потому что истина все равно будет еще дальше.
Итак, в прошлый раз я сформулировал следующее: когда мы испытываем любовную иллюзию, то самым существенным во время ее испытания является – как на самом деле обстоит дело, что на самом деле происходит. То есть нечто отличное от того, что мы переживаем, чаще всего является просто иллюзией, плодотворной, но иллюзией. Кстати, хочу оговорить, что я часто буду употреблять слово «иллюзия», тем более что роман Пруста можно определить так: роман до уничтожения последней иллюзии. То есть роман прохождения такого пути, который есть путь завершающийся (или незавершающийся), до уничтожения самой последней иллюзии. Ну, иллюзия не есть ругательное слово. Скажем, французские авторы прекрасно знали – потому что они лучше всех других исследовали вообще человеческое сердце и человеческую душу, больше всего потратили на это сил и больше всего успехов достигли, – что когда говорят «illiusion amoureuse» (Фурье, например), любовная иллюзия, то это не есть указание на то, что есть любовь и есть иллюзия или – любовь есть иллюзия. По определению, суть этого чувства заключается в его способности к иллюзии. И в этом нет, в самом по себе, ничего плохого, – если мы посредством этой иллюзии извлечем какие-то смыслы и пройдем какой-то путь. Путь, ведущий в самих себя, к другим людям или внутрь других людей, и путь, ведущий в действительное устройство мира. (Так что сказать: любовная иллюзия и любовь – одно и то же, – тавтология.) Так вот, самое важное для нас приходит к нам вопреки нашим волепроизвольным и сознательным усилиям, приходит «действием какого-то большого закона»[45 - C.G. – p. 160.]. Я говорил вам: можно ли сознанием воли, пускай даже знающей, что бессмысленно мое переживание, заставить себя не испытывать переживания… Я говорил вам в прошлый раз, что если мы мчимся, как выпущенное из пушки ядро, на любовное свидание, то вся проблема жизни как раз и состоит в том, можем ли мы изменить наше состояние. Оно, конечно, меняется, может измениться, но, предупреждает Пруст, действием закона, а не моим сознательным и волепроизвольным усилием. Я не могу перестать переживать, захотев перестать переживать. Не может этого быть. Следовательно, Пруст вводит какую-то категорию изменений в наших состояниях – и тем самым в нашей судьбе, в том, что с нами случится, – которая не подпадает под известную нам категорию изменений.
И я опять должен подтвердить, вернее, предупредить о свойствах нашего языка. Скажем, в отличие от «произвольного», мы склонны (и правы в этом) употреблять термин «непроизвольное». Ведь что мы понимаем под «непроизвольным»? Наши какие-то аморфные душевные состояния, эмоции и т д. Некоторые интуиции, мимолетные ощущения, чувства, которые характеризуются печатью непроизвольности. Но не об этом идет речь. Для Пруста, и вообще в принципе, как раз такого рода состояния – я назову их кисельными, то есть не имеющими структуры (у французов есть хорошее слово для этого – velleitй, то есть поползновения, потуги), – непродуктивны, и не они называются непроизвольными. Но я буду употреблять этот термин потому, что в нашем языке других слов нет. Чтобы пояснить свою мысль – во многих местах у Пруста (и у других авторов) вы встретите такое выражение: «моя жизнь или эпизоды ее, события моей жизни были, как оказалось, материалом искусства»[46 - T.R. – p. 909.]. Как мы понимаем это? Очень просто: произошло какое-то событие, и это есть материал в том смысле, что я могу его описать, рассказать о нем. И в этом смысле оно (событие) составит материю романа и какой-то сюжет. Но речь идет не об этом. Точно так же, как непроизвольное означает что-то другое, чем само слово «непроизвольное», так и слова «материя искусства», а это связано с непроизвольностью, – скажем, моя жизнь, как и ваша жизнь, эпизоды, события вашей жизни как материал, или материя, искусства не означают, что эти эпизоды есть то, о чем можно рассказать, – так вот, слово «материя» в данном случае имеет прямой, буквальный смысл. Его очень трудно уловить. Материя искусства – в совершенно прямом смысле этого слова. Не сюжет для описания или предмет для описания, а материя самого произведения искусства. Плоть его. Я сейчас об этом только предупреждаю, потому что с ходу раскрутить и понять это трудно. Просто я хочу обратить ваше внимание на сложность самого словоупотребления языка – мы не должны, услышав слово, спешить понять его по тому значению, которое оно нормально имеет. Этого значения мы отменить не можем, и мы должны пользоваться, к сожалению, теми словами, значения которых мы отменить не можем. Но мы можем сделать из них такую композицию, чтобы она нейтрализовывала неминуемо возникающую в наших головах ассоциацию по значению. Другого языка у нас нет. Переводя на язык, близкий к любви, а мы все время крутимся вокруг любви, потому что любовь – основной сюжет Пруста и романа, о котором мы говорим, я выражу немножко иначе то, что я сказал о языке, приведя известную фразу Франсуа Вийона, которая обращена как извинительная фраза по отношению к принцу; она звучит так: «Prince, on б les amours qu'on б»[47 - Villon. Euvres poetiques. Ballade de la belle Heaumiйre. Garnier – Flammarion, Paris, 1965.]. (К сожалению, в русском языке нет слова «любовь» во множественном числе, что говорит не только о недоразвитости языка, но и о недоразвитости чувств, которые выражаются в языке.) Переведем так: «Принц, у нас есть те любви, какие есть» (и дальше Вийон добавляет: «извините меня за немногое»). On б les mots qu'on б. У нас есть те слова, какие есть. Других нет.
То изменение, о котором говорит Пруст, то есть то, которое происходит действием изменения нашего состояния, оно происходит действием какого-то закона, а не мною самим производится. То есть во мне должен породиться какой-то закон, чтобы, даже вопреки мне или независимо от моих сознательных и волепроизвольных усилий, изменить мое состояние. Фактически Пруст хочет сказать, что это нечто, что производит такого рода изменение, действует наподобие органа, в отличие от воли и сознания. (Для того чтобы мне увидеть эту трубку, мне ведь не нужно организовывать сознанием и волей акт зрения; глаз производит органом зрения то, что я вижу; это ясно, да?) И здесь, в глубине, скрывается проблема, что для Пруста – то, что называется произведением искусства или текстом (помните, я употреблял слово «текст»), не есть знание. Скажем, Сен-Лу можно передать знание, что Рахиль, его возлюбленная, продавалась в доме свиданий за двадцать франков. Но я предупреждал вас, что это знание не есть сообщение, несообщимо с головой Сен-Лу. Оно не войдет в эту голову. И он не сможет изменить своего отношения к Рахиль. Он ведь знает, что Рахиль – двадцатифранковая проститутка (если ему сообщить), и посредством этого знания он не может ничего изменить. Более того, по дороге между знанием о том, что – двадцатифранковая проститутка, и результатом изменения отношения (которого не происходит) стоит громадное пространство, громадный мир того, что можно назвать психологической проработкой. И факт знания, совершенно чуждого Сен-Лу, – что за двадцать франков Рахиль продавалась в доме свиданий, – может получить для Сен-Лу (путем работы проработки) совершенно особый, тайный смысл и внутреннее уникальное, только Сен-Лу доступное очарование. Пруст говорит, что нет такого самого отвратительного существа на свете, которое хотя бы для кого-нибудь одного не представало «под знаком самой трогательной нежности и очарования»[48 - C.G. – p. 283.]. И более того, Сен-Лу даже может извлечь особую гордость – они вот так думают, а я-то знаю, что Рахиль прекрасна… – вам знакомо то, что я сейчас говорю? У него будет даже особая прерогатива внутреннего знания, абсолютного шарма того, что вопреки всему он знает. Все видят внешнее, они не знают и не понимают Рахиль. Те живут в мире рассудочных представлений и иллюзий, а я знаю. Внутренним каким-то особым знанием, тайным очарованием. Ну, примерно таким, как если бы герой одной из новелл Музиля поверил в непорочную беременность[49 - Cм.: Музиль Р. Избранное. Сборник (Тонка). Прогресс, 1980 (на нем. яз.)]. (Кстати, мы сейчас вращаемся вокруг акта веры. Когда можно совершить такой внутренний акт, тогда можно поверить в непорочную беременность, хотя это – противоречие в терминах.) Значит, как раз то, что мы суммарно и пока непонятно называем текстом, и есть что-то – я уже употребил слово «орган», – что производит, может произвести изменения, которые иначе недоступны нашим усилиям. И здесь мы сразу врезаемся в общем в сложную проблему, которая другим путем нас должна привести к теме, которую я все время обещаю и пока до нее никак не дошел. А именно: тема так называемого труда жизни. Я приведу вам пример, чтобы пояснить, что я хочу сказать. Мы сталкиваемся с таким законом нашего сознания, нашей психологической жизни, что в логосе (надеюсь, вы помните, что такое логос) – смысл какого-то собрания. Вот есть энное число вещей, в принципе относящихся к делу, и вот все, что важно для дела, это есть собрание, называемое логосом (в греческом языке само слово «логос», идущее от «легеен», имеет такой этимологический смысл). Все, что относится к делу, не только связано в логосе – логос, как я вам сказал, не присутствует отдельно ни в каком члене собрания, отдельно логос не дан, логос есть то, что есть смысл всего собрания, и он, следовательно, не может быть дан в одном члене собрания. Все члены логоса помечены словами, имеют названия. И туг существует один странный закон, к которому Пруст неоднократно возвращался. Он говорил примерно так… Фактически я уже приводил материал этого закона – например, лицо Рахиль, я сказал, что оно Сен-Лу доступно одинаково с Марселем; и тому и другому одинаково доступно лицо Рахиль в смысле, как выражается Пруст, «общих актов». То есть то, что называется «нос», «глаза», «щеки», «губы», «выражение лица» и т д., – как общее, как то, что может быть на лице Рахиль, и на лице Франсуазы, и на лицах бесконечного числа других людей. Смеющиеся глаза могут быть на одном лице, на втором, на тысячном лице. Ведь мы все это понимаем и называем. Это – доступность в смысле общих актов, то есть таких же, как у других… Я приводил вам эту цитату, но можно повторить ее: «Это лицо, с ее взглядами, улыбками, движениями рта, показалось мне значимым лишь в смысле общих актов, без чего-либо индивидуального (здесь вкрадывается словечко „индивидуального“, очень важное, хотя странно – оно нарушает законы нашего говорения, потому что, когда мы говорим „нос“, мы даже общее индивидуализируем), и я не мог иметь любопытство искать под ними персону»[50 - C.G. – p. 159.]. В другом месте, оборачивая эту же мысль отрицательной стороной, как раз той, которая сейчас мне была важна, Пруст говорит так: «…в коллекции наших идей („идеями“ в данном случае назовем просто общие понятия, названия – „нос“, „глаза“, „лицо“ и т д., или наше представление о красоте, об интересной мысли и т д. – тоже идеи) нет ни одной, которая отвечала бы индивидуальному впечатлению»[51 - Cм.: C.G. – p. 49.]. Я говорил, что есть проблема органа, который производит – не я произвожу, глаз видит – не я вижу, и проблема органа есть проблема – я выражусь так – логоса того, что вне логоса разделено. Есть глаза в логосе или нос в логосе, или есть выражение лица, улыбки в смысле общих актов, и есть все это вне логоса. Логос есть логос того, что вне логоса разделено; вне логоса это – общие акты, за которыми нет «любопытства искать персону». И во всем этом нет ничего – в общих актах или названиях, – что соответствовало бы индивидуальному впечатлению. Теперь я приведу пример для пояснения. Скажем так – известный простой факт, который мы на уровне интуиции должны ухватить: есть вода в смысле индивида «воды», и есть она же, называемая «водой», вне индивида (и это тонким образом связано с тем, что я называю органом). Вы можете взять воду из океана или моря, держать ее в пробирке, и вы будете говорить, что имеете мертвую воду. Это другая вода. Элементы ее те же самые, что и морской воды, абсолютно те же самые элементы, и какая-то тайна… вода в пробирке умирает. И умершая вода, по элементам та же самая, что вода морская, не есть та вода. И вот какое-то различие между ними мы называем, употребляя слово «жизнь». Одно мы называем живым, другое называем мертвым. Или – одно называем индивидом, потому что – что такое морская вода? Это миллионные и миллиардные сочетания деталей, такие, что маловероятно, чтобы еще один раз эти детали могли бы сочетаться в том виде, в каком они даны в виде воды. И это называется индивидуальностью. Сочетания многих элементов, или обстоятельств, или просто фактов. И хотя отдельно они те же самые, но просто факт, что они были вместе, – дополнительный. Они жили вместе. И нам приходится называть этого индивида, потому что маловероятно, чтоб сочетание этого многого еще один раз могло бы случиться. И, более того, оно не только не случится еще один раз (и поэтому, если случается только раз, называется индивидом), а еще есть сила неразложимого на элементы сочетания. И в названии ничто нас не готовит к тому, чтобы воспринять индивидуальное впечатление («воду» в данном случае). Как видите, я довольно сложное рассуждение проделал, чтобы напомнить вам простой факт.
У Пруста все произведения искусства – воображаемые, как бы внутри произведения искусства, называемого «В поисках утраченного времени», создаются еще произведения искусства, которые в нем описываются. Потому что для Пруста, и для вас, и для меня среди всех наших жизненных впечатлений довольно существенное место занимают и впечатления от искусства, которые подчиняются тем же законам, и из них тоже можно и нужно извлечь что-то, что и из любых других впечатлений. То есть для Пруста, и это существенно, впечатления от искусства не вынесены отдельно, но являются частью нашей жизни, уравнены с другими впечатлениями, из которых нужно извлечь своим собственным трудом нечто – так же как из лица Рахиль. Только мы не всегда это замечаем, потому что Рахиль для влюбленного Сен-Лу судьбоносно важна, а книжка, казалось бы, не важна, но в действительности это – такую же роль играющие в нашей жизни впечатления и так же требующие чего-то, что в самих впечатлениях не содержится в той мере, в какой они совпадают с общими значениями. И когда Пруст описывает пение Бермы, он все время сталкивается (и наглядно воссоздает, описывает эту трудность) с тем, что воспринять пение Бермы как нечто красивое очень трудно, потому что то, что есть пение Бермы, не соответствует общему представлению о том, что красиво. И нет никакого соответствия – Пруст все время подчеркивает – между общим представлением о красоте и индивидуальным впечатлением[52 - Cм.: C.G. – p. 50.]. Так же как и в названии воды нет ничего соответствующего жизни воды. То есть индивидууму воды. Поэтому я говорил, что в логосе – со стороны составляющих его названий или представлений общих фактов – нет ничего, что соответствовало бы индивидуальному впечатлению. Из логоса – из названий, составляющих логос (то есть смысл), мы ничего не можем извлечь. Они не могут нам помочь в том, чтобы – что сделать? Разобраться в том впечатлении, которое нас поразило, которое нас ударило. Например – пение Бермы или лицо Рахиль. Марсель видит лицо Рахиль с точки зрения общих актов, потому что Рахиль для него, как я говорил вам, – в безразличном пространстве. Но он ничего и не видит, и он смысла не может извлечь, и это событие – встреча с Рахиль – для него не является жизненным событием. Оно не вписывается ни в какой контур, который примет его жизненный путь. И здесь есть вещь скрывающаяся, которая сейчас взорвет все наше построение, может быть, неожиданным для вас образом и одновременно заставит осторожно относиться к словам, которые у нас есть. А у нас есть лишь те слова, которые есть. Я говорил в самом начале, что мы имеем дело с романом воспитания чувств. А сейчас мы получили очень забавный вывод на основе того, что во всем логосе нет ничего, что соответствовало бы индивидуальному впечатлению. То есть тому, что я могу извлечь из индивидуального впечатления, чтобы – что? – «образоваться». Например, «образоваться» в своем переживании красоты, восприняв красоту пения Бермы. И «образоваться» в законах любви, раскрутив свое впечатление, размотав свое впечатление от лица Рахиль. Мы получили забавный вывод, что, хотя мы говорим о воспитании чувств, мы находимся в области, где нет никаких норм и правил, – то, что я говорил об отсутствии соответствия впечатлению, на другом языке есть просто то, что мы находимся в области, где нет норм и правил. То есть ни одна норма, ни одно правило не могут нам помочь. Что же это – воспитание? Ведь что такое воспитание молодого человека? Он воспитывается путем овладения существующими нормами и правилами и путем развития в себе способности прилагать эти нормы и правила к хаосу своей жизни, к жизни своих переживаний; обуздывать свои переживания и хаос души посредством норм и правил. А мы установили, что норм и правил нет. В мире норм и правил нет ничего, что соответствовало бы индивидуальному впечатлению. Повторяю: в коллекции наших идей нет ни одной, которая отвечала бы индивидуальному впечатлению. То есть отсутствие норм и правил говорит нам об очень странном воспитании, не совпадающем с тем, что мы обычно понимаем под воспитанием, и говорит о том, что мы – в области, где нет норм и правил, сталкиваемся с одним чудовищным фактом: есть что-то, чего нельзя знать. Скажем для начала – нельзя знать заранее. То, что содержится в пении Бермы или в лице Рахиль, – нельзя знать и пережить путем знания. Вот я знаю, и посредством этого знания я переживаю то, что я вижу или с чем встречаюсь, – нельзя знать. И вот это «нельзя знать» у нас начнет часто повторяться. Хочу закрепить одну вещь. Дело в том, что – странное воспитание чувств… нет норм и правил, мы не можем воспитать себя нормами и правилами – это и есть, с другой стороны, то самое первое, что мы испытываем как живые. Совершите небольшой акт рефлексии, подумайте о самих себе: ведь именно то, для чего нет никакого эквивалента в нормах и правилах, или «в общих представлениях общих актов в общем смысле», – именно в этом и есть наша жизнь. В этом мы живы. Потому что во всем остальном, что мы знаем по правилам и по нормам, мы мертвы. Или – пока нам достаточно просто интуиции – мы чувствуем себя живыми как раз в такого рода вещах.
И я сделаю еще один шаг, чтобы закрепить, что как раз то, что не входит в логос или в эти названия, не входит в ту область, где нет эквивалентов для индивидуального впечатления, то, что остается у нас на стороне ощущения себя живыми, – и есть сознание (в отличие от знания, в отличие от многих других вещей). И есть какое-то напряжение между тем (то, что я сейчас назвал сознанием, пока оно есть просто нечто), в чем мы ощущаем себя живыми, и между эмпирическим сознанием, частью которого являются наши знания. В том числе знания норм и правил. И между ними возникло какое-то напряжение, ну хотя бы в том, что в мире знаний, норм и правил нет ничего, что соответствовало бы этому и что я мог бы пережить, – знание, взятое из мира норм и правил, наложить на мое переживание и пережить его вот таким путем. Сделаем один маленький вывод: то, что мы будем называть и дальше текстом или органом, не есть знание, И следовательно, любые изменения, с которыми мы будем иметь дело, не есть изменения, произведенные знанием. Узнав что-то о Рахиль, путем знания я ничего не могу изменить. Узнав о том, что в принципе красиво в вокале, я ничего не могу извлечь из живого восприятия пения Бермы. И вот, закрепив это, мы сталкиваемся с очень интересной проблемой. В прошлый раз, приводя пример с Сен-Лу, я специально опустил один очень важный момент, который теперь уже уместно привести в контексте мысли, что текст не есть знание. Значит, я скажу так, чтобы у нас опять-таки была ниточка: мы стоим в области воспитания чувств, или образования самого себя, или реализации себя, – в области, где существует проблема узнавания того, чего нет в элементах логоса. Проблема узнавания и неузнавания. Ведь когда я слышу пение Бермы или вижу лицо Рахиль, то передо мной в одном случае – красота пения, а в другом – факт знания о реальном биографическом обстоятельстве в жизни Рахиль, а именно что она двадцатифранковая проститутка. И я могу встретиться с этим – и не узнать. Не узнать – имея в голове общее представление о том, каково должно быть пение, что красиво, когда хорошо поют, когда плохо поют. Или знать о том, каковы женщины. Повторяю – проблема узнавания того, что есть. Пруст иногда выражался так: «не узнать друга» или «не узнать Бога»[53 - J.F. – p. 719.]. Ведь можно встретиться с Богом – и не узнать в нем Бога. Или встретиться с другом – и не узнать в нем друга. Повторяю: мы должны закрепить в голове, что это не просто случайность, а в этом действуют законы. Есть законы того, почему мы не узнаем. Точно так же, как есть законы, почему мы узнаем. То есть – условия и законы, почему мы можем узнать то, чего могли и не узнать. Вот некая такая трагедия и комедия, если хотите, до недоразумений, когда одно родное другого при встрече не узнает. Я уже, казалось бы, на совершенно обыденный язык перевожу то, что говорил, как какие-то абстрактные вещи, о красоте, о понятии красоты, о том, что понятие красоты никогда не соответствует индивидуальному впечатлению. Нет, в том-то и дело, что все это есть одно и то же. Короче говоря, эту проблему я выражу строчкой из стихотворения Гумилева (одна из гениальных тем у Пруста, и вообще – тема поэзии): «О, как божественно соединение извечно созданного друг для друга!»[54 - Гумилев Н. Стихи. Поэмы. Тбилиси: Мерани, 1989. С. 296.] То есть может быть что-то извечно созданное друг для друга, но не соединившееся. Даже при эмпирической встрече. Понятно, что можно не соединиться – просто потому, что никогда не встретились, а нет… можно встретиться и – не соединиться. А если соединиться, то – «О, как божественно соединение извечно созданного друг для друга!»
Значит, мы имеем дело с соединением или несоединением. Более того, мы имеем дело, скажем так, с трагической конечностью человека. Дело в том, что мы не можем – поскольку мы конечны, у нас нет бесконечного времени – встретиться эмпирически со всем тем, что создано для нас. Не можем – потому что пространство нашей жизни ограничено, даже географические возможности ограничены. Откуда вы знаете, что вас сейчас кто-то не ждет в Париже? И даже если бы вы могли сейчас выскочить в Париж, то я бы вам сказал: «А может быть, как раз в Лондоне, и не сейчас, а через несколько лет?» И более того, я могу задать себе вопрос: все ли, что есть наша жизнь, происходит во время нашей жизни? Ведь не случайно люди придумали идею бессмертия и надеялись на бессмертие. Они посредством этой метафоры уловили какое-то обстоятельство, действующее в нашей жизни. В том числе уловили вот эту конечность. Уверяю вас, я сам по себе точно знаю, что есть какая-то книга, которая для вас написана и которую вы никогда не прочитаете, потому что нельзя прочитать все книги. Количество книг несопоставимо с возможным количеством наших актов. Я уже не говорю об эмпирической случайности оказаться именно в той библиотеке или в том книжном магазине, где лежит эта книга. Это же необозримое море случайностей, не проходимое нами. Но интересно, что, хотя вы никогда не прочитаете книгу, в которой есть идентичный опыт с вашим, и вы могли бы сделать шаг вперед, если посредством этой книги заглянули бы в себя, а это есть задача книги, – тем не менее события этой книги могут произойти в вашей душе. Символисты ведь говорили, что есть соответствия символические. Что какая-то мысль, которая изложена в книге, которую вы никогда не прочитаете просто потому, что вы эмпирически ограничены, конечны, – эта мысль тем не менее может случиться в вашей голове. То есть что-то есть, что действует против человеческой ограниченности и против человеческой конечности. Такими действующими инструментами являются те вещи, которые я называл текстами. Философы называли это продуктивным воображением – нечто нейтрализующее, гарантирующее меня от случайности того, чего эмпирически я могу не встретить, не увидеть. И есть какие-то дополняющие способности – они называются, допустим, человеческим воображением, которым строятся конструкции, называемые текстами, которые производят в нас события, независимо от эмпирических возможностей или невозможностей встретиться с носителями или материальными, так сказать, выполнителями этих событий. Более того, мы не можем всего знать по одному фундаментальному закону. Можно сказать так: мы могли бы все знать и, хотя мы конечны, могли бы, скажем, текстами дополнить свою неспособность быть бесконечными. Ну что значит «все знать»? Быть во всех местах пространства и времени. Допустим, можно предположить некую «божественную» способность охвата всего пространства и времени и мое участие в этом. Математики и физики осуществляют так называемый предельный переход. То есть на пределе берут. Можно взять нам воображение на пределе, но при условии, что ты сам не являешься частью того мира, который ты видишь и описываешь. А если ты сам актер – не только смотришь спектакль, но еще и участвуешь в нем, то есть своим действием в спектакле меняешь все события, а они находятся в сцеплении с тобой, – то тогда ты в принципе не можешь всего знать, потому что ты участвуешь сам в этой жизни. Значит, еще одно ограничение. И тут как раз я привел вас к тому, о чем хотел сказать в связи с проблемой изменения.
Так вот, изменение нам недоступно – если не выполнены какие-то условия – само по себе, легким путем недоступно, не только потому, что вот то, о чем я говорил, не подчиняется нашей воле и сознанию, а производится иначе, а еще и потому (и я сформулирую это грубым образом), что нам приходится менять уже измененное. А «уже измененное» менять очень трудно. Сейчас я поясню эту непонятную фразу: дело в том, что человек меняет, преобразует какие-то эмпирические обстоятельства в своем сознании и воображении под знаком своих высоких идеалов – так, чтобы в том, что он видит и любит, принимает, были выполнены какие-то его требования к самому себе и к миру. Скажем, Сен-Лу увидел Рахиль – эмпирическая Рахиль (женщина с плоским лицом) стала объектом страсти Сен-Лу, потому что она изменилась, преобразовалась в его взгляде, который видел Рахиль из точки – назову ее так – «высокого». То есть из точки идеалов и мечтаний, навеиваемых искусством. Ведь Сен-Лу увидел Рахиль в театре. И мир, связываемый нами с театром – не с помещением, не с театром как таковым в физическом смысле слова, а с представлениями о человеческом благородстве, о высокой человеческой любви и т д., – это все преобразовало эмпирически видимое. И в своем отношении к прекрасной Рахиль – не к двадцатифранковой проститутке, а к прекрасной Рахиль, Сен-Лу реализовывает себя как человека, с которым он сам может жить в мире. То есть он сам для себя допустил, – почему? – потому что он сам поклонник идеалов доблести, а Рахиль доблестна, и он, любя Рахиль, любит доблесть (я сейчас словом «доблесть» заменяю многие слова, потому что когда хочешь сформулировать мысль, то спешишь и не ищешь всех терминов). Значит, я обращаю внимание на то, что отношение Сен-Лу к Рахиль (то, как он ее видит) есть, конечно, в фундаменте своем, его отношение к самому себе. В каком смысле слова? – в этом отношении должна реализовываться, не нарушаться его способность жить в мире с самим собой, уважать себя. Так ведь? Следовательно, он уже стал человеком. И вот изменить «уже человека» на «еще человека» почти невозможно. Можно, но трудно. Если помните, я приводил фразу Аристотеля – что причина, почему я что-то люблю, важнее, чем то, что я люблю. Но дело в том, что есть закон, и я сейчас фактически его сформулировал: наша жизнь устроена так, наше сознание и психика устроены так, что потом нельзя иметь то, из-за чего любишь, без того, что любишь. То есть то, из-за чего любишь, потом ты имеешь через то, что любишь. Потом уже – через Рахиль – Сен-Лу получает форму и область движения своих чувств, направленных на высокое, прекрасное, доблестное и т д. Это понятно? И вторгнуться в эту область изменением почти невозможно.
Закон этот действует и в социальной жизни, мы тысячу раз встречаемся с примерами проявления этого закона. Очень часто мы ничего не можем сделать с такими неразвитыми дикарями (так же как Марсель считал Сен-Лу дикарем, потому что Марсель-то знает, что Рахиль проститутка, и в этом смысле он просвещеннее, чем Сен-Лу): дело в том, что у нас нет цивилизации (мы нецивилизованны, кстати, примерно так же, как и русские), и часто возникает желание ввести какие-то рациональные изменения, но они всегда упираются в действие закона, который я выражу так: русские не могут стать людьми, потому что они уже стали людьми. Так, как они стали. Потому что в том, каковы они, они выполнились в доступных им пределах (и мы тоже, кстати, просто я по своему опыту сказал «русские», а есть опыт у меня и другой – наш собственный, грузинский). Уже реализовались. И вот это обладает такой инерцией, которая трудно поддается изменению и тем более не поддается сознательному волевому акту. Там должен происходить какой-то органический процесс изменений, рождаемых из органов. Из реального синтеза и развития какой-то мускулатуры, а не извне, – извне любое действие упирается в то, что «измененное» изменить уже трудно. Именно потому, что оно – измененное. И здесь возникает проблема, которая в психологии называется проблемой identity. Тождество с самим собой. Если оно достигнуто, оно нерасторжимо. Его развязать – оно как бы сцепилось с каким-то огненным взрывом, слепилось, – и развязать его, расцепить рациональными актами невозможно. То, из-за чего я люблю, существует для меня через то, что я люблю. Скажем, у Пруста есть термин, который во французской традиции идет в основном от Стендаля, – кристаллизация чувств[55 - См.: C.G. – p. 53, p. 115; T.R. – p. 992.]. Так вот, если по законам кристаллизаций случилось так, что нежность открыта в мире через Альбертину, то потом, чтобы испытывать нежность, чтобы переживать ее, – а в человеке есть потребность это переживать, даже независимо от предмета этой потребности, – чтобы переживать нежность, должна быть Альбертина[56 - Fug. – p. 556.]. А вот какова эта Альбертина? Может быть, она демон, и, испытывая нежность только через Альбертину, представляете, что со мной случится в жизни?! Какой адский бег ревности совершает герой нашего романа! Он все ревнует, он все время хочет установить, с кем и когда Альбертина ему изменила; и самое страшное, когда он утверждается в мыслях, что она лесбиянка и изменяет ему с женщиной… И вот – этот инфернальный цикл разыскивания по всем точкам пространства и времени, где ты не можешь находиться, не можешь объять все точки пространства и времени, – и ты бежишь… Если вы помните, в аду у Данте есть образ бегущих, которые наказаны тем, что все время должны бежать сломя голову. Есть такой бег, внутренний бег, который страшнее нас изматывает, чем бег физический, внешний.
То, что измененное уже не поддается изменению, прямому изменению, бросает еще один свет на то, что я назвал тождеством с самим собой. Обратите внимание, что это есть преобразование эмпирического, то есть фактов, – лицо Рахиль, какова она реально, какие у нее глаза и т д., но они преобразовались в луче воображения, в луче той точки, из которой смотрел Сен-Лу. Так? Потом произошло отождествление с предметом, через который реализуются мои высокие страсти, и тем самым реализуются достойные отношения меня к самому себе. К моему месту в мире и т д. Это я назвал тождеством, или identity. И ясно, что это есть продукт изменений, что в измененном мы имеем дело с тем, что не фактами рождено. Ведь измененная Рахиль не рождена ее свойствами, физическими свойствами. Физические свойства, как мы знаем, – просто плоский блин лица. Значит – не фактами рождено; и вот мы должны сформулировать закон, что в область того, что не рождено фактами, факты не проникают. Повторяю: в область того, что не фактами рождено, факты не проникают. Например, факт, что в доме свиданий я видел Рахиль, – этот факт не проникает в область просто потому, что эта область не рождена фактами. Поэтому факты туда и не могут проникнуть. Она совсем о другом – та область, хотя она вся накрывает факты. Любит-то он Рахиль, но это есть факт, накрытый этой областью, а не факт сам по себе, – область не рождена фактами. Не факты ее родили, и не факты ее убьют. Сколько хочешь говори Сен-Лу, какова «на самом деле» Рахиль, – не проникает. Значит, как уже говорилось с других сторон, это – сингулярная точка индивидуального переживания, внутри которого Сен-Лу не только жив, а еще и реализовал себя в своем человеческом достоинстве, в высоких критериях, отождествился, и вот это расцепить нельзя, как я сказал. Я много раз имел случай убедиться в том, что сюда факты не проникают. (Вместо фактов можно сказать: рациональные аргументы. Рациональные аргументы всегда ссылаются на факты.) Просто потому, что – не рождено фактами. Рождено другим психологическим процессом. Тем процессом, который я назвал отождествлением с самим собой, со своим образом. Я должен жить в мире с самим собой и принимать в мире только то, что позволяет мне продолжать жить в мире с самим собой. И если человек купил тождество с самим собой ценой неведения факта или непродумывания его, то он никогда его не воспримет; более того, он почувствует в тебе опасность человека, который хочет разрушить самое ценное для него, а именно – identity. Тождество с самим собой.
Это очень часто случается с так называемыми идеологиями, или мировоззрениями. Мировоззрения, или идеологии, есть область сращений человека с отношением к самому себе. И в этом сила идеологии, и ее неразрушимость, и убийственность. Потому что для человека самая большая опасность – перестать быть в мире с самим собой, перестать уважать себя. Но если сначала ты определенной ценой купил уважение, то потом цена эта реализует уважение. Или – то, из-за чего любишь, меняется местом с тем, что любишь. Что любишь, становится условием того, из-за чего любишь. Скажем, Рахиль становится условием доблести, а доблесть любишь, казалось бы, саму по себе. Понятно? Так вот, с мировоззрениями очень часто так случается; мне как-то пришлось проводить занятия с гаитянцами по философии, образовательного такого характера, с настоящими гаитянцами, причем я формально исходил из того, что имею дело с просвещенными людьми, потому что беседа шла по-французски и уже сам факт знания ими французского языка говорил об определенном минимуме просвещения и определенном минимуме наличных гибких структур мысли, которые вырабатываются просто из-за знания языка. Если люди окончили французский лицей, значит, что-то должно быть. И я столкнулся с твердыми пунктами закостенения там, где я пытался просто привести какие-то факты, рассуждения… Но потом я понял, что дело ведь не в глупости и не в уме, а дело в том, что у них была простейшая классовая схема мира, в которой есть богатые и есть бедные, есть империалисты и есть рабочие и крестьяне, и поскольку схема очень проста и усваивается без труда, умственный труд, затраченный на нее, таков, что он удовлетворил их по отношению к самим себе (они стали носителями понимания мира, они мир поняли), и поэтому они никогда с этой схемой не расстанутся. Кроме как ценой какой-то полной личностной перестройки, а это очень трудное дело для человека. Человек ленив. Мир сложен, нужно ломать голову, нужно постоянно заглядывать в себя, менять себя. (Вот наш роман, прустовский, – роман изменения себя. И в этом – героизм больного, несчастного автора. На пределе мужества Пруст проделывал с собой работу изменения, и роман его есть орган изменения себя и овладения своей реальной судьбой.) А люди, о которых я говорю, на такой труд поскольку человек ленив), за редкими исключениями, идти не хотят. Мир умещен в их головах, в этом мире они занимают место человека, понимающего мир, и все очень просто: есть империалисты, есть это, это… Богатые есть, потому что есть бедные, бедные есть, потому что богатые есть, и что сделать, чтобы не было бедных? – уничтожить богатых. Все – мир уложился. И в эту область не войдут факты и аргументы. Вот, видите, что я сейчас делаю? Я сформулировал закон неизменяемости (или трудноизменяемости) измененного, который действует в нашей психологической и сознательной жизни. Более того, я привел вам мелочи, сквозь которые глаз (в данном случае философа) видит фигуры. И поэтому это уже не мелочи, а элементы довольно крупных фигур, которые занимают большие пространства и времена., такие большие, что даже Гаити попало в наши рассуждения. То есть где-то есть нечто, что в данный момент объединяет с гаитянцем или разделяет. Но разделять ведь можно только объединенное, небезразличное. То, что происходит с гаитянцами, как они живут и как они думают, имеет значение, потому что если бы их, как китайцев, был миллиард, тогда мы непосредственно убедились бы в том, что это имеет значение.
Резюмируя то, что я сказал, мы можем выразиться так: мы имеем дело с тем, что у Пруста чаще всего называется впечатлением (слово, которое повторяется почти что на всех страницах романа), но – впечатление, очевидно, какое-то особое. И оно совмещено с точкой, которую мы можем назвать теперь сингулярной точкой (я уже термин этот употреблял), то есть такой точкой, в которую, например, факты не проникают. В которую нельзя перенести знания: она непроницаема, несоединима. И здесь же у Пруста возникает тема множества миров…
ЛЕКЦИЯ 4
27.03.1984
В ожидании сегодняшней встречи я думал о таких вещах, которые могли бы вас соблазнить, и это естественно, потому что всякий человек, который любит что-то, если он нормальный, конечно, хочет поделиться предметом своей любви, чтобы другие тоже это любили. И мне показалось, что мы к тексту Пруста должны отнестись так же, как он сам относился к впечатлениям жизни, – в следующем смысле. В одном из мест романа есть такая сцена[57 - S.G. – p. 1028 – 1029.]. Марсель едет на лошади в высоких горах, по тропинке, по которой ему проехать посоветовала герцогиня Германт, сказав, что он увидит экзотический пейзаж; и действительно, он едет на лошади среди скал, и между скал то показывается, то исчезает море, и в этом то показывающемся, то исчезающем море он узнает пейзажи Эльстира (выдуманный им художник; причем Пруст выдумал не только художника, но и произведение этого художника, которое описывается, среди других произведений, в романе). В пейзажах Эльстира (очевидно, один из первых воображенных и немножко улучшенных Прустом импрессионистов) всегда смешивались море, средневековые города, земля, так что трудно было отличить, где земля, где вода, а где каменные дома. И Марсель как бы видит эти пейзажи сквозь проемы скал, и вдруг лошадь шарахнулась от неожиданного для нее звука, и он еле удержал и лошадь, и самого себя от падения, поднял голову на источник звука и – это было первый раз в его жизни – увидел аэроплан над своей головой. Аэроплан парил примерно в ста метрах над его головой, попарил, помахал крыльями и исчез, и душа Марселя переполнилась непонятным и в то же время ясным для него ощущением другой жизни. Не той жизни, которой он живет, не той жизни, которая привычна, и не той жизни, которую можно угадать, потому что мы своим воображением угадываем что-то, что называем другой жизнью, но в действительности это – не другая жизнь, а продолжение нашего воображения. Наше воображение, как часто говорил Пруст, не может представить себе незнакомую ситуацию, потому что даже незнакомое наше воображение складывается из знакомых элементов, и мы в принципе не можем вырваться (естественным образом не можем вырваться; что-то нам должно помочь, или мы сами себе должны помочь) из сплетения известных элементов[58 - Fug. – p. 424.]. Так что это воображаемое не есть «другое». А вот в том ощущении, которое он ассоциировал со звуком планирующего самолета, он представил себе какую-то совершенно абстрактную, неясную, но переполняющую его радость, ощущение другой жизни, другого «я», то есть другого самого себя[59 - S.G. – p. 1028 – 1029.].