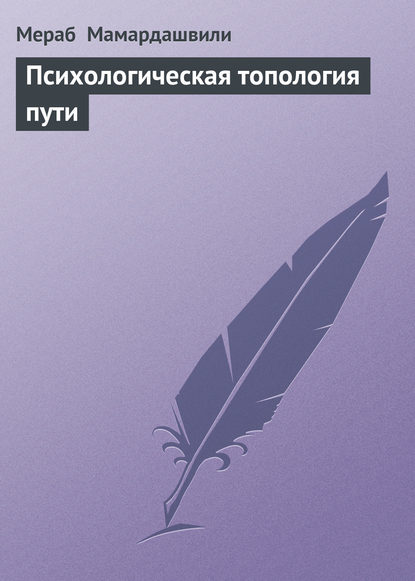По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Психологическая топология пути
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Начнем с того, что, во-первых, установлен закон, что впечатление есть что-то, в чем мир правдив. Там уже прозвучала истина. Правда, она тут же ушла вбок, как мы знаем. Ушла в снежную бабу, наращенную тем, что мы не работали над реализацией, а не работая над реализацией, мы забыли (мы заняты самолюбием, страстью, привычкой, рассудочными наблюдениями и т д.). Значит, мир правдив. То есть я уже нахожусь в какой-то реальной жизни, не зная этого, и этот факт моего нахождения в реальной жизни прислал ко мне феномен как бы снаружи. Пришел феномен. Ну, случайно Пруст обратил внимание на танцующих девушек, хотя не понял сразу, где это событие произошло. Но потом такого рода события будут совершаться подряд. Будет целое скопление точек таких событий, и, наконец, реализуется – одно событие. Так же, как плиты Венеции случились во дворе Германтов, где он снова споткнулся о неровности плиты, и снова это произошло. Но уже всплыло реальным живым присутствием то, что происходило в прошлом. Не рассудочно вспомнилось, а само пришло. Это – феномен. Так вот, мы можем сказать, что мир правдив и пришел к нам в виде феномена, потому что мы уже двигались в реальности, двигались в истине, но впечатления раньше входят в нас, чем мы входим сами в себя. Этот интервал весьма растянут. И более того, я говорил – этот интервал может даже занимать несколько человеческих жизней. И вот впечатления входят в нас раньше, чем мы вошли в себя, и, следовательно, полнота их, осуществление впечатления предполагает наше полное присутствие. Мы перед лицом впечатления находимся, как выражается Пруст, в полном составе самих себя[221 - См.: Sw. – p. 178; T.R. – p. 1047.]. А этого в эмпирической жизни, идущей стихийно, не бывает. И вот что пишет Пруст в контексте объяснения, зачем вообще нужно заниматься писанием художественного произведения (романа и т д.). Для Пруста то, что называется искусством, неотделимо от того, что греки называли арето, то есть честь, добродетель, – в каком смысле? В смысле полного присутствия всеми частями своего существа в момент действия или в момент восприятия, или перед лицом чего-нибудь. (Кстати, Валери тоже беспокоила эта проблема. Он ужасно не хотел быть курицей, которая бессмысленно высиживает яйца. Антонена Арто тоже интересовала мысль, а не отдельные законченные продукты мысли. Так же и в случае Валери – не отдельные законченные, как статуи, художественные шедевры, а смысл, само художественное производство и место его в жизни. И поэтому Валери говорил, что высшим человеком является не тот, кто способен иметь какие-то способности и выносить их наружу в виде каких-то продуктов, а тот, кто овладел собой во всем объеме своего существа[222 - Валери, Поль. Об искусстве. М., 1976. С. 600.]. А наш объем ничего не стоит. Хотя я себя за волосы поднять не могу, но все-таки тем объемом, который заключен вот в этой моей оболочке перед вами, ничего не стоит овладеть. Но в действительности я, как и любой человек, как и вы, распростерт невидимым образом в тысяче удаленных от меня или от вас точек пространства и времени. Там наши части. И в момент восприятия они не все присутствуют. И тогда мы чего-то не воспринимаем.) И вот Пруст пишет: «Все те чувства, которые заставляют нас испытывать удачи или неудачи реального персонажа, производятся в нас только посредством образа»[223 - Sw – p. 85.]. То есть то, что не связано в образе, безразлично и не действует на нас. Образ есть промежуточный источник превращения чего-либо в источник эмоций. Это понятно? Вот, скажем, чтобы увидеть улицу, чтобы она подействовала на меня как улица с соответствующими эмоциями и пр. состояниями, она должна иметь отношение к промежуточному образу. Принять форму этого образа и тогда войти в меня источником какой-то мысли (нечто вроде кантовского априорного пространства и времени, если вы хотите такую ассоциацию). Значит, какие-то радости, приключения реального персонажа вызывают в нас эмоции через посредство образа удач или неудач этого реального персонажа, то есть человека. «И изобретательность первого романиста состояла в том, что он понял, что в аппарате наших эмоций самым существенным элементом является образ, и, поняв это, он ввел упрощение, которое состояло в том, чтобы просто и прямо элиминировать реальные персонажи»[224 - Ibid.]. То есть ввести вместо них фиктивный, романический персонаж. (И дальше Пруст поясняет, почему это – улучшение дел, почему мы тогда лишь начинаем что-то видеть. Я говорил вам: когда я рисую что-то, я рисую не то, что вижу, а рисую, чтобы увидеть…)
ЛЕКЦИЯ 13
29.05.1984
В самые последние минуты прошлого занятия я читал вам цитату, в которой мы увидели странную особенность нашей души. Особенность, состоящую в том, что душа не всегда присутствует там, где надо, а если присутствует, то только частично. Пруст говорил: если мы и воспринимаем несчастье другого человека, то только частью своего существа, потому что мы должны по природе своей все совершать в последовательности[225 - Sw. – p. 85 – 86.]. Сначала A, потом B, потом C и т д., мы не можем воспринимать все сразу. То есть держать в одновременности многое человеку невозможно. Или, иными словами, время как последовательность есть человеческая форма времени. Вполне можно представить себе какие-то другие существа, иначе организованные, которые не воспринимали бы события в такой последовательности. Но всякое событие должно принять эту форму, или, как говорит Пруст, форму образа. Следовательно, форма, о которой мы говорим, есть наглядная форма. Всякое событие должно принять эту форму, чтобы войти в нас, чтобы мы могли на него как-то реагировать. Если оно не принимает такой формы, то оно вообще остается в другом мире или вне нашего внимания. Я надеюсь, что вы сразу же узнали кантовскую тему в ее подлинном виде. То есть не в виде субъективизма, агностицизма и т д., а в виде того, что есть нечто, некий универсум (или вещь в себе), который живет своей жизнью и который, для того чтобы мы могли что-нибудь в нем увидеть, должен принимать формы нашей, доступной нам, чувствительности, наших, доступных нам, форм. Более того, и сам человек, который переживает несчастье, как говорил Пруст в этой цитате, тоже не всеми частями своей души и не всеми способностями сразу может его испытать. Оно как бы последовательно развернется в нем. И великим изобретением было – замена реальных существ, то есть тех, которые осуждены на то, чтобы все испытывать только в последовательности и не сразу, замена реальных существ фикциями. Литературными фикциями, или – в других случаях именно такого рода фикции я называл текстами в широком смысле слова. Тексты суть продукты воображения или результаты продуктивного воображения. То есть они не есть продукты нашей психологической способности воображать – потому что воображаем мы вещи те же самые, реальные, но которые отсутствуют в этот момент. И этим вещам, которые мы воображаем психологически, свойственны наши же способности воображения. Они тоже – в последовательности, они тоже – не все сразу и т д. Следовательно, когда речь идет о тексте или о фикции как продукте воображения, мы под «воображением» должны понимать что-то другое. В философии это условно называли трансцендентальным, или продуктивным, воображением (но это просто слова, чтобы предупредить читателя, чтобы он не отождествлял это воображение с психологически известной ему способностью воображения). Значит, введение каких-то существ, которые нереальны и которые ведут какую-то свою жизнь, – вот что Пруст здесь называет шагом вперед. Великим изобретением. И вот они ведут такую жизнь, так они разворачиваются, обладают такими свойствами (нашим отношением к ним), что они как-то компенсируют и корригируют нашу психологическую неспособность быть сразу во многих местах, сразу иметь многое, нашу обреченность на то, что все можно испытывать только в последовательности (это очень важный пункт). Пруст будет употреблять разные слова, чтобы об этом говорить. Он будет называть это «фиктивными существами» романа, он будет называть это «прозрачными» или «интеллигибельными» телами[226 - C.G. – p. 48.]. Очень странные термины, за которыми скрываются глубокие проблемы, и сложность как раз в том состоит, что их очень трудно развернуть. В традиционной философии и в сегодняшней философии (и тем более в эстетике, которую я, простите меня, вообще не знаю, может быть, там есть что-то, но мне не встречалось, во всяком случае) просто нет даже слов и терминов для того, чтобы об этом рассказать. В этом как раз состоит моя трудность и ваше мучение. Ну, скажем, обратите внимание на следующее сочетание слов: в той цитате, которую я приводил, Пруст говорит (когда дает характеристику этих фиктивных существ) – что в них романист замещает части, непроницаемые для души, частями, проницаемыми для души[227 - Sw – p. 85.]. Когда мы слышим такое словосочетание, мы склонны сразу же привычным образом это понимать (то есть рассудочно): проницаемые для души – это то, что я могу понять. Нет, Пруст имеет в виду, что есть некоторые материальные образования, которые своей же материей дают свой собственный смысл. (Вот я напишу вам какой-то знак, скажем, букву М по-грузински. Это материальное образование на доске вы каким-то особым отдельным актом соотнесете с каким-то смыслом. Оно само этого смысла своей материей не дает. Более того, известно, что если, скажем, вы слышите просто какую-то форму в любом языке, а язык состоит из фонем, то можно показать, что физические качества звука не содержат причины того, что вы слышите эту фонему. Иначе говоря, тот факт, что вы слышите М, не определим физическими качествами этого звука.) Короче говоря, Пруст имеет в виду особые телесно-духовные образования, восприятие которых нами совершается вне необходимости совершать опосредующие акты рассудочного мышления. Иногда он употребляет термин, заимствованный им у Леонардо да Винчи (кстати, Поль Валери тоже уткнулся в этот термин и был им заворожен), – cosa mentale[228 - См.: J.F. – p. 500; S.B. – p. 640, 604.]. Ментальная вещь. Имеется в виду не вещь, которая есть в голове у тебя, – ведь психологичски мы представляем себе, что все вещи в каком-то особом непространственном виде находятся в нашей голове, – вещь, но умственная. Умственная, но вещь. Он так говорил (Леонардо да Винчи) о живописи: живопись есть cosa mentale. Ментальная вещь. Он имел в виду, что изображение не есть о чем-то рассказывающее нечто, помимо себя или вне себя, а есть изображение – самоговорящее, порождающее наше состояние: когда мы его воспринимаем, оно действует в нас вещественно. Это же называется у Пруста впечатлением. В феноменологии это же называется феноменом. И вот само введение этих существ, говорит Пруст, держит вокруг себя скорость нашего дыхания, биение нашего пульса и интенсивность нашего взгляда. «И когда романист привел нас в такое состояние, в котором все наши естественные состояния происходят в удесятеренном виде, тогда мы проживаем больше и с большей интенсивностью, чем в реальной жизни мы прожили бы за десятилетия или за столетие, потому что в реальной действительности даже изменения мы не можем воспринять, потому что размерность изменений больше размерности нашего восприятия; в том числе и изменение нашего сердца, и это большая беда; но мы узнаем об этом изменении только через чтение, в воображении; в реальности оно меняется довольно медленно. Настолько медленно, что мы, последовательно проходя в нашей размерности состояния этого изменения, не можем вообще даже иметь чувства этого изменения»[229 - Sw. – p. 85 – 86.].
Значит, сначала я сказал, что есть какие-то особые образования, которые и материальны, и духовны. Они духовны в том смысле, что, снимая опосредующий акт заключения, сами себя показывают. Самим же телом показывают. Скажем, Пруст, описывая пение и игру Бермы, говорит об интонации Бермы, что она – прозрачная для души[230 - C.G. – p. 48.], имея в виду, что за представшим нам телесным обликом нет еще чего-то. Он сам есть это «что-то». И значит, эти существа, которые одновременно и материальны, и духовны (это же не просто психологические фикции нашего психологического воображения), которые компенсируют нашу неспособность одновременно быть в разных точках или во многих точках, они, оказывается, еще дают нам и другое время. Или другое пространство. Они дают нам компрессию времени. То время, которое мы должны были бы пройти за десятилетия, и ту интенсивность, которую мы могли бы накопить за эти десятилетия, они дают нам в другом масштабе времени – они компрессируют это время. То есть время некоего у-топоса. (Я ввожу классический термин «утопос», Вы знаете его по слову «утопия», но оно затаскано в нашем обыденном словоупотреблении, и смысл потерялся. Ведь действительный исходный смысл – топос, то есть место, у – негативная частица или отрицание; утопос – несуществующее место. Отсюда и родилось слово «утопия».) И вот, оказывается, несуществующие места, или утопосы, – весьма существенная конститутивная часть нашей души, нашей способности переживать что-то иначе, чем позволила нам природа. Природа нам позволила идти в последовательности и не позволила нам одновременно многого. Значит, мы не можем – ни долго, ни много. И вот есть у нас, оказывается, какое-то измерение утопоса, в котором иначе организуется наша сознательная жизнь. И все, что Пруст называет впечатлениями, есть как бы посланцы, гонцы другой организации сознательной жизни. Поэтому я вас предупреждал, что все это бред, когда говорят об импрессионистах, о Прусте, о Джойсе, о модерном искусстве, что это – субъективизм и замыкание людей в мире собственного сознания в пренебрежении к объективной реальности. То есть – вместо того, чтобы снять шляпу перед объективной реальностью (как есть вещи на самом деле), люди замыкаются в мельчайших своих ощущениях, впечатлениях (как, например, Фолкнер, Вирджиния Вульф). Я вас предупредил, что проблема состоит в том, что эти критики предполагают само собой разумеющимся существование объективной реальности, и само собой разумеется, что они знают, что такое объективная реальность. То есть достаточно посмотреть на нее, а не на себя, и ты увидишь. Когда ты посмотрел на себя и замкнулся в себе – это плохо. Так вот, вся проблема этого искусства состоит в том, что впечатления, которые имеют свой континуум развития, есть гонцы или посланники другой организации сознательной жизни, и эта другая организация сознательной жизни и есть проблема выхода на действительную реальность. Как раз то, что обычно мы называем объективной реальностью и в уходе от которой мы упрекаем художников, как раз это и есть майя, как говорили на Востоке. То есть – ирреальный туман. И впервые о том, что есть реальность, мы узнаем из впечатлений, и если двигаемся с ними, то мы решаем проблему выхода на то, каков мир на самом деле. Поэтому все эти сложности: смешение пластов времени, феноменологическое занятие развитием впечатления как такового или существование впечатления, а не чего-нибудь другого – все, что внешне выглядит у Пруста как копание во внутреннем субъективном мире, все это было проблемой не внутреннего субъективного мира, а проблемой выхода на реальность. И значит, что мы тогда получаем? В самом начале XX века произошел, и мы ощущаем это через текст Пруста, как бы геологический сброс, или перелом, человеческого мышления. Параллельно с творчеством Пруста в профессиональных философских местах этот же перелом, или сброс, мышления выражался в виде развития феноменологии и экзистенциализма. Иными словами, одним из признаков перелома была знаменитая проблема феноменологической редукции. Я сейчас коротко поясню, что это значит.
Во-первых, хочу обратить ваше внимание на то, что когда Пруст говорит о впечатлениях, он чаще всего говорит (не тогда, когда ему нужно развить эстетический эффект, а когда ему нужно, как бы со стороны посмотрев на себя, сказать, что это такое), что нужно воспринимать то, что он называет впечатлением, в последовательности его самого, а не в последовательности причины (чаще всего в таком сочетании)[231 - См.: T.R. – p. 874; Fug. – p. 532, 533.]. Во-вторых, когда мы имеем дело с прустовскими впечатлениями, мы видим, что чаще всего речь идет не о содержании впечатления, которое поддается ментальному развитию, а о существовании самого впечатления. Как бы само впечатление, а не его содержание. И вот здесь-то и заложены (я частично говорил об этом) все корни сложной феноменологической абстракции, которая требует от нас уловить существование впечатления как отличное от его же собственного содержания. Почему это нужно сделать? По одной простой причине: в содержании всегда заложено переживание нами этого содержания, а переживание нами любого содержания всегда имеет своим элементом представление о причине этого содержания или впечатления. А причины – содержат в себе то, что уже Гуссерль называл предпосылками, допущениями. Допущениями о том, как устроен объективный мир. И эти допущения должны и быть подвергнуты редукции. Иначе мы не услышим ничего. Мы не услышим того, что говорит нам впечатление. Представьте себе, что вы рады есть пирожное «мадлен», потому что оно вкусное, – я простое содержание вам привел. Ну, какое может быть содержание у пирожного «мадлен»? Пирожное есть предмет в объективном мире. Более того, мое восприятие этого предмета и моих состояний, вызванных этим предметом, всегда содержит в себе понимание или представление причины моих состояний. Если я рад или мне вкусно, то это потому, что пирожное таково. То есть качество пирожного вызвало во мне состояние, которое я переживаю (состояние радости, удовольствия). А теперь представьте себе, если бы Пруст таким образом понял свою собственную радость. Он не услышал бы того, что говорит впечатление, странным образом его волнующее. Странным – несводимым к материальному составу случившегося. Оно несводимо – пирожное есть пирожное; так же, как женщина есть женщина, – там тоже феноменологическая редукция нужна. Потому что отнюдь не само собой разумеется, что раз Альбертина обладает качеством A, поэтому у меня любовь к ней. Это не само собой разумеется. А у меня – любовь. Почему? Если не проделать феноменологической редукции, то потому, что Альбертина хороша. Тогда – если ты думаешь потому, что Альбертина хороша, – ты пробежишь весь инфернальный адский цикл всех иллюзий, разочарований и т д., которые пробегает наш автор, который, конечно, начинает с иллюзий. Но он-то начинает свой бег, такой, концом которого может быть разрубание, разрушение последней иллюзии, подлежащей уничтожению. Значит, – существование в отличие от содержания. Феноменологическая редукция. Так вот, феноменологическая редукция есть операция, посредством которой мы разрываем или приостанавливаем действие в себе экрана, который в нас существует. Приостанавливаем представление, понимание, что предметы – как причины, которые вызвали во мне те или другие состояния, есть экран между нами и миром. И редукция тебе говорит: приостанови. Она тебе не говорит, что пирожных в мире нет, что предметов в мире нет, что они не действуют на нас. Да нет, она требует сдвига понимания, подвешивания наших уже предсуществующих и причинностью наполненных, нагруженных представлений. Повторяю: подвешивание уже предсуществующих, причинностью нагруженных представлений. Она требует приостановки этого как бы автоматического действия каких-то предметных картин в нашей голове. А это самая большая проблема для человека. В нас есть предметные картинки, и они действуют на нас, и то, что нам кажется продуктами нашего мышления, есть просто проявление действия этих предметных картинок в нас. Неких, как выражался Пруст, кинокадров, которые нас завораживают своей сменой[232 - См.: T.R. – p. 882.]. И тогда – что же оказывается феноменом? Феномен есть то (я сейчас сложную фразу, вернее, не сложную, а содержащую, так сказать, местоимение незаконным образом построю), что само себя в себе показывает.
Вот, например, само себя в себе показывает у Пруста тело маркиза (он тогда еще титула не носил, но будем называть его маркизом) Сен-Лу, друга Марселя. В романе есть поразительная сцена – кстати, она есть в первом наброске романа, который был позабыт и отброшен Прустом (он назывался «Жан Сантей»), и эта сцена, уже иначе изложенная, повторяется в «Поисках утраченного времени»; очевидно, это устойчивая тема самого Пруста, и хотя она повторяется совсем иначе и другими словами, но какие-то ключевые тематические мотивы сохраняются. Ну, а Сен-Лу нужен Прусту в данном случае для того, чтобы прокрутить в своей голове проблему дружбы. Дружбы – как области, в которой что-то может случиться, чем можно обогатиться, и может ли вообще человек реализовать себя в дружбе. Вы знаете, что Пруст весьма пессимистически думает о дружбе[233 - См.: C.G. – p. 394 – 395; S.B. – p. 186.]. Поскольку дружба обычно сводится к интеллектуальной связи или к духовной связи и тем самым не несет с собой риска, то есть личной опасности, то она меньше обогащает человеческую душу, и ты меньше себя в ней реализуешь, чем в самой низкой и в самой сенсуальной любви к женщине, которая никакого отношения к миру идей, к миру интеллектуальному не имеет[234 - См.: J.F. – p. 833; T.R. p. 907.]. Как ни странно, хотя она не имеет отношения к интеллектуальному миру, как раз в духовном, интеллектуальном смысле может тебя больше обогатить, потому что обогащают тебя только те испытания, которые с риском для тебя самого были тобой проделаны. Когда ты стоял на карте. В дружбе же этого нет. В дружбе есть феномен общения и присутствия, который мешает тебе быть одному. А в любви ты один. Я говорю слово «риск», а это есть то же самое, что сказать «одиночество». Потому что ведь мы умрем несчастными, а не кто-нибудь другой за нас. Поэтому там, где есть риск, там есть одиночество. В риске мы одиноки. А одиночество – условие того, что мы развиваемся. В дружбе нет одиночества еще и потому, что дружба чаще всего есть способ для нас избежать нашего собственного одиночества. Иначе говоря, все явления вроде дружбы, светского салона, интеллектуальных разговоров и т д., все эти явления являются как бы производными или вторичными, иллюзорными средствами для нас разрешить angoisse. То, что французы называют angoisse, а немцы называют Angst. Можно по-разному это называть. То, что вошло в популярную литературу под названием «страха». Иначе говоря, в дружбу мы ударяемся[235 - C.G. – p. 398.]. Из того, что я говорю, не вытекает, что не должно быть дружбы, что нельзя дружить и т д. Нет, не надо так спешить, хотя к этому довольно трудно выйти. Но если подумать, то мы не можем не думать без жестокости. (Я сказал, что мы занимаемся вслед за Прустом философией жестокости. Если Арто мечтал о театре жестокости, то вот и я, вслед за Прустом, предлагаю философию жестокости. В смысле: жестко мыслить.) Так вот, мы ударяемся в такого рода отношения, чтобы закрыть перед самими собой страх, который мы не можем не испытывать. Какой страх? Что это за страх – angoisse? Одиночество. Ощущение того, что есть что-то, чего никто не может сделать за тебя, во-первых, и во-вторых, то, что ты должен сделать, очень хрупко. Для этого нет никакого само собой налаженного механизма, на который ты мог бы опереться. И это, конечно, страшно, потому что может не получиться. И тогда погибнет жизнь. Вот что называется страхом. В философии XX века, скажем, в феноменологической, экзистенциалистской литературе angoisse не означает конкретного психологического страха перед чем-то. То, что называется страхом, есть нечто, сопровождающее ясное сознание ответственности перед своим предназначением. Твой подлинный путь, настоящий, твоя подлинная жизнь, развернется, если ты пройдешь путь предназначения. Но на пути этом нет костылей. И это страшно. Вот весь страх. Но всегда есть «помощники» нам в этом страхе (у переводчика есть так называемые ложные друзья переводчика; и у нас есть ложные друзья). Очень часто общение является просто способом избежать этот страх. Дружба является таким способом. И т д. Некоторые мысли являются прикрытием этого страха.
Кстати, о мыслях. Я немножко в сторону отойду, чтобы пояснить, бросить, так сказать, в обратном порядке свет на наши занятия. На смысл того, почему мы вместе и занимаемся тем, чем занимаемся. Дело в том, что в человеке самое привлекательное и что является, действительно, зрелищем, перед которым можно снять шляпу, – это его стояние на пределе с усилием. То есть стояние на пределе всего возможного. Не так давно вышла книга «О чтении», в ней в виде отдельного эссе опубликован текст Пруста, который в свое время был написан в виде предисловия для сделанного им перевода книги Джона Рескина, английского эстетика и философа. Эссе замечательное, одна из лучших, по-моему, философских работ, какие я знаю; хотя такая непритязательная, красивая. Обязательно ее прочитайте. И вот там видна эта нота Пруста – преклонение перед всякими проявлениями человеческого усилия. Но – усилия, которое не убегает от фундаментального страха. Чтобы не убежать от страха, нужно усилие. А когда мы не делаем усилия, мы дружим, общаемся и т д. Это не требует усилия. Частично это и есть ответ на то, почему мы занимаемся Прустом. Потому что сам Пруст относится к такого рода великим людям, и у него мы можем прочитать буквально ответ на заданный мной вопрос: зачем нам Пруст? Он писал так – в связи с другими великими людьми, а мы можем это повторить в связи с ним самим: «По сути дела всякий великий человек, всякое прекрасное произведение возвращает нам веру в жизнь и в мысль, а посредственное произведение оставляет нас без всякой надежды»[236 - J.S – p. 489.]. Или посредственный человек. Конечно, не в смысле иерархии талантов – я имею в виду красоту усилия, а не иерархию по замерениям способностей. Обратите внимание, что «посредственное произведение оставляет нас без всякой надежды». То есть надеяться можно, только увидев пример усилия, потому что надеяться больше не на что. Можно надеяться только на усилие. Нет фундамента для человеческого стояния. А все остальное оставляет нас в отчаянии и в безнадежности. И, повторяю, лишь редкие примеры зрелища человеческого усилия могут вернуть нам надежду, веру в жизнь и в мысль. Ну, а в мысль надо верить, хотя я все время пытался показать, что мысль маловероятна, и это есть проблема Пруста. Маловероятно помыслить, потому что нет налаженных механизмов. А дальше он пишет: «Может быть, наша вера или наше сомнение выражают лишь ценность или степень бытия нашей мысли. И наше разочарование или наше удовлетворение, после того как мы написали что-то, – ценность того, что мы сделали»[237 - Ibid.]. Значит, есть что-то, что мы сделали, а есть еще состояния, в которых есть ценность того, что Пруст называет степенью бытия нашей мысли. Степень бытия мысли.
Так вот, я возвращаюсь тем самым к проблеме феномена. Ведь я сказал «существование впечатления», а не содержание впечатления. Иными словами, в проблеме феномена в XX веке мы столкнулись (и в литературе, и в философии) с проблемой бытия мысли, или существования мысли. Мы мысль рассматриваем обычно как отражение бытия. Ну, как есть какая-то реальность, а в голове некоторых существ пробегают какие-то тени, дубли, двойники этой реальности (называемые нами образами, мыслями и т д.), не имеющие никакой консистенции, содержание которых есть отражаемые предметы. А у мысли, оказывается, есть бытие. Бытие мысли. Мы уже знаем, что бытие мысли мы можем уже понять: бытие мысли есть когеренция усилия со многих точек – сейчас и здесь. Повторяю, когеренция усилия со многих точек и пространства и времени – сейчас и здесь. Это есть именно бытие, а не психика, потому что в нашей психике мы не можем быть во многих точках одновременно. Более того, мы не можем концентрацию нашей мысли удерживать на одном и том же уровне, или в одной и той же степени, как выражается здесь Пруст. (Кстати, снова дам вам немножко передохнуть после этого теоретического пассажа; вернусь к более легкой цитате из Пруста, где он как раз об этом говорит в более облегченном виде.) Значит, фактически мы ввели проблему удела мысли. Или то, что французы называют в широком смысле: condition humaine. Условно можно сказать так: удел человеческий. Фундаментальное положение человека в мире. Так вот, у мысли тоже есть такое фундаментальное положение. Ну, хотя бы то, что она маловероятна, хрупка и ее бытие есть когеренция в усилии со многих точек – сейчас и здесь, в некоей полноте и уникальности индивида, который полностью присутствует – сейчас и здесь. И вот, говоря об этом condition, Пруст пишет: «По сути дела в режиме нашей мысли, как и в гигиене нашего тела, так же как в поиске добра или счастья, в доверии нашим друзьям или в вере в нашу любовницу, или в вере в какую-нибудь цель, мы трепыхаемся между верой и сомнением, или мы испытываем их почти что одновременно». То есть одновременно находимся как бы на границе двух видов существования. «На пороге как бы двойного бытия», если выразиться словами Тютчева. Одновременно – и сомнение и вера. И – для этого я все это приводил – «И мы никогда не знаем, не проигрываем ли мы в этот момент свою жизнь»[238 - Ibid.]. Вот я возвращаю вас таким простым пассажем к краху.
Делаем следующий шаг, возвращаясь к нашим, так сказать, псевдотеоретическим проблемам, то есть к проблемам феномена, – тут у Пруста есть совершенно особый ход, который я обозначу следующим образом. Значит – тема впечатлений. В этих случаях Пруст иногда вспоминает Декарта, его проблему очевидности, и всегда говорит о радости[239 - См.: J.S. – p. 398, 490, 703; S.B. – p. 132.]. Радость есть какой-то особый сопровождающий признак того, что называется впечатлением. Мы уже назвали эти впечатления феноменами. Мы сказали, что они онтологичны, – раз речь идет о бытии и о существовании, а не о содержании в нашей голове. Так ведь? Итак, я помечаю, что феномен в отличие от явления характеризуется онтологично. Явление – гносеологично. Что такое явление, грубо говоря? Явление – это то, что является материалом, за которым мы можем расшифровать сущность, Так ведь? Ну, например, движение Солнца по небосклону есть явление, посредством которого, пользуясь им как данными наблюдения, я могу реконструировать нечто иное. И именно – движение Земли. То есть сущность того, что я вижу. Следовательно, само это, называемое явлением, в каком-то смысле не обладает существованием, оно есть лишь материал моего заключения. Это понятно? То есть все, что называется явлениями, это есть материалы или данные наших заключений, которые сами по себе не имеют онтологического статуса. И если мы так говорим о впечатлении, то мы приписали впечатлениям или феноменам онтологический статус. Следовательно, нечто называется феноменом как имеющее онтологический статус в отличие от явления. Хотя лингвистически «феномен» и «явление» – два одинаковых слова. Просто «феномен» – оставшийся латинизм, а «явление» – русское слово. Но для того, чтобы различать, одно берется в латинском варианте, а другое в русском варианте, в данном случае. В том числе и в грузинском нужно делать то же самое. Наше исконное грузинское слово брать как относящееся к явлению и брать латинское «феномен», чтобы обозначить особый вид явлений. То есть тот, который не является просто материалом заключения о чем-то другом позади него самого. Почему? Потому что феномен есть нечто, что само в себе о себе рассказывает. И каждый раз явление сопровождается признаком радости. Радость как бы сопровождает явление (явление в смысле феномена или впечатления). И оно (явление) уподобляется картезианской очевидности. И здесь как раз есть серьезная проблема, которую мне очень трудно ввести. Я все-таки ее введу, но, скорее, как предмет ваших собственных экзерсиций, чтобы вы поломали потом над этим голову и сами для себя продумали, что это, как это…
Вот мы помним нечто. Нечто есть в нашей памяти – следы каких-то событий или прошлого запечатлены в нас. И мы это часто называем памятью. Но дело в том, что когда мы вспоминаем какой-то след, то мы вспоминаем именно этот след; и мы думаем, что содержание этого следа – будьте внимательны – и есть память. Или то, что есть в памяти. И мы не замечаем, что кроме содержания, вспомненного, есть еще одна операция, которая все время ускользает, на которую не обращают внимания, – операция, состоящая в том, что нужно еще узнать, что это есть именно это. Что след лица – вот, который передо мной, есть след именно этого лица. А это уже отдельная операция. И когда она совершилась, ее отдельность и обозначается словом «очевидность». Например, даже в логике есть содержание (и в математике) аргумента или доказательства, а есть еще аура убедительности этого доказательства. Нечто, что заставляет нас принять доказанное содержание. Так вот, доказанное содержание и нечто, заставляющее нас принять, – разные вещи. И дело в том, что эта еще одна какая-то операция согласования вспомненного следа с тем, следом чего этот след является, всегда совершается сейчас и здесь, в момент и присутствует целиком. Это согласование неделимо. И вот явления такого рода неделимых вещей и есть нечто, что у Пруста сопровождалось радостью. Радость, которая есть критерий истинности, разворачиваемой потом из содержания картины. Скажем, Пруст описывает некоего писателя, который никогда не занимался теми мыслями, которые можно было развить, – мы всегда имеем мысли как сюжеты, которые мы можем развить по содержанию[240 - См.: J.S. – p. 398 – 399.]. Вот то, что можно получить так, не есть мысль. А мыслью будет только то, что будет сопровождаться радостью. Или будет находиться в состоянии очевидности или радости. То есть там, где – не я развиваю впечатление, а впечатление само развивается, не оставляя пустот, в которые я мог бы втиснуть свою рассудочную интерпретацию. Значит, к тому, что называют феноменом, впечатлениями, я добавил тот факт, что они находятся в другом разрезе, то есть – не в последовательности, а сейчас и здесь. Для этого, кстати, приходилось в философии (Лейбницу, например) вводить понятие предустановленной гармонии. Очень часто понимают это буквально, а в действительности необходимость в этом понятии как раз и заключалась в том, что философы уловили, что существует дополнительный акт (о котором я сейчас говорил), и непонятно, каким образом он в далеких временах и пространствах может осуществляться. Нужно представить очень длительную онтологическую память природы, чтобы предположить, что в момент, когда я увижу этот след, совершится это согласование. Каким-то образом это налажено так, чтобы я через энное время узнал бы. Потому что эта операция узнавания не дана предметом. Если я сказал, что помимо самого предмета, вспоминаемого содержания предмета есть еще что-то, то я это «что-то» ведь не могу вывести таким образом. Ну, конечно же, через сто лет или на сто километров передали предмет, и он вызвал там, в той точке пространства и времени, через сто лет и сто километров, вызвал это состояние… Нет, я сказал: оно еще должно быть согласовано. Каким образом? Где хранилось это согласование? Поэтому Пруст все время и спрашивает, с самого начала своего романа, – где хранится? Конечно, говорит Пруст, Бергсон считает, что наша память содержит впечатления, но есть такие впечатления, которые мы не помним[241 - S.G. – p. 985.]. А что за воспоминание, которое мы не помним, можно ли его назвать воспоминанием?[242 - Ibid.] Ставит Пруст такой коварный вопрос. И все время возвращается к этому вопросу, и у него при этом, так сказать, есть помощник: он все время считает, что если есть феномен прозрачной радости, то через него высовывает голову вот это некое дополнительное и необходимое в своей дополнительности согласование, без которого нет понимания и нет впечатления. Значит, в континууме развития впечатления существует жизнь и дление некоторого согласования. Так вот, это согласование у Пруста и приписывается действию некоторых вещей. Вот тех тел, которые есть вещи, но – умы. Умы, но – вещи. То есть cosa mentale. Они являются носителями актов согласования в далеких временах и пространствах.
И в этой связи я должен рассказать вам о теле Сен-Лу. Обратимся к цитате. Значит, Пруст описывает и в том и в другом романе сцену в ресторане. Сен-Лу – это образ аристократии у Пруста, а аристократия есть образец свершенности (если и был в Прусте хоть какой-то элемент снобизма, он его из себя выдавливал). В действительности Пруста, как и всякого человека, привлекает всякая свершенность. Аристократия есть свершенность. Конечно, каждый отдельный аристократ может не соответствовать этому. По той простой причине, что по закону устройства мира все разыгрывается заново в каждую данную минуту. Теперь я возвращаюсь к данной сцене. Между Сен-Лу и Марселем интеллектуальная дружба, основанная на том, что Марсель, умный и артистически одаренный человек, привлекает маркиза Сен-Лу. И вот они сидят в ресторане, там, где они сидят, сквозняк, и любезный Сен-Лу предлагает Марселю, наделенному хрупким здоровьем, пальто. Сен-Лу вскакивает на край дивана и так проходит по всему ресторану. А Марсель смотрел на тело и видел, что это было «прозрачное» тело[243 - См.: C.G. – p. 414;.J.S. – p. 453.]. То есть тело, которое само, не обладая данными для нашего опосредующего заключения о чем-то, стоящим за этим, само в себе рассказывало всю аристократическую сущность. Содержало в себе воспитание, аристократическую сущность. Содержало в себе воспитание, предполагающее владение шпагой, физическую сноровку, когда тело есть абсолютно покорный, не содержащий ничего инородного инструмент духа. Тело, ни одна частица которого не инородна духу. Оно осуществляет движение, в котором не было ничего чужого смыслу этого движения, тому, что оно показывало. Такое полное владение телом. Другой пример таких тел: Берма изображает Федру в классической трагедии Расина. Что может быть общего между гимнастическим курбетом Сен-Лу и высокой идеей театра? – интонация Бермы и – «прозрачное» тело, в котором нет ни одной материальной частицы, инородной по отношению к смыслу, сказанному, пропетому и высказанному. Значит, у нашей очевидности или у этого согласования есть такого рода носители. Такого рода сущности, называемые нами феноменами, которые представлены полностью своей же материей. Феномен – это сущность, полностью представленная своей материей. Такого обычно не бывает. А в случае феномена мы имеем сущность, повторяю, полностью представленную своей материей. Эту же вещь Пруст называет крупными мыслями Природы или сильными идеями Природы[244 - См.: J.S. – p. 396, p. 471; C.G. – p. 48, 459.]. Например, сильной идеей Природы является цветок. Это – сильная идея Природы. Сильными идеями Природы являются все вещи, которые в свое время Гете называл архетипами. Скажем, копыто лошади есть, безусловно, сильная идея или крупная мысль Природы. Глаз – такое же изобретение Природы. То есть он своей материей дает свою же собственную функцию – полностью и совершенно. Полное и совершенное присутствие. Крупная мысль Природы (Жак Превер крупной мыслью Природы называл и женщину; он добавлял, что это крупная мысль Природы, но мысль – танцующая.) И вот тело Сен-Лу тоже есть крупная мысль Природы. И человек, который ищет феномены и хочет через феномены увидеть, понять мир, ищет крупные мысли или сильные идеи. Они и дают радость. То есть – очевидность того, что рассказ о содержании такой идеи будет подлинным рассказом, будет воспроизводить подлинную реальность – поскольку есть критерий этой радости или очевидности. А не есть просто головное развитие мыслей, не имеющих субстанции реальности (те рассудочные мысли, когда мы развиваем содержание). Значит, впечатление в своем континууме развивается не по содержанию, а по каким-то своим формальным условиям. Я сказал бы: по топосу, по какому-то пространству, в котором выполняются в совершенном и в полном виде все действия или предназначения этого содержания, – а не рассудочное развитие нами этого содержания. В том числе не ассоциации, которые мы своим маленьким умом приводим, не аналогии. Пруст, например, был простив символов, хотя в другом смысле все эти крупные мысли Природы есть также и символы, конечно. Но под символами он имел в виду рассудочные аналогии. Когда мы просто сравниваем одну понимаемую вещь с другой понимаемой вещью – это рассудочная аналогия. А когда связь вещей рождается в акте понимания – это уже метафора (у Пруста), а не аналогия. То есть метафора не есть соединение двух вещей, которые сами собой поняты по отдельности, независимо друг от друга, и мы нашим актом ума приводим их в связь. В метафоре, имеющей как бы два конца, есть нечто такое, что саморождает эти концы. Вот что такое метафора для Пруста (и, очевидно, так оно и есть)[245 - T.R – p 889.].
И вот, наблюдая это тело, испытывая «непонятную» радость («непонятную» – потому что мы-то пытаемся понять, что это за радость) при виде тела Сен-Лу, Пруст сопровождает это восприятие словами, что вот эту красоту, которую природа так устроила, природа позволяет художнику заметить, то есть не пропустить мимо, как раз наделив его способностью радоваться[246 - J.S. – p. 453.]. Если бы он не радовался, она бы прошла мимо. Суть дела, в данном случае аристократическая сущность Сен-Лу, была чем-то, что «целиком присутствовало в этот момент», говорит Пруст. Обратите внимание: целиком присутствовало в этот момент. А я ведь говорил перед этим, что как раз ничего этого нам не дано в нормальном режиме нашей психики. Психики, сращенной с предметами или с реакциями на предметы. Весь поток предметов или наших реакций на предметы движется, и в нем как раз мы не можем всего сразу, мы должны все в последовательности. Мы не можем – ни сразу, ни долго, и все только в последовательности входит в нашу душу, и всегда есть наш бег собирания всего по частям. А тут, пишет Пруст, «все целиком присутствовало в этот момент». Или – нечто, что держит всю свою жизнь в настоящем. Сущность, которая есть в теле Сен-Лу: поскольку это тело – особое, оно как бы держится целиком в настоящем. То есть все прошлое дано в настоящем. И, как выражается Пруст, «в этом случае не было того, что всегда стоит между нами»[247 - См.: J.S. – p. 454.]. А что стоит между Марселем и его другом Сен-Лу? Что стоит в обычной жизни? А стоят еще не познанные части жизни Сен-Лу, еще не охваченные точки времени и пространства, в которых бывал Сен-Лу, в которых он кого-то любил, что-то думал и т д. Представьте себе, что это – не Сен-Лу, а женщина. Ведь мы хотим охватить все точки пространства и времени, на которых она распростерта. Это и есть проблема. Тело любимой женщины не замкнуто в видимой нам наглядно дискретной фигуре, а простирается в бесконечные части пространства и времени[248 - Pr. – p. 100.]. И в ее глазах, как в фацетах, – она не только тебя видит, а еще видит какое-то незнакомое место, куда она пойдет на свидание[249 - См.: Pr. – p. 386.]. И это еще одна точка пространства и времени, в которой ты не присутствуешь и в которую ты можешь прийти только в последовательности. Так ведь? Так вот, этого между, говорит Пруст, не было. Оно было здесь дано «полностью, все целиком для нашей дружбы». И – самое главное теперь по отношению к нашему экзистенциальному бытию проблемы – ведь та бесконечность, которая проходится в последовательности, всегда оставляя еще что-то, что не охвачено в каждый данный момент, есть механизм устройства наших обычных страстей, наших жизненных реакций, которые Пруст условно называет внутренним диалогом[250 - T.R. – p. 891.]. Или страстной встречей с самим собой, в которой мы устремлены в этот бесконечный бег выяснения отношений. Бесконечность – в которую мы вовлечены, включены. В действительности мы выясняем отношения, решаем проблемы и говорим слова в некотором внутреннем диалоге или в страстной встрече с самим собой, а реальность каждый день другая. Например, мы вечером приготовили решающие слова, упреки и т д., которые должны сказать утром нашей любовнице, а утренняя встреча всегда иная, чем мы думаем. И никогда мы этих слов не сможем сказать или скажем в совершенно перевернутом порядке и скажем совсем другое.
Так вот, перед «телом» Сен-Лу нет этого пространства бега. Нет ничего «между нами», он (Сен-Лу) целиком присутствует, говорит Пруст, Пруст здесь говорит, что Сен-Лу был как бы спиритуализированной игрушкой сущности»[251 - J.S. – p. 455.], – вот в этом движении. То есть его тело полностью было отдано в распоряжение, каждой своей частицей, высказываемой сущности. В этом смысле Пруст говорит «спиритуализированная», или одухотворенная, игрушка. Конечно, не в смысле автомата. И тут Пруст говорит очень забавную вещь перед лицом этого тела, и – почему – это есть какой-то ответ на экзистеницальную проблему наших страстей, то есть наших претензий к миру, наших любовей и ненавистей, которые рождаются из этой страстной встречи с самим собой. В этом беге, который мы «между» должны проглотить. Между нами и другими, которые фактически и есть нечто созданное в нашем собственном внутреннем диалоге. И в этих состояниях, когда вот это случилось (примерно то же самое, что Джойс называл «эпифанией», эта тема сохранилась и у позднего Джойса, но название исчезло, а у Пруста называется «впечатлениями»), в этой эпифанической сцене Пруст говорит – когда есть полное присутствие и нет «между»: «…ты понимаешь, что есть любимый объект, в испытании любви к которому отсутствуют причины любить его, отсутствуют качества, из-за которых мы его можем любить»[252 - Ibid.].То есть это единственная ситуация, в которой мы можем установить отношение к человеку в его собственном качестве и достоинстве независимо от нас самих. Мы любим в нем нечто, в чем отсутствуют причины любви и ненависти к нему. И это есть та ситуация, в которой можно «любить» и врага. И прежде всего потому, что эта ситуация позволила приостановить действие предметных картинок в голове. Действуют тела, спиритуализированные тела, а не предметные картинки. Ведь, например, в Евангелии не случайно сказано, и мы психологически это понимаем, – ударили по одной щеке, подставь другую. Мы думаем, что, действительно, имеется в виду конкретное действие. Да нет, имеются в виду некоторые правила гигиены нашей духовной жизни – ты можешь понять смысл происшедшего, если ты приостановил действие предметной картинки в «твоей» голове, в «твоем» уме. А какая предметная картинка в твоем уме действует? Удар по щеке. Что может быть предметнее… Вот это нужно приостановить. И Пруст говорит о ситуации, в которой останавливаются причины и любви, в эгоистическом смысле слова, то есть владения, и ненависти. В этом феномене, говорит Пруст, отсутствуют – как причины любви, так и причины ненависти. Он здесь как бы намечает ситуацию действительно духовного и человеческого разрешения ситуации внутреннего – entretien avec soi-meme – внутренней встречи с самим собой.
И вот, возвращаясь к впечатлениям, я хочу добавить один вывод, который делает и сам Пруст. Но у него все эти выводы разбросаны в разных местах, а я их просто собрал. Значит, по отношению к нашей экзистенциальной проблеме – то, что Пруст называет впечатлениями, имеет еще одну характеристику. То, что глубоко или является впечатлением, в отличие от того, что поразило наше феноменальное «я», – наше феноменальное «я» реагирует на явления, а глубокое «я» реагирует на впечатления. Ну, это по определению так, потому что я уже определил, что впечатление есть нечто, что обращено к нашей глубине и развивается в нашей глубине (в отличие от реактивности явлений). Так вот, все, что обладает такой глубиной и требует нашей глубины тоже, оно, когда мы хотим выразить такого рода впечатление, устраняет из нас (при выражении) какое-либо желание нравиться кому-нибудь или не нравиться. Мы одержимы лишь уважением к тому, что должно быть высказано, то есть к сути дела, и мы не можем думать о том, что кому понравится или кому не понравится. В том числе мы не можем думать о самих себе, об эгоистических самих себе. Мы не можем продумать впечатления, если мы одержимы себялюбием. И наоборот – продумывая впечатления, мы останавливаем в себе действие сил себялюбия. Как в объекте любви отсутствуют, в причинах наших связей с другим человеком, отсутствуют причины любви (в психологическом смысле слова) и причины ненависти – мы любим само по себе. Так и впечатление – выражая его, мы не можем думать о том, кому это доставит удовольствие, кого это обидит, кого не обидит, мы можем думать только о сути дела. В том числе не можем развивать впечатления с любовью к самим себе. Себялюбием. Но эта полнота представленности впечатления и его уникальность нам – как психологическим существам – вначале и вовсе не дана. А что же нам дано? Я говорил о том, что есть бег (в отличие от развития впечатления) в этой бесконечности, когда еще и еще нужно охватить какие-то точки, которые занимал другой человек. И мы должны это узнать. А зазор всегда остается. Мы прекрасно понимаем, что разница между итогом и движением к этому итогу бесконечна. Даже математики знают, что самая ближайшая точка бесконечности отделена от самой бесконечности бесконечностью. Так ведь? Например, разница между опытом и лицом, которое я вспоминаю из этого опыта, бесконечна. Значит, то, что я называл согласованием, или когеренцией, или бытием мысли, – там мы предполагаем некоторое феноменально полное присутствие или феноменологически выполненную актуальную бесконечность. То есть – не реальное прохождение предмета, которое пройти нельзя, а феноменологически полностью представленную актуальную бесконечность. А в нашей нормальной жизни мы имеем дело – с чем? С другого рода бесконечностями. Какого рода бесконечностями? Я говорил, что проблема впечатления есть проблема другой организации сознания, проблема выхода посредством другой организации сознания на другую реальность. В противовес психически-предметно, причинно организованному потоку нашей психологической жизни. И вот в этом организованном потоке нашего сознания мы находимся в рассеянии расширения. Я говорил, что между предметом моей любви и мною – расширившееся пространство, которое я охватить не могу, потому что сколько бы точек моей любимой Альбертины я ни занял (в которых она была), всегда есть еще другие точки. Неожиданно все точки пространства и времени получили смысл, которого они не имели бы, если бы я не имел Альбертины. И передо мной дополнительная задача – этим тоже заниматься и это тоже охватить.
У Пруста эта проблема выныривает чисто словесно. Я свяжу ее (и она действительно связана) с существующей нашей интеллектуальной историей, традицией проблемы. Я имею в виду паскалевскую проблему; введу ее словами Бодлера. Бодлер говорил так (кстати, у Пруста эта бодлеровская проблема гораздо более сложно и содержательно дана): «У Паскаля была своя пропасть, вместе с ним перемещающаяся. Увы, все есть пропасть – действие, желание, мечта. Слово!»[253 - См.: T.R. – p. 696; Baudelaire. Les Fleurs du Mal. C.allimard, 1961, p. 207; Бодлер. Цветы 3ла. М.: Наука, 1970.] Вы помните, какая у Паскаля была пропасть, от которой его охватывало головокружение, – бесконечность звездного неба, то есть космическая бесконечность, и бесконечность микроскопическая. Бесконечность маленьких предметов[254 - Pascal. Euvres complйtes. La place de I'homme dans la nature. P. 1106.]. Бесконечность большого пространства и бесконечность малого пространства – до предела его минимальности мы тоже дойти не можем. И голова кружится от этих бесконечностей. Но у них одно измерение – предметное измерение. У Пруста же другая, более содержательная бесконечность, у него слово «пропасть» выступает в совершенно фантастических описаниях. Значит, во-первых, для Пруста человек как таковой есть (перефразируя немного самого Пруста) амфибия двух бесконечностей. А что такое амфибия? Двойственное существо, которое живет в двух стихиях: в водной и в воздушной. Амфибия двух бесконечностей. И у нас уже не одна бездна, а целых две бездны, и обе разнородные. И вот почему. В контексте анализа различия между знанием и живым впечатлением или между явлением, которое мы можем знать, и впечатлением, которое мы должны развить, – потому что впечатление всегда содержит в себе что-то, чего мы не можем знать, что мы можем лишь своим опытом породить и присутствовать невербально, целиком и полностью, сейчас и здесь (знанием получить нельзя), – значит, в этом контексте Пруст пишет так, мимоходом: «Поскольку я был человеком, одним из тех существ-амфибий, которые одновременно погружены в прошлое и в актуальную реальность»[255 - T.R. p. 533.]. И вот прошлое и актуальная реальность есть две бесконечности. Причем их нельзя разделить. Нельзя поставить границу и сказать: вот здесь – прошлое, а здесь – актуальная реальность. Потому что в действительности – это две пропасти. Какие? Пропасть макроскопического переноса нашего опыта, который предметен. Мы можем все прошлое представить себе данным в точке и по всем точкам объединить и установить связи между элементами прошлого. И здесь будет у нас бесконечность – сейчас мы узнаем – какая… Но в каждой точке будет проглядывать другая стихия у нашей амфибии, будет высовывать голову – прошлое, которое не позволяет считать прошлое свершившимся и данным в точке. Вот вся наша рациональная мысль основывается на том, что прошлое принимается как данная в точке. Пруст говорит: мы каждый раз в каком-то смещающемся месте, в котором мы – двойные существа, половиной в одной бесконечности, половиной в другой бесконечности. Например, мы половиной в бесконечности объектов, или в объективной бесконечности, которую можно изобразить рационально, но все равно распутаться с ней нельзя. Почему? Да потому что, во-первых, – много. Нельзя быть одновременно во всех местах, нельзя одновременно или сразу многое. Во-вторых – далеко. В каком смысле? В том смысле, что связано со всеми дальними событиями, которые охватить нельзя. Более того, пока мы об этом узнавали и к нам поступала информация от этого далекого, там уже – не то, о чем мы узнавали. (Вспомните интересную ситуацию, которую описывал Толстой в романе «Война и мир»; он применял это к стратегическому знанию, к стратегам: он показывал, что действия наши сцепляются так, что мы планировали действие A, делая для него действие B и C, эти B и C сместили A, и в момент, когда мы хотим совершить A, мы не можем его совершить. Хотя мы именно его задумывали и именно для него действия B и C совершали.) Так вот, мы остановились на том, что, пока поступала информация, – уже не то, сместилось. Там ведь непрерывность действует. Она не ждет, пока мы получим информацию и прореагируем, она продолжает действовать, и все сместилось. Более того, знание, которое мы получаем, не входит в наше место. Мы не можем его к себе присоединить, из предмета мы не можем получить (перенести знание в себя), если мы не воссоздали его внутри самого себя. Не входит. А пока оно не входит… что делать? Что тем временем происходит? Ведь мир не ждет ребенка, пока бы он понял (увы, я должен все время один и тот же пример приводить, потому что новые примеры вводить – это дополнительная сложность). Ведь, подумайте, ребенок не понял сцены полового акта. А тем временем, пока он не понял, – что происходило? Что – мир застыл и ждал, когда он поймет? Вот этот промежуток – он непрерывностью рождается, – что в нем происходит? Вот в какую бесконечность мы не можем войти.
И – другая бесконечность, с другой стороны. Допустим, что мы со всем этим справились – остановили эту непрерывность. Допустим, что мы со всех точек все собрали, и все то время, когда мы чего-то не понимали, мир ждал, пока мы поймем, и ничего не делал, ничего не происходило. И пришло это к нам. А когда пришло, и мы уже знаем, я (приемник этого дела) не весь при приеме. Не всеми теми способностями обладаю в данный момент, которыми вообще обладаю. И более того, я не могу, как говорит Пруст, представить слишком много сцен одновременно[256 - Pr. – p. 356.]. Опять здесь начинает работать непрерывность, или паскалевская бездна. Более того, поскольку участвую, то именно поэтому не могу все знать; что-то не закрепляется в памяти именно потому, что я участвую в событии, которое я должен запомнить, поскольку – или теряю, или изменяю. И можно представить себе, что вся масса, которую мы вынуждены разворачивать в последовательности, и более того – в точках, в которых мы не присутствуем сами все целиком (вся эта масса, о ней можно сказать masse instantanйe, мгновенная масса), она ведь, если она живет (а она живет), не считается с нашей последовательностью, с нашими категориями, с нашими формами. Более того, в силу того что все наши действия конструктивны, – а я сказал, что то, что есть, и есть одновременно… – но не в построенном нами понятии одновременности, а вот в какой-то момент… ну, явно, что весь мир сейчас есть, просто мы его должны распределить в какой-то последовательности и если даже установить одновременность событий, то только в абстракции, в введенном понятии одновременности, и это нужно еще сделать и т д., – так вот, поскольку требования жизни конструктивны, то есть мы делаем что-то, собирая себя посредством, например, произведения, то они требуют силы. И пока ты делаешь что-то – например, любовь как культурная форма, – ты окультуриваешь свое собственное чувство, понимаешь что-то, но оно ведь тысячью нитей связано с уровнем других и с тем, что они сделают, и ты не можешь остановить там мир, и ты не можешь не обидеть какого-то, хотя, по сути дела, должен сделать то, что ты делаешь, Например, ты создан для свободной любви. Ничего страшного, это культурная форма, ты ее осуществляешь, но это предполагает такие сплетения времен, такие сплетения способностей и возможностей других, их реакций и т д., что ты не можешь реализовать себя. И поэтому, кстати, мы и живем, убивая себя, потому что мы убиваем себя, чтобы жить. Мы убиваем себя в тысячах желаний, в тысячах наших порывов – не потому, что мы их стыдимся, я не это имею в виду, а потому, что это невозможно, – в каком смысле? Невозможно в пространстве этой бесконечности и непрерывности. Поэтому, кстати говоря, все мыслители всегда мечтали о других социальных формах, о другой цивилизации, имея в виду такое социальное пространство, где бы ты мог сделать высокое, при этом не обидев другого. Не убив, не оскорбив, не обидев, – и следовательно, ты не можешь быть свободным от обиды другого и от сожаления чего-то невозвратимо потерянного и несделанного. Вот эти – с двух сторон объемлющие наши бездны.
Я попытаюсь в связи с Прустом рассказать вам о некоторых утопиях (например, утопию Фурье, гегелевскую утопию; но больше мне симпатична утопия Фурье), связанных как раз с тем, как мы живем в этом пространстве, то есть в пространстве, в котором мы находимся вместе с другими, и что мы можем реализовать и чего не можем реализовать, и что означает потребность в других формах цивилизации, и что эти формы цивилизации, или формы культуры, делают по отношению к нашим возможностям реализации или нереализации. Скажем, у нас будет проблема социальных закупорок, проблема продолжения других своей жизнью, исполнение того, чего не исполнили другие. И поскольку я объединяю разные темы, раз я уже в связи с Прустом ввел тему лесбиянства, то я завершу сейчас примером, чтобы пояснить вам, что я имею в виду под драмой человеческого существования. Я сказал, что чаще всего мы живем так, что условием нашей жизни является наша смерть. Мы умираем – для того чтобы жить. Потому что мы своими силами не можем обеспечить все точки бесконечности – так, чтобы в них случились действия, согласованные с нашими действиями. Мы действия совершаем, осуществляя что-то высокое и низкое, стараясь не обидеть кого-то или не потерять необратимо что-то, так, чтобы об этом потом не жалеть. Значит, наше сожаление и обида других – наш удел. А для Пруста это было проблемой номер один. Например, ему важно было не обидеть мать, а мать не обязана была находиться на том уровне, на котором она признала бы, что гомосексуализм вполне допустимая культурная форма жизни. Она была далека от таких представлений. И он не мог ни публиковать, ни писать роман, пока она не умерла (но это чисто жизненные обстоятельства, я сейчас о содержании романа не говорю). Так вот, у Фурье есть книга «Новый любовный мир». Эта книга была написана в 1830 году (кстати, Фурье – автор одной из социалистических утопий), она была опубликована лишь в 1956 году. Дело в том, что социалисты очень ревностно относятся к своим вождям, они тщательно публикуют их архивы, но причина непубликации в данном случае была проста: они были шокированы весьма фривольным и вольным содержанием этой рукописи и считали, что ее публикация нанесла бы непоправимый урон делу распространения идей социализма. А это была, действительно, утопия нового любовного мира, которая строилась на следующем представлении. Для этого представления я прочитаю цитату из Пруста, чтобы вы поняли, о чем идет речь, – что это не литературные экзерсиции, а проблемы жизни. Текст идет в контексте самой страшной проблемы для Пруста (для героя романа и тем самым для Пруста) – любви к своим родным. Здесь идет речь о любви к бабушке. Что мы любим, как любим, что мы делаем с теми людьми, которых любим. «В любой данный рассматриваемый момент наша тотальная душа имеет почти что лишь фиктивную ценность, несмотря на запас своих многочисленных богатств, ибо то одних, то других нет в нашем распоряжении, идет ли речь о действительных богатствах или о таковых в воображении, и в моем случае это одинаково относится и к воображаемому древнему имени Германтов, и к богатству намного более серьезному, к действительной памяти о моей бабушке». Пруст имеет в виду, что вся тотальная память о бабушке, которая есть, не находится в любой данный момент в его распоряжении, и это есть механизм, который делает любовь той или другой. «Ибо с расстройством памяти связаны и перебои сердца»[257 - S.G – p. 756.]. Помните, я говорил вам, что интермитентны наши цельные, или полные, состояния, наше бытие интермитентно; как прерывистая лихорадка уходит и приходит наше действительное «я», наше подлинное «я», или наше подлинное бытие. (Это тот пассаж, из-за которого Пруст хотел назвать весь роман «Перебои сердца». Значит, это говорит о существенности самого этого пассажа.) «Несомненно, именно существование нашего тела, подобного для нас сосуду, который заключал бы в себе всю нашу духовность, вынуждает нас предполагать, что все наши внутренние достояния, все наши прошлые радости, все страдания постоянно находятся в нашем владении. Может быть, столь же неверно было бы предполагать, что они убегают или возвращаются, но, во всяком случае, если они в нас и остаются, то большей частью времени в неизвестной области, где они не оказывает нам никакой службы и где даже самые обыденные из этих богатств вытеснены воспоминаниями другого порядка, исключающими какую-либо их одновременность с сознанием». Вот это и есть проблема бесконечности. Если мы не установили одновременности с чем-то, то мы не можем этого иметь, и т д. «Но если снова ухвачен чувствилищный кадр, в котором они сохранены, они в свою очередь обладают такой же силой изгонять все, несовместимое с ними, и устанавливать в нас в единственном числе то „я“,которое их пережило». Марсель наклоняется, чтобы развязать ботинок, и вдруг бабушка целиком перед нами встает – непроизвольное воспоминание. «И точно так же, как тот „я“, кем я только что внезапно стал, не существовал с того далекого вечера, когда моя бабушка раздела меня по приезде в Бальбек, столь же естественным образом вовсе не после актуального дня, которого это мое „я“ не знало, как если бы во времени существовали различные параллельные серии разрыва непрерывности, я сразу же вслед тому первому прошлому вечеру прилип к минуте, когда моя бабушка наклонилась надо мной, и собой продолжил эту минуту. То „я“, которым я был тогда и которое так давно исчезло, снова было рядом со мной, настолько, что я как будто слышал непосредственно предшествовавшие слова. Я снова полностью был тем существом, которое стремилось укрыться в объятиях бабушки, стереть поцелуями следы ее горести; существом, вообразить себе которое, когда я был тем или иным из тех, которые с тех пор во мне сменились, мне было бы так же трудно, как трудны были бы усилия, впрочем, бесплодные, снова ощутить желания и радости одного из тех „я“, которым, по крайней мере уже на некоторое время, я уже не был»[258 - См.: S.G. – p. 756 – 757]. И тут возродилась потребность стереть поцелуем бабушкины переживания, укрыться в ее объятиях. И дальше идет фантастическое осознание смерти. «Теперь же, когда эта потребность возродилась, я знал, что я мог бы ждать час за часом и все равно моя бабушка никогда больше не была бы со мной. И это открывалось лишь потому, что я только сейчас, впервые чувствуя ее живой, подлинной, распирающей до разрыва мое сердце, вновь обретая ее, наконец понял, что я навсегда ее потерял»[259 - См.: S.G. – p. 757.]. Обратите внимание на различие между знанием смерти и живым впечатлением, то есть действительным узнаванием, что бабушка умерла. Оказывается, это совершенно разные вещи (о чем мы говорили в связи с другими вещами). Действительно узнать что-то – значит получить это сейчас и здесь полностью. В виде полного акта – полного своего присутствия и уникально. А уникально – значит, этого больше не может быть. И только тогда ты узнаешь, что бабушка умерла. Это не может повториться. И он держит это сознание смерти, чтобы восстановить все свои состояния и знания. Вот отсюда значение знака и символа смерти – как знака и символа интенсивности и полноты душевной жизни, а вовсе не любви болезненной к смерти.
Так вот, обращаю ваше внимание на следующую вещь: есть какое-то впечатление, которое было 10 лет тому назад, и с ним может вдруг слепиться новое впечатление, и все пойдет так, как будто между ничего не было, – он прилепился к тому моменту, когда это было, и в той серии пошло все это. А вот представьте себе, что это происходит в каком-то более широком пространстве, чем сам психический индивид, который мы видим выделенным в теле, – что это происходит в некотором топосе, в некотором пространстве человеческих существ, в котором эти слипания и разлипания или эти серии могут быть между существами, а не обязательно только внутри видимого нами существа. Пруст ведь говорит, что несомненно именно существование нашего тела, подобного сосуду, который заключал бы нашу духовность и т д. Значит, Пруст здесь натолкнулся на то, что есть предрассудок, связанный с нашим наглядным видением, наделять видимое нами тело единицей души. Что раз – тело, значит, оно – сосуд, в нем есть душа. А может быть, душа вовсе не так существует… Фурье говорил (и это есть основа всей утопии любовного мира), что величайший предрассудок – считать, что каждой единице человеческого тела присуща душа. Для того чтобы была единица человеческой души, нужно минимум 1452 (если я точно помню цифру, а это невозможно запомнить) – допустим, 1460 индивидов. То есть общением и взаимодополнением – или, соприкасаясь друг с другом, как фацеты, они составят единицу души. Безумная идея. Но безумно в ней только числовое выражение. А суть дела страшно интересна. И эта суть дела интересовала и Пруста. Пруст все время знал, что имеет дело с реальностью более широкой, чем индивид. В каком смысле – индивид? В смысле наглядного, видимого нами носителя души. А эта наглядность – иллюзия[260 - Pr. – p. 381.], говорит Пруст. Иллюзия, говорит Фурье. Фурье из этого строит целую систему того, какими могут быть, например, наши любовные отношения. Раз мы можем реализовываться лишь фацетами, разворачивая фацеты в таком пространстве, то, конечно, максимум реализуемых отношений есть максимум развития. (Кстати, эту идею украл потом у Фурье Маркс, развив ее в совершенно другом плане. Но это и есть исходная и единственная метафизическая идея социализма. Других метафизических или философских идей в нем нет.) И вы, конечно, понимаете, что моногамная любовь (как институт) невозможна для Фурье. Это противоречит тому, как устроена наша душевная жизнь. Как устроен человек на самом деле, а не так, как мы видим или нам кажется, что мы видим. Мы видим, что есть тело, и, следовательно, у него есть единица души, а это неправда. Следовательно, это пространство прилегания, фацетное разворачивание в нем наших сил, может отсутствовать или, наоборот, может закупоривать наши возможности. Пример такой закупорки Фурье приводит совершенно фантастическим образом из российской истории. Знаменитый пример Салтычихи. Он фигурирует у Фурье (был процесс, и это было в газетах, естественно, а Фурье жил в цивилизованной стране, куда известия даже из России поступали) как пример превращенного движения человеческих страстей. У Фурье даже зачатки психоанализа есть: когда страсть не получает нормального канала, она находит другие каналы и выражения. Он говорит, что явно же Салтычиха любила свою крепостную[261 - Fourier. Le Nouveau Monde Amoureux. Paris, 1967. P. 391.]. Но поскольку даже слова такие отсутствовали в ее языке, в ее голове (она даже не могла иметь это слово, чтобы назвать, свое состояние), и более того, поскольку социальные формы были таковы, что они полностью исключали какую-либо реализацию этого чувства, то лесбийская любовь к крепостной женщине выражалась в виде такой жестокости. Стоит нам узнать свои желания, как из мира исчезнут насилие, жестокость и т д. Давайте на этой веселой ноте закончим.
ЛЕКЦИЯ 14
4.06.1984
У нас уже есть кое-какой опыт философского чтения литературного произведения. Кстати, формально наш курс называется теорией драмы. В каком-то смысле это название, как ни странно, соответствует в общем-то содержанию того, о чем я вам рассказываю. Только я имею в виду, конечно, не ту драму, которая ставится на сцене театра, а я рассказываю вам о драме бытия так, как она зашифрована, искренне, на полную катушку, в записанном тексте, в котором зафиксирован реальный, живой путь человека, который из темноты своей души, из темноты окружающего общества, из темноты своей эпохи, из темноты нравов, обычаев, приличий, норм выходил куда-то, освобождался от чего-то, и это «куда-то», «что-то» мы и пытались понять. От чего человек освобождается и куда он приходит. Я говорил вам, что прустовский роман есть роман человеческого возвышения. В старом, религиозном смысле этого слова. Вы знаете, что христианская вера своим основным стержнем имеет идею возвышения. Я пытался вам показать, что возвышение есть определенная (я условно говорю) топология или топография. Мы возвышаемся, выбирая определенную тропинку и избегая другой тропинки. Не все тропинки нас возвышают. Следовательно, есть какие-то законы и психологические, и бытийные, или, как философы говорят, онтологические, которые регулируют саму нашу возможность возвыситься. Я показывал, например, что существует закон так называемой точки равноденствия. Есть некоторая точка, максимально насыщенная, в которой «сошлись тяжести всей земли» и которая в то же время, будучи насыщенной, пуста, и в этой точке мы все уравнены – и принц, и нищий, и педераст, и нормально любящий человек. И из любой точки, поскольку все точки уравнены, из любой грязи или из любого великолепия мы можем возвыситься. И, следовательно, ни грязь сама по себе не имеет значения, ни великолепие. Кстати, евангелические слова о том, что верблюду не пробраться через ушко иголки, обычно расшифровывают так, как написано[262 - «Удобнее верблюду пройти сквозь игольное уши, нежели богатому войти в Царство Божие»(Евангелие от Марка, гл. 10 – 25).]. Там написано применительно к богатым людям. Но я вам пояснил, что богатым, с точки зрения Евангелия, считается всякий человек, который твердо знает, что у него что-то есть, в том числе есть и он сам. Или у него есть богатство, или у него есть несчастье. Несчастье ведь тоже очень часто есть наше достояние, которым мы очень гордимся, посредством которого мы сами себе угождаем. Евангелическое слово, кроме всего прочего, еще и стирает полностью иерархию, которая существует в нашем сознании. Иерархию бедности, богатства. Ведь мы почему-то, когда думаем о справедливости, всегда привилегируем бедность, а богатых не пропускаем через ушко иголки. Так вот, бедные, которые считают себя бедными и которые посредством своей бедности наказывают окружающий мир (люди даже кончают жизнь самоубийством, чтобы наказать других), эти люди тоже через ушко иголки не проберутся. Не проберутся – не потому, что есть какое-то нравственное правило, – не правило, не норма, а просто мир так устроен. В мире действуют не поучения, а законы. Вот об этих законах мы и пытаемся говорить.
Хочу сказать кое-что об акте чтения. Почему? Он сам по себе очень интересен и обладает свойствами и законами, которые не вредно знать и еще потому, что мы читаем вещи весьма странные, особые. Я выбрал Пруста, а потом внутри Пруста привожу цитаты иногда из других авторов, и выбрал я все это по одному признаку, объединяющему эти произведения, который условно назову «героическим искусством». Об этом героизме и об акте нашего чтения актов героизма я хотел бы сегодня поговорить.
В эпоху Возрождения у одного из деятелей Возрождения, у Джордано Бруно, возникло такое словосочетание: furore erуico, героический энтузиазм. Но «энтузиазм» и слово не русское, и потом в русском языке оно не очень выразительно, а в итальянском тексте стоит «furore». То есть страсть или ярость. Значит, яростная героическая страсть – и я говорил вам в самом начале наших бесед, что в такого рода искусстве, в furore erуico, или в героическом энтузиазме, человек стоит один на один с миром, не имея вне себя никаких внешних опор. А если имеет какую-нибудь опору, то только внутри себя. И такой опорой является внутреннее слово, но оно ему самому неизвестно. Между внутренним словом, лежащим в человеке, и самим человеком лежит очень большое расстояние. И жизнь человеческая такого рода людей, которых мы называем героями, есть яростное воссоединение с самим собой. То есть воссоединение с тем внутренним словом, которое в тебе заложено. Как оно заложено, мы не знаем. Это – тайна бытия, тайна человеческого происхождения, и оно так и останется тайной. Даже когда мы что-то знаем о мире, то мы фактически не разгадываем тайны, а мы ее разыгрываем. То есть мы что-то понимаем путем разыгрывания. Например, в такой мистерии, как бой быков, – а это есть именно мистерия, в которой поставлены и инсценированы основные силы бытия и человеческих страстей. И там есть нечто, называемое минутой истины. Условно, с точки зрения физического результата, минута истины выглядит как убиение тореадором быка – момент вонзания шпаги. Но – только физически, потому что по содержанию это глубже. Ведь шпагу можно вонзить не во всякий момент. Это есть некоторый зрелый или героический момент, момент полноты, который – сейчас и здесь – на месте устанавливается истинно всей ситуацией. Но эту минуту истины – она потому так и называется – нельзя ни повторить, ни продлить. Вот на что мы наталкиваемся в этой тайне бытия. Даже если мы разыграли мистерию и посредством умного тела мистерии (не своим умом, а всей материальной организацией мистерии) поняли что-то, сверкнул для нас момент истины, мы все равно как бы ничего не поняли, потому что мы не можем этого ни повторить, ни продлить. И не случайно, кстати, праформой или первоначальной фигурой того, что позже стало называться философом (а сейчас я и о литераторах, и о поэтах говорю как о философах), была фигура героя. В эпосе она зафиксирована. И она обладала странным свойством, о котором я вам говорил. А именно: нечто исполняется, но пока мы живы, а жизнь есть продление или повторение, пока мы живы, о нас нельзя сказать, что мы герои или что мы счастливы. Имелось в виду, что философом является тот, кто сталкивается с ускользающим мигом полноты. Иметь полноту нельзя. Иметь – чтобы она была сегодня и чтобы и завтра она тоже была. Поэтому, скажем, тот эпизод с героями олимпийских игр, он как раз об этом.
Так вот, я теперь возвращаюсь к героическому искусству. Вы живете в такое время и в таком обществе, которые максимально полны словами определенного типа. Вы привыкли к материалистическому объяснению истории и человека типичной фразой: жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, общество и среда формируют человека. И вы часто слышите, что если человек совершил преступление, то потому, что общество плохое. Общество исказило его нормальную, хорошую природу. Среда виновата. Или «среда заела». И мы движемся внутри этой традиции обвинений среды, общества, истории, когда мы о чем-нибудь думаем. И я не без умысла выбрал для наших встреч другую традицию, в которой такого рода фраза невозможна. Для героя не существует общества, которое было бы виновато в том, что с ним происходит. Не существует вины истории. Существует только он сам – и виновный и невиновный. Здесь есть глубокий философский закон, который я проиллюстрирую вам следующим образом. Вот, скажем (довольно сложный ход, хотя он максимально прост по внешней своей форме), простой психологический пример (все психологические примеры именно своей простотой сложны, потому что нужно уловить какой-то ход, интонацию этого примера, и если его не уловишь, то все распадется) – что такое революционер? Революционная мысль есть предельное завершение мыслей о влиянии среды. Идея простая: если среда, во-первых, – влияет, во-вторых, раз влияет плохо, следовательно, – плохая среда, в-третьих, как спасти человека? – путем переустройства среды. Измените, революционно преобразуйте среду, и на другом конце этой мясорубки, которую вы прокрутите, вы получите хорошую, прекрасную среду. Или продукт, то есть хорошего человека. Тем самым психологически или философски (сейчас я беру только ментальную сторону этого дела, о других сторонах мы еще успеем поговорить), – ментально я мог бы одной фразой сказать, что представляет собой тип революционера. Того, кто смотрит на общество негодующими глазами человека, желающего немедленно преобразовать общество. И я выражу это состояние следующей фразой: он говорит – не могу быть один. Повторяю, слушайте внимательно, это очень важно: я не могу быть один. Или – мне обязательно нужен смысл, чтобы я был хорошим. Чтобы «быть хорошим» оправдывалось, окупалось. А по философским законам это невозможно. Если мы хотим, чтобы что-то окупалось, то мы вообще находимся вне области морали и вне области человеческой духовности. Так устроено. В фундаменте наших моральных духовных оценок заложено, что там, где что-то полезно, мы вообще – вне области духовной жизни и вне области нравственности. Добро по определению исчерпывается самим собой. Только вот держать добро, которое исчерпывается самим собой и самим собой объясняется, и самим собой обосновывается, очень трудно. Почти что невозможно человеку. А вот вынести одиночество – что ты можешь, какое бы ни было время, каким бы ни было общество, – «ты можешь» я расшифрую так: что бы ни было, всегда могу. Всегда есть время, когда я могу. Нет неподходящего времени. Обычно мы говорим так: сейчас не время. Эта фраза невозможна в той традиции, которую я называю героической и которая одновременно есть и метафизическая традиция, потому что героическая традиция означает традицию следования тому, как мир устроен. Например, как устроены мы как существа, которые в принципе способны на моральные поступки. Вот мы устроены так, и только тогда способны на моральные поступки, когда мы не ищем смысла для добра. Стоит нам начать искать смысл, то есть прорывать наше человеческое одиночество и говорить, что я не могу, не имеет смысла мне быть хорошим, если все другие вокруг плохие, давайте я сначала всех других переделаю, и тогда имеет смысл быть хорошим (я все огрубляю, конечно), стоит нам начать искать смысл для добра – все рушится.
В действительности героическое искусство в истории нового европейского времени есть, конечно, я бы сказал так, искусство возрождения (я не имею в виду эпоху Возрождения), двойного возрождения – греческого и евангелического. Не случайно на гребне возрождения борьба за свободу совести выражалась прежде всего в религиозной форме. В форме протестантизма. В католицизме, как ни странно, происходило в это время то же самое. Скажем, барочная драма XVII в., – если вы возьмете Кальдерона, вы ничего не поймете, если не наложите на него идею героического искусства, опирающегося только на внутреннее слово. Не на норму, не на закон, в том числе на христианский, а на внутреннее слово, разыгрывающее свое отношение с миром как борьбу один на один. Я – один на один перед лицом мира, и я должен держать свое одиночество. Каков бы ни был мир, есть что-то, что я могу и должен. Возьмите таких авторов, как Данте, Кальдерон, из англичан – так называемая группа метафизических поэтов XVI века, которая завершилась Вильямом Блейком, в Испании – Кальдерон, во Франции – так называемый классицизм. (Кстати, все эти литературные деления – романтизм, классицизм, барокко, на мой взгляд, бредовые. Они не покрывают никакой реальности и служат, очевидно, чисто профессиональным интересам литературоведов, которые на этом зашифрованном языке обмениваются между собой своими знаниями. Но для реального понимания того, что происходит, эти классификации нам не годятся. Я могу доказать, например, что в каком-то смысле классическое искусство абсолютно романтично, а романтизм – классичен и т д.) Так вот этих авторов можно накладывать на Пруста. Почему? Я это еще одной ступенькой поясню (одна из скрытых причин, почему я называю этих авторов). Дело в том, что мы живем в весьма сложное время. Ведь всегда так – данное время считается самым трудным. Очевидно, это просто привычная фраза о трудностях времени. Нет, я имею в виду другое. Я имею в виду то, что есть времена, в которых подводится какой-то счет. И вот конец XX века есть время, когда по счетам придется платить. А счета накопились весьма серьезные. Ну, скажем, в одной России не хватает (под Россией я имею в виду всю российскую империю в ее пространственном распространении), по элементарным подсчетам, около ста миллионов человек. Это делается очень просто, не обязательно искать тех, кто погиб в концентрационных лагерях, статистика эта очень трудная и шаткая, достаточно взять просто в качестве исходной точки данные 1913 года, взять темп прироста населения, нормального прироста, вычесть для начала известную цифру, число людей, погибших непосредственно в войну 1914 – 1917 годов, и мы получим цифру, которая должна была бы быть на 1970 год. В этой цифре не хватает 100 миллионов человек. Пронеслась буря, которая началась с первой мировой войны, но она не остановилась. Первая мировая война фактически была не отдельной войной, а эпизодом или первым актом в одной пьесе, включающей в себя и вторую мировую войну. А те люди, о которых я говорю как о представителях героического искусства, и сейчас я перехожу к XX веку, те люди из прошлого именно об этом и говорили. Предупреждали. Можно прямо с Возрождения начинать: есть какие-то циклы в человеческой истории, типичным образом повторяющиеся. Скажем, процедура душевного поиска, которую осуществляет Данте, абсолютно в таком же виде повторяется у поэтов XX века. Ну, конечно, во французской традиции Пруст является продолжателем, как это ни странно (Пруст считается весьма почтенным светским автором), традиции Лотреамона, Рембо, Жарри. И последующая традиция – сюрреализм. Странно, какое отношение к сюрреализму имеет Пруст? И тем не менее – Пруст умер в 1922 году и в 1922 же году начинает действовать человек, которого я назвал бы вторым воплощением (в смысле теории метапсихоза, переселения душ) Пруста, совершенно на него непохожего, а именно – Антонен Арто (он как раз к нашей драме, о которой я говорю, имеет прямое отношение; и я о нем частично уже говорил). Так вот, вы увидите странную вещь. Если вы поняли, что было основной заботой души Пруста, то вы увидите, что эти же заботы являются движущимся мотором души Арто, Эзры Паунда, Элиота, Джеймса Джойса; из французов, конечно, сюрреалистов начиная с Антонена Арто (я уж не говорю о том, что и французский психоанализ, кстати, в лице Лакана, начинался среди французских сюрреалистов). Скрытая причина, почему я все время об этом говорю, состоит в восстановлении духовных нитей (о чем я говорил в самом начале наших встреч), а именно; восстановление духовный нитей – наших, грузинских, которые связывают нас не с Россией, а с Европой. Это было ясно уже по тому, какую печать на себе несла деятельность и поэзия Ильи Чавчавадзе, нашего, наверно, самого крупного мыслителя начала века. Ясно, что все, что в нем нам близко, и все, что актуально, есть то, что возникало на его пути движения в сторону Европы через головы русских революционных демократов, с которыми сейчас его почему-то связывают (он-то как раз от них отталкивался). И вот мы обнаружили, что мы в том же «компоте» находимся, что и Европа, и перед нами стоят те же проблемы. Мы, конечно, как грузины можем сказать, что мы маленькая нация, не мы реальные субъекты и авторы того, что случилось и решается на российских пространствах, и не наше это дело. Ну, а на российских пространствах, конечно, решается проблема, которую можно назвать все-таки европейской проблемой, а именно: есть цивилизация и есть варварство – что победит? Повторяю, есть цивилизация – и, кстати, фигура цивилизации, которая нас интересует, – это фигура героя. И есть варварство. Есть личность и человеческая общность, а есть коллективы людей, каждый из которых несет знак и без знака не существует. Я имею в виду – если вы помните, в Апокалипсисе от Иоанна все люди носят на лбу (то есть на своем уме) и на своих руках (на том, что они делают) печать дьявола и сатаны, и без этой печати они не могут шевелить ни руками, ни головой[263 - Apocalypse de Jean – XIII, 12 – 18.]. Знаки, а не реальность. Оглянитесь вокруг себя, посмотрите на Германию 30-х годов и странным образом вы увидите – не человек и не реальное человеческое общение, а люди с клеймом, знаками, обозначающими дела… И вот эти люди предупреждали – Арто говорил так: если вы хотите убивать миллионами, если вы хотите чумы, голода, то можете не обращать внимания на то, что я говорю. А он говорил о том, как нужно собирать себя в точке – самому и одному. То же самое говорил Ницше еще раньше. И, кстати, в связи с вопросом о знаковости, которая есть современная форма варварства, я напомню вам, что говорил Ницше, который пророчески это чувствовал. Вы знаете, что у Ницше была идея сверхчеловека. Она по-разному трактуется, и я сейчас не буду вдаваться во все эти трактовки, идея простая в действительности: если в человеке нет устремления к преодолению самого себя как человека (как психически-биологического существа, рожденного естественным образом), если он в себе не пытается это преодолеть или, как выражаются философы, трансцендировать, то он не может быть человеком. То есть в глазах Ницше человек есть нечто, что выпадает в осадок после труда и усилия вырваться из человеческого. Как выражался Ницше, – из «человеческого, слишком человеческого». Это абстрактная спекулятивная истина, на особом языке утверждение. Но оно ведь понятно. Попробуйте вдуматься: я могу быть человеком только тогда, если я стремлюсь к чему-то большему, и тогда я могу получить меньшее. То есть человека. Но – человека, а не животное. Всю философию Ницше можно резюмировать следующей картиной или следующей мыслью. Он говорил так: или мы будем сверхлюдьми, или, если мы не сможем быть сверхлюдьми, мы будем последними людьми. («Последние» в смысле – исторически последние). Цитирую: «Люди организованного счастья, которые будут говорить: мы богаты, мы счастливы, и будут подмигивать»[264 - См.: Nietzsche, Friedrich. Also sprach Zarathustra (Sдmliche Werke, Krцner, 1964).]. А когда счастье организовано, ты ведь не можешь быть ни богатым, ни бедным. Потому что оно организовано – ты по определению богат и счастлив.
И вот, живя в обществе, в котором мы только и заняты тем, что подмигиваем, мы и в день подведения счетов, итогов должны все-таки заглянуть в себя, потому что, хотя мы и маленькая нация, не историческая нация, то есть не несущая исторической ответственности, мы все равно связаны с развитием современной техники, в том числе техники войны; мы не можем отложиться, отойти в сторону и посмотреть, что будет во время катастрофы, и потом пожинать плоды катастрофы. Этого не может быть. Снова посмотрим, что говорит нам европейская мысль. Какой опыт она выработала, и что посредством этого опыта и книг, в которых записан этот опыт, мы можем прочитать в себе и в своей душе. Потому что наши движения автоматичны и мгновенны, а эта мгновенность и автоматичность очень опасны для нас. Когда мы говорим «виновата среда» – автоматический ход мысли, которого очень трудно избежать. Но можно показать, что его нужно избежать, что мы погибнем, если будем так думать. И тем более нам интересен, конечно, опыт тех людей, которых мы называем «героями» – именно в этом смысле слова. В том смысле, что герой – это человек, который никогда не может сказать, что виновата среда. То, что я сейчас так примитивно изложил, и есть европейская проблема еще в том смысле, что в Европе есть традиция думать об этом. Она имеет слова, термины, и мы их, к сожалению, не знаем. Не наша вина – но, я повторяю, запрещено говорить «не наша вина». Запрещено в контексте того менталитета, который я описываю как героический энтузиазм. Вы понимаете, о чем идет речь? Нельзя, безнравственно так говорить. Хотя эмпирически, чисто жизненно я понимаю людей, которые так говорят. Человек сам должен создавать в себе атмосферу, которой он дышит. Она ему не дана, нам в особенности. Он должен сам создавать или добывать те книги, которые ему никто на подносе не принесет, сам получать информацию, которую ему тоже никто на подносе не принесет. Разными путями – потому что когда начинаешь шевелиться, то в итоге жизненный контур складывается.
Вернусь к той традиции, в которой существует обдумывание этих вещей. Тот менталитет, в котором говорится – вот, среда заела или, чтобы быть добрым, нужно, чтобы был смысл быть добрым, – называется нигилизмом. В России это слово тоже фигурировало, но совершенно иначе понятое. И вот почему я говорю «европейская традиция». Российская литературная традиция нам вообще не годится для обдумывания этих вещей. Мы там ничего не поймем. И поэтому нужно обращаться к европейской традиции. Так вот, в европейской традиции это называется нигилизмом. Целое большое течение мысли, названное нигилистическим, отдельно не выделено. Есть отдельно выделенные течения мысли: феноменология, экзистенциализм. Нигилизм – нет такого течения. Нигилистическая мысль есть элемент очень многих человеческих состояний и очень многих течений. Этот элемент я встречаю и у европейских людей, которые вообще даже не знают этого слова, но у них это работает – нигилистическая мысль. Приведу пример нигилистической мысли. Скажем, недавно слышал по радио: обсуждалась какая-то социальная проблема и говорилось примерно так – что вот, глядя на это общество, на то, что происходит, невозможно верить в Бога. Или просто «верить» в высоком человеческом смысле слова. Вот эта фраза сказана нигилистом. Потому что только нигилист предполагает, что в мире есть реальное Божье дело, воплотившееся в каком-то институте, государстве, стране, и тогда, раз оно есть, имеет смысл жить, появляется надежда. А герои наши говорят другое. Блейк писал: некоторые говорят, что только один Бог действенен в мире. А я утверждаю, что Бог действенен во всем живущем и вне его не существует. Это означает, развивает дальше эту мысль Блейк, что эти два типа всегда будут различны и всегда будут антагонистичны. Их примирить нельзя[265 - Poems of William Blake. The Prophetic Books / Ed. by W.B.Yeats, London. 1979,]. Какие два типа он называет? Он называет нигилиста – что-то делается без меня, само собой. Есть какой-то механизм, который производит счастье, есть какой-то механизм, который производит добро. А если этого механизма нет, то вообще ничего нет. А Блейк, будучи мистиком и принадлежа искусству, с которым мы соприкасаемся и которое повторяется в XX веке, считал, что есть только то, что со мной, с моим присутствием и с моим участием. И нет ничего в мире, что можно было бы получить в виде механизма. Механизма счастья, например. Поэтому не случайно в российской культуре… скажем, Чернышевский до самых старческих лет периодически возвращался к юношеской мечте: к изобретению вечного двигателя. Вот это – предельная идея нигилистического механизма. Я могу наладить вечный двигатель счастья, а сам могу отвернуться и заняться другими делами. А он тем временем будет производить счастье. Точно так же и общество они пытались наладить. Ведь вот что они понимали под революцией? Наладить механизм производства счастья. А философия говорит, что счастье, добро, дружба, братство не могут быть механизмом. Они могут быть только дарами. Если ты поработал, то это может быть тебе подарено, и то не всегда. Хотя заслуга есть, но не всегда вознаграждение может быть за заслугу. А заслуга может быть только одна – нужно быть готовым и к награде, и к наказанию. Готовым своим трудом.
Если вы посмотрите теперь, какую конструкцию строят Джеймс Джойс или Эзра Паунд, Элиот, Антонен Арто в своем театре, конструкцию, которую строит Пруст в своем романе, которым мы начали заниматься, вы увидите там одно и то же. Что именно? Во-первых, воспроизведение всего мира в точке собственного личного действия. Во-вторых, веру в твердую и четкую форму, имеющую очертания и способную что-то производить. Не «я» производит, а форма производит. Я вам вновь напоминаю проблему Пруста: Пруст строит роман, который есть в каком-то смысле собор, детали которого сцеплены с такой силой и с таким напряжением, что они внутри романа производят события – не жизнь спонтанно порождают, а они порождаются сильно сцепленной формой. И в итоге источники счастья или несчастья, которые были раньше в вещах, теперь переходят в мою собственную душу. И я не завишу от окружающего, от того, какой будет среда, все ли будут хорошими и т д. Эта способность к одиночеству и выполнение своего пути в мире с риском, со страхом и с трепетом и есть мотив и стержень того, что я называю героическим искусством, проблема которого вдруг стала всеохватывающей и актуальной в начале XX века. И, оказывается, они были правы, что думали об этом и говорили. В 1914 году начался первый эпизод европейской драмы, то есть первая мировая война, но она опять ничего не принесла, потому что уроков не извлекли. Единицы извлекают уроки, а исторические массы их с большим трудом извлекают. И потом, когда не извлекли уроков, все то же самое повторилось в большем масштабе во второй мировой войне, которая не сузила ареал варварства, а расширила его. Завершая этот пассаж, я приведу очень странное определение. Вы знаете, как определяли греки варваров, то есть как они отличали сами себя от варваров? Варвар для них не был… как бы сказать? – это не было ценностным определением. Сказать «варвар» не значило сказать «плохо», «хорошо». Греки с большим почтением относились к персидской империи. Они видели многие достоинства и силу этой империи, но считали их варварами. По какому признаку они отличали себя от всего окружающего мира? Варвар – это тот, у кого нет языка. Вот поди и пойми это утверждение… потому что ясно ведь, что у персов был язык – персидский. Что значит – язык? Публичная артикулированная и на общественном месте стоящая мысль. Не у тебя внутри, не в твоем языке – артикулированное тело. Язык, на котором можно спорить, предъявлять свои права, то есть имея гражданские права, за которые ты ответствен, – потому что ты не просто имеешь право участвовать в общественной жизни, в общественных делах, а ты обязан, в греческом понимании, участвовать в общественных делах, и именно поэтому ты называешься гражданином. (Сознание, которое отсутствует, например, у тбилисского жителя. Начисто отсутствует. Я сейчас не говорю о том, что отсутствуют права, я говорю, что у него отсутствует это сознание.)
Приведу вам еще одну фразу, которую вы можете прочитать в тексте. Я приведу ее по двум причинам: во-первых, из-за содержания самой фразы, а во-вторых, для того, чтобы мы поняли, что читать то, что написано, очень трудно. Нужно иметь какой-то особый взгляд, не совпадающий с пониманием слов, которые составляют фразу. Я сказал бы, что метафизика есть мысленное одеяние героя. То есть в области мысли, в области искусства герой занимается метафизикой. В этом смысле Пруст – метафизический писатель, Паунд – метафизический поэт, Элиот – метафизический писатель и т д., энное число фигур в XX веке можно назвать таковыми. Так вот, прочитать, увидеть это – уже самому нужно быть метафизиком. Следовательно, нам нужно учиться быть метафизиками. И научиться этому можно на точных фразах. Они есть… В Евангелии от Иоанна Христос говорит: «Час настал, и это – сейчас»[266 - Hо настанет время и настало ужею. Евангелие от Иоанна (гл. 4 – 23).]. И далее идет фраза, которая фактически говорит о воскресении. Очень странный контекст фразы, если вдуматься. И вот эту фразу нужно читать в свете проблем героического энтузиазма. В том, как Евангелие видит время, нет привилегированных точек. Любой момент есть момент последнего часа. Эта фраза говорит о последнем часе или о конце истории. И мы должны понимать, что такое «конец истории». Потому что если бы я сказал на любом языке «конец истории», это означало бы, что завершается человеческая история: кончается история этого мира и наступает какой-то другой мир, который – за этим миром или после него. Но в Евангелии вовсе не это сказано. Повторяю, давайте попробуем прочитать. Здесь говорится о последнем часе; Христос говорит, что это – последний час. Причем ясно, что не имеется в виду конец света, а это обычный апокалиптический термин, религиозный. Что не кончается – эмпирически мы знаем это. Мы знаем, что воскресение мертвых после жизни и т д. – все это не подходит. Значит, то, что мы знаем, этого мы не знаем. Здесь сказано: это – последний час. Кончается история. Причем кончается не так, что можно сказать: вот я живу, скажем, в I веке, а в VI веке будет конец истории. По-философски это означало бы, что есть некоторый привилегированный момент времени, означенный как VI век, и там – конец истории. Нет – нечто, что является концом или зрелым завершением (вспомните, я говорил вам о зрелости в связи с минутой истины), нечто, что является концом, не имеет выделенного момента времени. Любой момент времени может быть последним часом – которым нужно кончать свою историю. Кончать свой опыт. И поступать. (Такого рода истины душевной нашей жизни совершенно не зависят от их религиозного одеяния. Есть некоторые вещи, которые можно сказать только на религиозном языке. Он не случайно существует. Но это не есть предмет веры – такого рода истины, они есть истины нашей душевной жизни.) Так вот, я возвращаюсь. Мне, например, эта фраза говорит следующее: если ты не воскресаешь в жизни, ты не воскреснешь и после смерти, Христос говорит, что воскрешение здесь, в жизни, а не в какой-то полосе жизни, после которой наступает что-то другое, и вот там что-то происходит. Это не есть деление времени по горизонтали, когда можно было бы привилегировать какие-то моменты, – это сечение по вертикали проходит. И эта вертикаль может упасть на любой момент времени. И поэтому, скажем, для этого акта не существует ритуала. Нет иерархии времени. Оказывается, наша душевная жизнь расположена вертикально к горизонтали движения времени. И в любой момент… даже в субботу можно лечить человека, хотя по иудейской вере в этот день вообще ничего нельзя делать. Так ведь? Но вы знаете, что Христос «отменяет» субботу – а потому, что он живет в измерении того, как складываются человеческие судьбы. То есть он живет в онтологическом измерении, в котором нет этого деления. В онтологическом измерении любой момент может быть последним часом, в котором ты должен собрать и, чтобы больше к этому не возвращаться, закончить свой опыт. Чему-то раз и навсегда научиться, например. Не так, чтобы совершить что-то и раскаяться, потом снова совершить и т д. (я показывал вам цепочку дурной бесконечности, в которую впадает человек), а оказаться в структуре, в которой не повторяется то, что является причиной раскаяния. А что не повторяется? Как это зашифровано? То, что повторяется, называется второй смертью. Как непрожеванный кусок, который мы все время жуем и жуем. Адское наказание. Вы будете вечно делать одно и то же или будете вечно умирать. Не умереть раз и навсегда, как «хорошему крестьянину» полагается, а умирать второй смертью. Или вечной смертью. Все время умирать, умирать и умирать… Действительно, с ума сойти можно от этой адской картины! А вспомните сцену (я не случайно это напоминаю): герцог Германт раскланивается перед Марселем, выказывая ему сочувствие в связи со смертью бабушки. Да он будет вечно раскланиваться, потому что он не «прожевал» формы, в которой высказывается сочувствие. Это – несделанное деяние. Не освоенное Германтом на уровне способности его свободной души, где участие или сочувствие возникает в точке беды, когда есть полное участие в беде другого. Он растрачивает запас поклонов, накопившихся в коленях аристократа. И он не видит беды, он ее не чувствует. Почему? Потому что он зол? Да нет – потому что законы чувства здесь нарушены. Чувство предполагает полное присутствие, но нельзя присутствовать, если ты одной ногой или обеими ногами завяз в несделанном.
А теперь приведу вам другой пример. Он фигурирует в платоновской «Республике»: знаменитая сцена выбора, которая совершается в том мире. Умершим людям – и это наблюдает человек, который не умер, вернулся на землю и рассказывает, что происходит на том свете, – дается возможность заново выбирать. И вот среди прочих вещей там есть одна интересная деталь. Один человек выбрал тиранию. (Ему предоставился выбор. Есть такие бумажечки, на которых написано: кем ты хочешь быть? И ты выбираешь. На бумажке написано: он – тиран. Он взял бирку «тиран».) Почему он выбрал это? А потому, заключает Платон, что он жил «в хорошо оберегаемом государстве»[267 - См.: Platon. T. I. La Republique, p. 1238 (Le choix d'une destinee).]. В упорядоченном государстве какой-то тирании, где строго соблюдались все законы, общественные законы. И он привык к их соблюдению. Он, говорит Платон, пришел к соблюдению законов не через испытания. Он никогда в жизни не испытал ничего. Он жил в законоупорядоченном государстве и привык, что порядок соблюдается. И вот то, что в нем было не сделано, то есть не испытано, не выросло из собственной души, повторилось. Он повторяет акт, то есть свое бытие в тираническом государстве, и потом с ужасом узнает, что, оказывается, в судьбе тирана записаны многие несчастья, в том числе и пожирание собственных детей. Но было поздно. Он уже выбрал. (Я поясняю этой сценой, что значит груз несделанного, того, что не воскресло в жизни.) У него не было последнего часа. Он не кончил историю. Если делаешь что-то, ты делаешь. А вот этот человек не кончил свою историю, когда он жил в тираническом государстве. Он жил по привычке. Ему казался сам собой разумеющимся порядок. Он не знал, что порядок стоит крови, риска, что он из собственного испытания должен вырастать. Он ничем не заплатил за это. И он этого не кончил – в каком смысле? Он не откликнулся. Ему сказали: это – последний час, если хочешь воскреснуть. А он, очевидно, не услышал (я сейчас один эпизод наслоил на другой и т д.). И он повторился в несчастье. Ему суждено съесть своих детей. Это, конечно, метафора. Но вы знаете, что тиран всегда поедает все достойное и самостоятельное вокруг себя. Даже если это самостоятельное не вступает в заговор против него. Например, не занимается политикой. Но в принципе людей высоких идей тиран вокруг себя терпеть не может. Он съест их. Это зашифровано фразой: «поедание своих детей»[268 - Ibid.]. Теперь попытаемся сделать вывод. Только я его не смогу сделать. Вывод – как раз то, ради чего все это говорилось, – должен совершиться во всех головах. То есть – как мы читаем фразы – как сложно и в то же время просто прочитывается: «Час настал, и это – сейчас».
Так вот, я возвращаюсь к героическому искусству – и теперь понятно, почему я все это приводил. В героическом искусстве человеческая жизнь, и духовная, и нравственная, и социальная, как бы протекает по вертикали. А не по горизонтали. Горизонталь идет в непрерывном движении последовательности. Есть бег времени. Время бежит и движется по линии. Вы знаете, что время одномерно (в отличие от пространства, которое трехмерно, по меньшей мере). И в этом времени считается, что есть время жизни и есть время смерти. Или – есть время этого мира, а есть время другого мира. Ну, скажем, лучшего мира. Или царства Божьего. Евангелие и героическое искусство (или героическое сознание) считает, что царство Божье – по вертикали к теперешнему миру. Оно просекает его в любой момент. И мы не отделены, если повторить слова Чаадаева, от другой жизни, более истинной, лучшей и т д., загробной, так сказать, жизни, мы не отделены от этого лопатой гробовщика. Она не потом наступает. Она – по вертикали. Она – срез другой нашей духовной жизни. И слова «потом», «загробной», «лучшей», «совершенствование», «возвышение», «бессмертие» – это слова, которыми мы беспомощно и неловко пытаемся обозначить некоторые свойства своего же собственного бытия. А эти свойства за этими словами нужно уметь читать. И не воспринимать слова буквально. Для Пруста (так же, как для Данте) и для всех тех людей, которые восстанавливают традиции героического искусства в XX веке, искусство было орудием и средством вертикального сечения этой жизни. Не откладывания всего того на другое время, когда это время завершится, то есть время жизни свершится, не перекладывания этого на другой мир, от которого мы отделены датой смерти, – вот когда умрем – тогда. Да нет, не так устроено. И вот у Пруста на каждой странице вы встречаетесь с фразой: другая реальная жизнь, или – искусство более реально, чем обыденная жизнь[269 - См.: T.R. – p. 895; J.S. – p. 499.]. В каком смысле оно более реально? В том смысле, что искусство, то есть сильная форма, есть орудие вертикального просечения жизни. Орудие, посредством которого мы здесь воскресаем в своих чувствах, в своих мыслях и состояниях. Скажем, герой – это человек, который полностью присутствует. Германт не присутствует при горе. Потому что часть его – в прошлом, в кем-то выдуманном ритуале, посредством которого выражается сочувствие. И он – не сейчас, не там, где сказано – это последний час. Германт отсутствует, поскольку часть его в несделанном прошлом. Следовательно, перевернем: у нас есть шанс почувствовать что-то не потому, что мы чувствительны к горю, например, а потому, что мы присутствуем. Я говорю сейчас о сложностях и литературы, и философии. Повторяю: что значит – почувствовать? Почувствовать чужое горе. Это же ведь есть шанс зависеть не от возможности чувствительности как таковой, не от раздражимости нервов, а от того – присутствуешь ли ты полностью в своих возможностях перед этим случаем или не присутствуешь. А «не присутствуешь» тоже по определенным законам. Застрял в прошлом – один из законов. Следовательно, способом чувствовать является не чувство и не чувствительность, а какое-то орудие или форма, которая позволяет присутствовать. И если форма тебя собрала или ты собрался посредством формы, тогда полностью присутствуешь, тогда почувствуешь. Откроешься тому, что видишь. Откроешься чужому горю. И тем самым не зависишь от случайности своей чувствительности. И источники свои – того, что случится, – носишь в себе. А это и есть герой. У Донна одно из стихотворений завершается образом некоторого закругленного на самого себя существа, которое – в безднах вселенной, где несчастья, где страдают люди, – может не распадаться и держаться, полностью собрав себя[270 - «…in this one thing, all the disciplineOf Manners end of manood is contained;A man to join himself with th'UniverseIn this main way, and make in all things fitOne with that All, and go on, round as it;Not plucking from the whole his wretched part,And into straits, or into nought revert,Wishing the complete Universe might beSubject to such a rag of it as he;But to consider great Necessity».]. А не собрав себя, ты скажешь: как же можно что-то делать, если кругом зло. Итак, герой – это тот, который не то что не видит зла и горя, а они никогда не являются для него извинением не быть тем, кем он призван быть. Очень часто, вы знаете, бедность других, горе других есть извинение, которое мы ищем, для того чтобы чего-то не делать. Не совершить, не испытать, не помыслить и т д. Вот это у Пруста проиграно в теме дружбы. Пруст считал дружбу потерянным временем, потому что она отвлекает тебя от тебя самого, который есть для тебя самая большая загадка. А в дружбе тебе она кажется решенной, потому что в беседе мы всегда предстаем как готовые и завершенные люди, поскольку мы сообщаем что-то (нельзя ведь сообщать кому-то, если ты сам внутри себя не завершился). Это иллюзия, что мы есть у самих себя. А иллюзии опасны. Следовательно, еще одна черта героического сознания – сознание без иллюзий. У Пруста весь бег поиска правды, поиска истины, в том числе поиска истины ревнивым человеком, который ищет истину о своей возлюбленной (изменяет она ему или не изменяет, а если изменяет, то с кем), весь этот бег во взаимоотношениях с местами, именами, скажем, с аристократами Германт, которые магическое действие именем на него оказывают, слово «Венеция», которое содержит в себе целый мир очарования, – не иллюзия ли это? – так вот, прохождение человеком поиска возлюбленной или ее измен, прохождение взаимоотношений с привлекательными героическими именами аристократии, с привлекательными именами городов – все это есть прохождение, как говорит Пруст, «до последней иллюзии, подлежащей уничтожению»[271 - C.G. – p. 567.]. Или – подлежащей изживанию. Вот это я называл философией жестокости.
XX век – век организованных иллюзий, организованных мифов, и, следовательно, та тяжесть, которая лежит на нас, состоящая в том, чтобы быть жестокими по отношению к самим себе, то есть идти до последней иллюзии, подлежащей уничтожению, возрастает. Это не просто милые иллюзии XVIII или XIX веков, это коллективные и весьма четко организованные иллюзии. И пройти сквозь них очень трудно. И этот труд прохождения, усилие прохождения есть то, что я называю героизмом. В действительности можно заменить все эти слова и сказать о труде. Трудиться надо. А трудиться очень трудно, и мы избегаем труда. Ведь эти иллюзии тем сильны в XX веке, что они, будучи организованными, специально построены так, чтобы одновременно создать у человека иллюзию ясного сознания, что он понимает мир, и при этом избавить его от труда, который необходим для того, чтобы вообще что-либо понять в мире. Организованные иллюзии – это схемы, которые простейшим образом умещают мир в такой… величине головы. (Посмотрите историю социал-демократии, и вы с удивлением увидите потрясающую картину: …такой величины головы социал-демократических корпорантов вмещали мир, очень сложный. Вмещали так, что им даже не нужно было трудиться над пониманием. У Каутского, например, уже есть целая история философии, в которой Платон и Сократ – это аристократическая реакция. Понятно все. Демокрит – представитель греческих демократических кругов. Это от Каутского идет. Вы думаете, что это советские кретины придумали в 20-х годах? Да нет, что вы… Это придумано в почтенной Германии, в конце XIX века.) Так вот, схемы страшны тем, что они и удовлетворяют нас своей ясностью понимания, и освобождают от труда. А героическое искусство или героическое сознание есть сознание труда свободы и ответственности. Чудовищное бремя, которое человек при любом поводе хочет сбросить с себя, – бремя труда и свободы. Потому что ничего нельзя без труда. Например, без труда нельзя даже простейшего чувства узнать. Мы ведь все время сталкиваемся с тем, что, например, чувствовать справедливость – недостаточно для справедливости. Чувствовать любовь – недостаточно для любви. Оказывается, трудиться надо, потому что справедливость формой устанавливается, и чувства устанавливаются посредством искусства (искусства в широком смысле слова, не обязательно в смысле поэзии, литературы и т д.). Искусство как продукт сильно сколоченной формы. Вы помните – как раз тогда, когда Пруст был более всего преисполнен любви к своим родителям, именно тогда родители его отталкивали, и он не понимал этого. Он оставался один на один со своим необъемным, громадным чувством любви, прекрасным чувством, и чувствовал себя несправедливо обиженным, непонятым. Конечно, контакта не произошло по той простой причине, что до этого мальчик валялся в истерике и мучил своих родителей. Именно тогда, когда ты преисполнен любовных чувств, – не получится. В случае родителей – это еще поправимо. А вот с любимой женщиной, когда есть встреча, и – ничего не произошло. Не прошло общение. А я так хорошо был намерен, а я так хорошо любил… А в области мысли – я ведь не хотел этого. Вот слова «не хотел», «я был так хорошо настроен», «намерен» – из разряда запрещенных фраз. Запрещенных для развитого героического сознания. Их нельзя, конечно, запретить. Слово «запрет» я применяю в смысле внутренней невозможности, то есть когда что-то стало внутренне невозможным, если мы развились. Если мы развились, мы не можем мыслить так, чтобы можно было потом сказать, что это не входило в наши намерения. Ну, скажем, образ социальной мысли – сочиняется какая-нибудь теория, перестраивается жизнь людей, а потом там обнаруживается зияющий концентрационный лагерь, и человек говорит: «Но я этого не хотел». Простите, этого не бывает. Это не принимается героическим сознанием. Даже в качестве извинения не принимается. Не может быть этого. Героическое сознание знает, что дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно. Изволь мыслить точно. Значит, ты просто не мыслил. Не потому, что этого не хотел, – в тот момент, когда был последний час, тогда ты не мыслил.
Мы все время бродим вокруг того, где, в каком пространстве, когда совершаются наши собственные акты. В том числе акты мысли, акт нежности, акт сочувствия. Ведь – я сказал слово «точно» – если бы Германт почувствовал, то мы знаем, что здесь была бы решена проблема, которая и называется странным словом – точность. Есть точность чувства. Но точность чувства опять-таки не есть дар самих чувствований (как психофизиологических явлений), а есть дар проработанности нашего сознания в онтологии, в законах бытия, владение которыми позволяет нам присутствовать, и когда мы присутствуем, мы точно чувствуем. Значит, так называемый точный акт (слово «точность» применимо к чувству) – чувство в данном случае – происходит в каком-то пространстве. У него есть место. В смысле нашего естественного, природного устройства и раздражимости наших нервов. У одних они раздражимы, у других нераздражимы. Да нет, у Германта нервы, я уверяю вас, такие же, как и у другого человека, точно чувствующего. Нервы такие же. А неточно он чувствует, то есть не открыт и не может воспринять того, что перед носом стоит, по другой причине. Потому что он «умер к самому себе». Умер потому, что сам – в прошлом, а там не сделано. А несделанное и есть смерть. Мертвая часть его душевной жизни. Он умер к самому себе. А для Пруста это было как раз самым страшным: умереть к самому себе, не признать, отречься от мертвого – выпасть из человеческих связей и не узнать Бога. Или не узнать таланта, не узнать гения (в данном случае это одно и то же). Не узнать. А как мы узнаем? Каковы законы узнавания? Встречи происходят. Скажем, бросился на шею родителям, а они меня оттолкнули. Я так люблю, а она меня оттолкнула. Здесь все есть. Она на месте, я на месте, мы встретились – ток жизни не прошел. Почему? Или почему я кого-то не узнаю? Например, я могу смотреть на Сократа и видеть его уродство. А какими глазами я вижу его божественное тело, то есть действительного Сократа, – какими глазами? И какой шанс у Сократа, что он предстанет перед людьми и они увидят то, что он есть? Потому что то, что он есть, невидимо. А каковы условия того, что мы можем видеть нечто не видимое глазом? Трудиться надо, чтобы тебя понимали, потому что только перед Богом можно предстать в несовершенном виде, а перед людьми – ни в мыслях, ни в чувствах – нельзя. Почему? Потому что для людей любой повод хорош, чтобы не увидеть. Вот если перед вами оборванная мысль, то я, например, если у меня хороший вкус, могу сказать: фу, какая оборванная мысль, – и не потрудиться посмотреть, что на самом деле рвалось высказаться за лохмотьями. Ведь люди несовершенны в своих чувствах.
Рвется что-то действительное, и он не может этого сказать. А я не могу услышать вообще просто потому, что он плохо говорит. Посмотрите на российских диссидентов, они же разговаривают с людьми на языке, на котором только с Богом можно было бы разговаривать, в том смысле, что Он-то простил бы несовершенство и увидел бы тело человеческого страдания за несовершенным и глупым языком. Но не с богами ведь разговаривают, а с людьми. Следовательно, не потрудились, чтобы была мысль. Сами виноваты. Хотя я бы еще мог увидеть, что они хотели сказать. Но это случайно, во-первых, и потом, люди не обязаны избавлять тебя от твоего собственного труда артикуляции мысли. Варвара никогда не поймут в самых лучших его намерениях. В самых лучших его мыслях. И он будет обижен и будет говорить так: именно тогда, когда я был самым хорошим, именно тогда, когда я лучше всего был расположен, именно тогда «кто-то камень положил в мою протянутую руку». Ну, не только камни положат, хуже случится.
Что мы имеем теперь? Во-первых, героическое сознание есть сознание труда и, во-вторых, – отсутствие извинений или, так сказать, прощающих инстанций, если труд этот не совершен. Нет таких прощающих инстанций. Не на что сослаться. Потому что – можешь. Нет механизмов. Механизмов мысли не существует. Механизма дружбы не существует. Можно что-то делать, и тебе может быть подарена дружба или братство. А наоборот – не полагается. На философском языке, на языке теории я говорю так: есть культуры, в которых вообще не проработано онтологическое отношение между целью и средством. Скажем, русская культура такова. И потому я не могу приводить примеров героического искусства из русской традиции. Даже Достоевский – если меня сейчас завести и я ринулся бы в разговор о Достоевском, то я бы показал вам Достоевского как литературного Хлестакова, гениального, талантливого, все что угодно – это самый настоящий Хлестаков. Ему не хватило, конечно, жизни, чтобы стать. Ему нужно было еще несколько жизней прожить, чтобы полностью выкорчевать из себя то, что он выкорчевывал. А он выкорчевывал, в этом ему нужно отдать должное. Из себя изживал. Но не успел, и поэтому никогда не нужно возводить в систему мысли, представления и образы Достоевского; не нужно искать за ними систематической философии, потому что если выстроить систему, то она будет абсолютной глупостью. А вот артистическое присутствие, которое нельзя резюмировать, есть у Достоевского. И – отделять от него мысль как доктрину Достоевского невозможно.
Возвращаясь к проблеме героизма, который всегда сочленен с идеей или с построением сильной формы: герой знает, что – быть настроенным – должна быть трудом сколоченная форма, На ней может что-то держаться. Кристалл, «язык». Значит, цивилизация – это язык (в отличие от варварства). Справедливость как механизм цивилизации есть форма или есть язык, полностью отсутствующий в наших головах (обратите на это внимание). Полностью. Вот попытайтесь отдать себе отчет в том, как мы реагируем, чего мы ожидаем. Попытаемся ловить самих себя на варварстве, потому что другого шанса быть не варваром нет. Если мы не узнаем, что мы – варвары, то мы никогда не будем другими. И в связи с этой формой, спаянностью героя с формой и т д. я приведу еще один термин, который вам пояснит область всех проблем в литературе XX века, которыми мы занимаемся через Пруста. Я ввожу нового автора – меня спрашивали, кого из немецкой традиции можно назвать, я назвал Рильке, а сейчас назову Музиля. Так вот этот человек построил утопию. Не буду говорить о всех ее частях, упомяну о ней только с той стороны, которая связана с моим сегодняшним введением. Это утопия, грубо говоря, точной жизни. Обычно мы говорим «точная мысль», «точное рассуждение», а у Музиля – утопия точной жизни. Он понимал: то, чего нам хотелось бы в жизни, случается в ней какой-то организацией жизни. И эта организация возможна. То есть возможна организация наших реакций, того, что происходит в наших встречах, поскольку в нашей власти организовывать полноту присутствия. А что случится во время присутствия – это уже, конечно, вопрос судьбы. Такого рода философия заключена в этом многостраничном романе «Человек без качеств». Кстати говоря, название ведь тоже… я говорил вам – «через ушко иголки не проберется богатый». А кто такой богатый? Богатый – это человек, у которого есть качества. У которого есть завоеванное, достигнутое – вот такой не проберется в царство Божье. И не случайно Музиля интересует, как быть человеком без качеств. Потому что завоеванного-то в действительности нет – смертельная болезнь, по выражению Кьеркегора, думать, что ты что-то есть. Это не может быть элементом точной жизни. Хотя, казалось бы, жизнь есть самое неточное, что вообще может быть на свете. Но, понимаете, есть парадокс такой, что свободное действие, жизненное свободное действие может быть точнее логического мышления. Логическое мышление имеет много связок и умозаключений, и мы на тысяче первой связке можем ошибиться, потому что забыли какие-нибудь символы. А точная свобода – скажем, присутствие перед горем, прошел через открытое отверстие твоей души контакт – это есть точность, гарантированная свободой. У тебя полное в своей свободе чувствование. То, что нигде не застряло, Что значит «быть в прошлом»? Застрять в прошлом – нога твоя в прошлом, а рука здесь. Вот что такое несвобода.
Значит, в метафизическом смысле говоря о форме, о героизме, мы все время говорили о чем-то, что является механизмами, или средствами, высвобождения свободы (это тавтология, конечно). Я говорю свобода свободы, мысль мысли. Закон закона. Закон, который есть форма и условие любых законов. Какие будут, неизвестно. Свобода свободы – это можно понять, а вот что в свободе будет сделано, этого никто предсказать, определить или предопределить не может. Будет то, что есть, – чувство. А поди его сфабрикуй. Но – есть условие свободы. Свобода – как условие свободы. Или высвобождения. Это относится и ко времени. Когда мы будем заниматься проблемой времени, мы увидим, что проблема обретенного времени есть проблема высвобожденного времени. И везде витает один предельный образ над такого рода точным мышлением или точной жизнью. Здесь слово «мышление» есть мысление условия мышления. Не акт мышления, который анализирует логика, а нечто, что тоже есть мысль в смысле того, что является условием мысли. Ее события. Условие события мысли. Или – условие события чувства. Скажем, в примере Геманта полнота присутствия есть условие события чувства. То есть условие переживания горя другого человека. Это условие выполняется или не выполняется – можно описать: выполняется, не выполняется. Можно показать, почему не выполняется.
Но о самих чувствах говорить в терминах «почему» нельзя. Если среди вас есть математики, то я тогда позволю себе следующее: наша терминология всегда – метатерминология. То есть – не сами чувства или их описание, а описание чего-то, посредством чего мы действуем на условия возникновения чувств, которое (возникновение) само по себе спонтанно, непредопределимо и неописуемо. И над всем этим (я отклонился в сторону пояснением метатеоретической или метатерминологической стороны нашей работы – не свобода, а свобода свободы) витает какой-то невысказываемый символ, скрытый символ какого-то отсутствия. Чего-то, что есть, но чего и нет. Что в то же время нельзя уловить, что похоже на какое-то легкое прикосновение ангельских крыл, которые нельзя схватить, но без них ничто не приходит в движение, а самих их нет. Вот смотрите, я говорю: полное присутствие. То есть быть вынутым их всех остальных частей своей жизни, и быть сейчас здесь. Как это увидеть? Нельзя увидеть, нельзя описать, это можно дать только через отрицательные термины. Какая-то пустота, но в то же время насыщенная. Я говорил о нуле, о точке равноденствия, которая насыщена и т д. Образ, который присутствует и у Арто, и у Пруста. У Пруста – пловец высвобождает подводную тяжесть[272 - Sw. – p. 46.]. Кстати, этот образ похож на дантовский образ – по закону соответствий, а не цитирования. Correspondance – соответствие состояний, которые повторяются в пространстве человеческого сознания. Не отдельного сознания, а всех наших сознаний, независимо от эрудиции или цитат…
ЛЕКЦИЯ 15
11.06.1984
Напомню коротко, на чем мы остановились, и намечу путь нашего дальнейшего движения, чтобы вы знали, что нам грозит и на что мы можем надеяться, и, таким образом, если вас затронут эти цитаты и мои комментарии к ним, вы сможете участвовать в том, о чем будет говориться, и двигаться вместе со мной.
В прошлый раз я напомнил вам, что фактически – и я сейчас это выражу немножко иначе – мы имеем дело с особым литературным произведением (и этим оно для нас интересно), которое представляет собой завершение существовавшей традиции, выражавшейся романами испытания или воспитания – чувств, или романами пути. Короче говоря – такие произведения, которые сами в своем тексте фиксируют какой-то опыт, пройденный человеком, и изменение человека посредством понимания этого опыта. Иными словами, роман «воспитания чувств» никогда не есть описание какой-либо действительности – социальной, нравственной или какой-нибудь еще, а есть прежде всего поучение, дающее возможность человеку измениться. Стать другим. Другим, чем он был к моменту написания романа или к моменту чтения. Значит, во-первых, пишущий меняется, фиксирует изменения, произведенные в нем опытом, и, во-вторых, читатель, если он понимает, о чем написано, если опыт писателя совпадает с каким-то его внутренним переживанием и затрагивает его, тоже приходит в движение и изменяется. Напомню вам Стендаля, Флобера, у которого роман так и называется – «Воспитание чувств», напомню вам Гете – классическая европейская традиция, которая, кстати, в России отсутствовала. (Поэтому я говорил, что нам, для нашего пробуждения души и восстановления духовных нитей нашей культуры, важнее и ближе европейский опыт. В российском опыте такого рода традиции романов изменения или воспитания отсутствуют. Русская литература социальна, назидательна, воспитательна, но она всегда, по сравнению с романом «воспитания чувств», статична. Она утверждает читателя в том, что он знает о мире, и никогда не дает ему орудий изменения.) В рамках этой традиции прустовский роман есть уже машина изменения. Он построен так, что производит эффекты внутри себя, подобные тому, как если был бы ящик резонансов – caisse de rйsonances, по выражению Пруста[273 - S.B. – p. 76.]. Части романа перекликаются одна с другой, внутри романа изменяются смыслы от страницы к странице, как изменялась бы раковина моллюска, и мы с вами, живые существа, изменялись бы вместе с этой раковиной. И чем шире и больше пространство этого ящика резонансов, тем, конечно, больше эффектов откладывается в нашей душе. В основе такого построения лежит несколько принципов, мы о них говорили, я лишь напомню то, что мне понадобилось для дальнейшего движения. Мы занимались тем, как устроена или какова структура впечатления, а впечатление есть материал романа. Мы выяснили, какое отношение впечатление имеет к факту, что вообще приходится писать роман. То есть создавать нечто, имеющее форму. Без формы невозможна организация нашей сознательной жизни; без нее наш психический процесс подчиняется естественным процессам распада и рассеяния. Собирание и пребывание в некоторой человеческой полноте невозможно без крепкой формы.
Теперь по смыслу того, что я говорил в прошлый раз в некотором введении, я назову душу писателя, мыслителя или просто человека – такую душу, которая совмещена с сильной формой, – классической душой. Классическая душа – это мужская душа, способная стоять один на один с миром, сколько бы в нем ни было несчастий, распада, рассеяния, неравенства, несправедливости, способная не тыкать пальцем в факты несправедливости, или неравенства, или несчастья, не тыкать пальцем в них как в некоторое алиби, для того, чтобы самому ничего не делать, самому не собираться, – так вот, классическая душа способна, вопреки всему этому, принимать какой-то законченный внутри себя облик, такой, что источники счастья и несчастья перемещаются в саму форму жизни или творчества, которой данный человек или данная душа владеет. На это были способны Декарт и метафизические английские поэты, с этого начинал Данте на заре Возрождения. Я вам напоминаю основную черту классической души: организация чего-то, что естественным образом не может случиться, организация этого «что-то» посредством формы или слова, текста в широком смысле этого слова. Текст не обязательно должен быть вербальным. Например, все эти люди с классической душой всегда начинали новую жизнь. Что означало – не начать делать что-то другое, а начать существовать в другом измерении. Vita Nuova – устойчивый символ Данте – организация чувств и переживаний посредством формы или слова, или стиха; ему уже не нужны всякие движения души, ему нужно то, что нужно было уже грекам: идеальный инструмент, который издает только гармонические звуки. И душа любящего может быть построена как инструмент, издающий гармонические звуки в любви, но для этого нужна, например, поэма или стихотворение. Я повторяю: стихотворение нужно не для того, чтобы написать стихотворение, – поэт вовсе не творец в этом смысле, поэт не есть лицо, пишущее стихотворения, которые потом печатают. Стихотворение есть часть душевной жизни – например, любовной страсти, осуществляемой в ее полноте и в ее истинном смысле. И вот вы увидите, что каждый параграф книжки, которая называется Vita Nuova, – упорная работа со своими чувствами, чтобы спонтанность их канализировалась бы через форму и дала бы какой-то особый результат, естественным путем недостижимый для человека – слабого, эгоистичного и распадающегося существа. Данте даже национальное гражданское бытие Италии понимает как нечто, что организовывается и конституируется через язык (посмотрите его работы «Монархия» и «Пир»). Артикуляция – канализируясь через которую даже массовая социальная жизнь дает другой результат и складывается иначе, чем если бы не было этой артикуляции. Я в прошлый раз вам напоминал, что классическое определение греками варварства имеет очень глубокий смысл. Варвар – это человек без языка. То есть без артикуляции, самостоятельной, отделенной от человеческих намерений, позывов, побуждений, прекрасных чувств и т д. Это есть артикуляция. Поэтому я говорил вам: закон не есть стремление человека к законности. Закон – это артикуляция, он должен быть написан. И тогда человеческое сознание организуется так, что в нем есть элемент и сознание закона, которого нет, например, у нас. Наша национальная жизнь лишена такого рода артикуляции. Поэтому мы по-прежнему зависим от того, о чем еще Грибоедов восклицал: «Минуй нас пуще всех печалей И барский гнев, и барская любовь». По-прежнему наше сознание, все наши ожидания организованы вокруг барской милости, которая, конечно, лучше барского гнева. Но и милость, и гнев одинаково плохи с той точки зрения, о которой я вам говорил. Они одинаково не могут быть основаниями ни гражданской жизни, ни исторической жизни, ни нашего сознания. Так что теперь мы еще лучше понимаем, что такое классические души. Классические души – это души, которые это понимают и на этом стоят. Они сами создают другую атмосферу, другой воздух, в котором они же могли бы дышать. Поэтому, скажем, для Галилея не было той проблемы, которая была для Кампанеллы. Кампанелла жил на церковной почве и боролся с церковью, а Галилей сам уже создал себе другой мир и другую почву, и не церковь была его врагом. Поэтому он мог ей и уступить, выполнив ритуал, которым предполагалось, что Земля не вращается вокруг Солнца. Что революционным интеллектуалам XX века дало повод для мучительных размышлений о том, был ли трусом Галилей, не предал ли он дело революции. Вообще мы всегда ожидаем от других каких-нибудь героических жестов. Человек обязательно должен взмахнуть гривой волос, гневно сверкнуть очами и призвать – долой тирана! Я очень часто встречаю такие ожидания в адрес Канта (он, якобы, должен был совершить такой поступок), в адрес Гете, которого в литературе считают филистером, мещанином, завороженным блеском аристократии. Но дело в том, что поле борьбы и Галилея, и Гете, и Канта лежало в другом месте. И Декарта тоже. И это же относится и к нашему Прусту, который именно по тем причинам, о которых я сейчас говорил, не любил так называемые социальные и идеологические романы[274 - См.: S.D. – p. 307; T.R. – p. 881.]. В них он видел только результат того, что автор не понял своих же собственных побуждений и впечатлений. Не разобрался в них, не овладел ими.
Напомнив вам о значении текста (то есть артикуляции), скажу, что перед нами теперь стоит проблема: каким образом текст, форма, или форма жизни, или то, что я называл «крупная мысль природы», архетип, если угодно, – участвуют в более широком движении человеческих существ. В судьбах людей, в той мере, в какой эти судьбы есть продукт перекрещивания человеческих путей; не только того, чем человек в себе овладевает, но и того, что происходит в глобальном пространстве и времени – истории судеб и т д. Для начала я коротко и, может быть, заманчиво для вас обозначу всю эту тему и весь ответ на нее одной фразой в жанре Пруста. Миры в романе Пруста – а там миров очень много – «миры различий»[275 - Pr. – p. 277.], как выражается Пруст, – это исполнившиеся в своей полноте и личности, и художники, мировоззрение каждого из которых есть уникальный мир. И эти миры вращаются в каком-то странном пространстве, запущенном по каким-то траекториям. Все это можно описать одной странной фразой Фурье (она даже написана на цоколе памятника Фурье в Париже) – представьте себе пространство, в котором действуют силы, которые метафорически можно назвать силами притяжения между мирами различий, – «Притяжения пропорциональны судьбам»[276 - Breton, Andre. Ode a Fourier. Paris, 1961. P. 78.]. Скажем, Марсель оттолкнулся от Рахиль, а Сен-Лу притянулся, – для него она духовная красота мира, а для Марселя, как я говорил вам, она – женщина, которую можно иметь в доме свиданий, женщина, как и многие другие. И вот то, что увидел Сен-Лу в Рахиль, есть часть его судьбы, часть его эмпирического пути в жизни, и этот путь, состоящий из результатов притяжений, пропорционален – судьбам. А судьбы заложены в чем-то. Они заложены в каких-то телах. В телах упаковано нечто, являющееся судьбой, и то, что с тобой случится вне тебя – в истории, в обществе, с кем ты встретишься или не встретишься, с кем ты встретишься, поняв встреченное, или с кем ты встретишься, не поняв и не увидев (скажем, ты можешь встретиться с Богом и не узнать Бога в Боге, ты можешь встретиться с предметом сочувствия и не проявить сочувствия, и наоборот) – все это пропорционально, то есть законосообразно («пропорция» есть просто другой перевод слова «рацио»; рацио есть разум), соответственно чему-то. Вот это таинственное «что-то» мы пока называем судьбой. Я говорю только одно слово для расшифровки этого таинственного «что-то»: тяжелая упакованная масса. У Пруста она называется прошлым, или прошлым опытом, если угодно. И она не видна. Видны те события, которые – впереди нашего глаза, а то, что – сзади нашего глаза, то есть в нас, не видно. Но то, что мы видим, пропорционально тому, чего мы не видим. Наш глаз притягивается или отталкивается, и это, оказывается, не случайно. Не потому он притянулся к женщине, что она красива, – притяжение к красивой женщине объясняется не физическими качествами ее красоты, а какими-то совершенно другими причинами, которые заложены в том, чему это пропорционально. То есть – в судьбе. А судьба есть, например, упакованность во мне моей жизненной ангажированности и топоса, в который я помещен по отношению к этой женщине. Мы чаще любим ту женщину, которая не пришла на свидание, в тот момент, когда была возможна кристаллизация нашей души, чем ту женщину, которая объективно, по каким-то показателям, красива или умна. Пруст говорит (взято весьма простонародное французское выражение): «…d'un „lapin“ que la demoiselle nous a pose»[277 - Pr. – p. 66.]. Полублатной советский эквивалент таков: женщина, которая «крутит динамо» (не знаю, говорит ли это вам о чем-нибудь). Так вот, она развязывает ту канву, которая внешне называется увлечением, любовью и которую мы столь же внешне пытаемся объяснить какими-то качествами женщины, которую мы любим. Значит, эпиграф наш: притяжения пропорциональны судьбам. И тем самым наш эпиграф говорит: то, что происходит в глобальном пространстве, имеет какие-то законы. Как говорит Пруст, законы этого необъятного универсума[278 - S.B. – p. 394.]. Какие законы? Очень часто Пруст говорит об алгебре чувствительности[279 - Fug. – p. 517.]. В связи с той проблемой, к которой мы теперь переходим, Пруст говорит о вибрации, распространяющейся по всему пространству, о распространении волн, об осцилляциях[280 - См.: C.G. – p. 54; J.S. – p. 806; S.B. – p. 612; Fug. – p. 425; T.R. – p. 944.]. Все это мелькает не случайно. Его восприятие и понимание того, что происходит, было таким образом устроено, что именно эти слова занимали пустую клеточку, отведенную для слова. Имея в виду движение истины по глобальному пространству, Пруст говорит так: «…я слышал гул рассекаемых пространств»[281 - Sw. – p. 46.]. Еще одна фраза, которую я уже приводил: caisse de rйsonance, ящик резонанса – еще одна метафора, чтобы настроиться именно на такое видение.
Теперь вернусь к тому, что мы сейчас должны резюмировать в связи с проблемой впечатления. Значит, восприятие Пруста близко нам по той простой причине, что он есть редкий случай автора, записывающего жизненный человеческий путь. Любой человек может узнать себя в Прусте. Это вам не Томас Манн… Чтобы узнать себя в произведении Томаса Манна, скажем, в «Докторе Фаустусе», я должен быть, по меньшей мере, профессором философии. Но даже в качестве профессора философии мне не удается эту операцию совершить. Не узнаю. С Прустом же происходит прямо обратная история. Конечно, эффект узнавания имеет свои «накладные расходы». Слишком легко узнав, мы многое проскакиваем и не видим глубины. Все кажется нам слишком обычным или мелким. Но мы попытаемся нейтрализовать тенденцию не замечать глубины за тем, что перед нами стоит в своем простом виде. Так вот – этот близкий нам человек, чье восприятие и текст регулируются среди прочих принципов и принципом только моего состояния. Я его выражу (ближе к словам Пруста) следующим образом: все, о чем я знаю извне, все, о чем я слышал, все, что пришло ко мне от других, все это – не мое; только из того, что я испытал сам, и только из моей собственной тени вырастает действительное знание, действительное впечатление и действительный мир[282 - T.R. – p. 880]. Значит, в числе состояний, которые эмпирически случились у меня, у кого-то другого и которые описуемы, нам интересны только те, которые отвечают этому принципу. Другие в реестр материала романа не допускаются. Допускаются только те, которые соответствуют принципу только моего состояния. Второй принцип (о нем я тоже говорил) – принцип ангажированности. Не в современном французском смысле, в котором это слово было так любезно Жан-Полю Сартру, а в нормальном житейском французском смысле. Задействованность своей души и своей судьбы в каком-либо переживании и в каком-либо действии. Поставленность на карту. Не какие-то безразличные ощущения, от которых нам ни жарко ни холодно, а такие, – в которых «жизнь наша решается», если взять слова Достоевского. Не просто мысль, а жизнь моя решается в зависимости от того, что говорит эта мысль. Так вот, – принцип ангажированности. И он для нас пока означает очень простую вещь: лишь озаботившись своим предназначением, – а принцип ангажированности есть принцип предназначения, принцип голоса, или ситуации, которая обращена только к тебе в том смысле, что, лишь озаботившись своим предназначением, только ты можешь дать на нее ответ. В описании принципа номер один у меня проскочило слово «тень». Пруст говорил, что только из своей темноты, только то, что выросло из этой темноты, только в том может быть истина. Действительность, реальность. Так вот, предназначение есть что-то, чем я озаботился в своей темноте.
И вот то, что окажется знанием, выросшим из этой темноты, и есть то, что может быть принято в число впечатлений, используемых для описания. Озаботившись предназначением, – а наше предназначение, как корень, скрыто в нашей темноте (корни всегда скрыты; если они обнажены, тогда то, корнями чего они являются, умирает вместе с ними), – невидимое, темное, оно ведь без меня не существует. Так же, как не существует в чисто физических описаниях щек Альбертины, если они не надуваются изнутри ветром желания. А желание – один из посланцев внутренней темноты, желание всегда темно и уникально, это есть моя внутренняя озабоченность или ангажированность, и Пруст, кстати, считает, что желание вообще есть источник всякого познания[283 - Ibid.]. Мы ничего не познаем, если предметы, которые познаются, не станут тем или иным образом предметами наших желаний. Булонский лес, описываемый как лес, воплощающий идею женщины, не существует, не раздуваемый ветром прошлой ангажированности того, кто в этом лесу гуляет. И если нет прохожего с этим прошлым, то, как выражается Пруст, лес как лес, озеро как озеро, и над ним летали птицы, как любые другие птицы, и ничего не происходило[284 - См.: Sw. – p. 427.]. Значит, весь этот мир выдувается и превращается в мир, ценный и заслуживающий переживания (быть предметом переживания), заслуживающий того, чтобы быть предметом познания. Чтобы мы захотели узнать, что это за символы – леса, озера… Оказывается, лес так прекрасен и таинственно шелестит теми листьями, которые развеваются не физическим ветром, а ветром моего движения, в которое я пришел в силу предназначения или в силу ангажированной темноты. В данном случае темноты желания. И вот тогда мы приходим в движение, движемся в мире. И это движение сразу же забрасывает нас в такие дебри, в которых нам очень трудно разобраться.
Итак, мы пришли в движение, и теперь введем третий принцип. Наше состояние и только наше состояние, комбинированное с нашим предназначением и только с нашим предназначением, с нашей темнотой, – не являются непосредственной данностью в обычном смысле слова. Дело в том, что философский язык, особенно когда он становится традиционным, способен вводить нас в заблуждение. Скажем, то, что я говорил о наших состояниях и т д., в литературе, в том числе и в эстетической, называется данностью. Нечто нам дано и нас впечатляет. Но ведь Булонский лес в качестве источника впечатления вовсе не дан. Рахиль как источник любви Сен-Лу вовсе не дана. Потому что как источник она существует внутри его тени, внутри его темноты. А для Марселя она не может быть источником волнения, потому что она – женщина, которую можно иметь в доме свиданий. Вот эту сторону нам нужно обязательно ухватить. И это некоторое наше состояние не только не является непосредственной данностью в обычном логическом смысле этого слова, – я набрал энное число данных и на основании их сужу о чем-то, да? – эти данные не входят в качестве частей в наши суждения. В суждения Сен-Лу, может быть, войдут, а в суждения Марселя не войдут. Значит, это не есть просто нейтральные данные суждения, на основе которых можно делать какие-то выводы, что-то узнавать и двигаться вперед в познании. То, что мы называем состоянием, не является данностью – чувственной или какой-либо еще – в обычном смысле слова. И не только не является данностью, а еще это состояние, связанное с предназначением или с темнотой, с тем, что нужно сначала внутренне озаботиться, счесть это вопросом жизни и смерти, и тогда мы приходим в движение знания, – оно еще и многомерно реально. То есть оно актуально и реально, лишь будучи одновременно дано во многих мирах, во многих глазах и во многих временах. Помните, Пруст говорил, что ни в какой данный момент мы сами себе не даны в полноте нашего существа и что реализуемся мы лишь в последовательности, в разное время реализуя разные части самих себя, да еще к тому же рядом с последовательностью всегда есть развитие этого впечатления вбок куда-то, где одно и то же впечатление реализуется в нескольких жизнях. Я как бы говорю следующее: с одной стороны, одной личности (то есть одной жизни) недостаточно для того, чтобы реализовать личность, – а личность мы предположили набитой впечатлениями или состояниями, или судьбой. И, с другой стороны, цельную полную личность могут составлять несколько жизней разных лиц. Вот что я называю многомерностью, или многомерной актуальностью состояний. Состояния актуализируются во многих измерениях. И тут возникает вопрос – в связи с теми проблемами, с которыми мы начинаем иметь дело, – чья память имеется в виду у Пруста? Непонятно, если призадуматься, чья это память. Ведь память обычно – ваша, моя, то есть память субъектов. Вообще, чья это память – в смысле – субъектна ли эта память, есть ли у этой памяти индивидуальный субъект? Или у состояния, которое описывается, – есть ли у него вообще индивидуальный субъект? Я говорил вам о странной перекличке между любовью Свана и любовью Марселя, когда в любви Марселя случаются события по предзаданному типу тех, которые сцепились и произошли в любви Свана. Тогда, не уступая побуждению назвать это просто совпадением, нужно поставить радикальный вопрос: чья это любовь? История чьего чувства, и есть ли у этого чувства субъект? В обычном, понятном, принятом нами смысле. Субъект – это я, вы и т д. Есть ли это? Вот какие вопросы сразу встают, когда мы призадумаемся о том, в какой форме существует состояние, то, которое – только мое состояние, и каков способ бытия состояния. Оказывается, есть третий принцип: способ бытия состояний многомерен. Или актуален – состояние актуально в измерениях, не совпадающих с измерением одной человеческой индивидуальности и не совпадающих с конечными границами ее в жизни. Она ведь рождается – индивидуальность – и умирает. А состояние Марселя, в котором он любит Альбертину, – оно неописуемо, если к этой любви прилагать только термины, разрешимые в границах этой земной жизни Марселя. Оказывается, нужно знать еще, что происходило со Сваном. Понимаете, что я говорю, или нет? Ну, хорошо, тогда условно скажем так, чтобы просто воспользоваться метафорой, помогающей пониманию аналогии (я надеюсь, что это будет помогать, а не мешать). Вы знаете, что существует проблема бессмертия души. Или того, что происходит с душой за пределами нашей конечной жизни и т д. В действительности в этой традиционной проблеме зашифровано некоторое свойство нашей сознательной жизни, реальной сознательной жизни. И зашифровано потому, что у нашей сознательной жизни есть некоторые свойства, которые неописуемы индивидуально-биографически. Оказывается, нужно привлечь что-то, лежащее за границами и условиями этой конечной жизненной траектории человека. Я не говорю, что это нечто бессмертное – в том мире, просто я привожу символ, а не буквальный ответ. Но символ указывает нам на проблему, то есть на ту область, которой мы занимаемся.
Я резюмирую последний принцип короткой формулой, которая вытекает из сказанного мной. Фактически он означает, что есть интервал между «я» равно «я». То есть между мною и мною самим есть громадный интервал, громадная сфера. Мне не так просто воссоединиться с моим впечатлением или с моим состоянием. Если оно актуализировано во многих местах и во многих временах, то, значит, я существую и в начале движения и где-то в конце или на поверхности громадной сферы, и между нами есть интервал, составляющий саму эту сферу. И поэтому изменение самого себя посредством текста или посредством какого-то труда диктуется нам еще и тем, что такой интервал между мной и мною самим существует. Существует, заполненный необратимыми движениями в мире. Потому что то, что дано, актуализируется на многих точках пространства и времени и в нескольких жизнях, параллельных или последовательных. Это одновременно есть и рассеяние. Рассеяние состояния, в котором, если оно было, аксиоматически – в этом состоянии – мир был правдив, но в следующий момент или на следующем шаге имеет место это рассеяние по громадной сфере. Мы это знаем даже по нашей простой психологической жизни: пока я разобрался в своем состоянии и в своей темноте, пока я в своей темноте пытался породить свет, который только в темноте рождается, мир уже прибежал ко мне и ощетинился против моего движения понимания, ощетинился привычкой. Привычкой языка, логики, психологическими механизмами страха и надежды, о которых мы говорили. Ведь наши сознательные психологические операции, которые мы совершаем, пытаясь разобраться со своим состоянием, прекрасно аккомодируются, уживаются со страхом, который закрывает нам дорогу понимания. Ведь чаще всего мы чего-то не понимаем и вместо понимания строим иллюзии именно потому, что мы боимся. Боимся проснуться, например. Поэтому Пруст часто говорит: жизнь есть сновидение[285 - Pr – p. 417.], кстати, буквально повторяя формулу классического XVII века, где классические души вроде Кальдерона так и понимали мир. Мир как сон. Но это не есть метафора. Это буквально так. Ведь мы во сне компонуем или монтируем такие представления, которые позволяют продолжать нам спать (один из законов сна, вы прекрасно это знаете). И вот наше представление о реальности (или то, что – мы думаем – есть в реальности) очень часто составлено из таких монтажей, которые позволяют нам продолжать что-то. Например, не расстаться с самим собой. Страх. Избегаем чего-то. И появляются фигуры замещения, выступающие как реальность. В действительности это не есть реальность, а есть нечто, что позволяет нам продолжать быть, продолжать спать. А что такое – спать? Быть в том числе невнимательным. Сон – метафора, которая может быть широко использована. Скажем, я могу говорить о Германте как о спящем, потому что неприсутствие есть сон нашей души. Живя, мы не живем, присутствуя, мы отсутствуем и т д. (Если вы заметили, я сейчас фактически говорю философскими афоризмами Гераклита[286 - «Те, кто слышали, но не поняли, глухим подобны: присутствуя, отсутствуют, – говорит о них пословица». «Все, что видим наяву, – смерть; все, что во сне, – сон; все, что по смерти, – жизнь»(Фрагменты ранних греческих философов. С. 190, 217).]. Казалось бы, туманные фразы философии Гераклита, а я ими говорил, чтобы описать простое жизненное переживание. Значит, афоризмы Гераклита имеют какой-то смысл, который мы можем увидеть, если мы пришли в движение реального испытания мира.) Так вот, эта сфера есть одновременно и сфера рассеяния. Она набита, уже мир вращается с такой скоростью, что мы даже не успеваем подумать, а он уже подставил нам в своем вращении свои предметы. Предметы нашего внимания. Мне кажется, что я актом внимания выбрал предмет, – нет, это мир несколько раз повернулся и поставил передо мной предмет. Поэтому Пруст с большим подозрением относится ко всем волепроизвольным контролируемым психологическим операциям, которые обычно называются памятью, вниманием, выбором и т д.[287 - T.R. – p. 869, p. 870, p. 873.]. Они все – в той мере, в какой они волепроизвольны, являются, так сказать, униформными, безразлично выбираемыми операциями, выбираемыми из набора операций, – вот в данном случае я выбрал внимание, в другом случае я выбрал акт выбора, или еще в другом случае я выбрал акт памяти, вспоминаю. И оказывается, что эти операции вовсе не ведут нас ни к тому, чтобы в случае памяти вспомнить что-то (более эффективно для Пруста непроизвольное воспоминание[288 - S.B. – p. 558.]), ни к тому, чтобы в случае внимания быть внимательным, потому что нам кажется, что мы совершили духовную операцию, а в действительности мир повернулся, и – наше внимание зацепилось за подставленный объект. И вот в этой сфере, которая одновременно есть и сфера рассеяния, нам и приходится двигаться, чтобы прийти от «я» к «я».
Значит, сказав: изменение самого себя, или назвав текст (в данном случае прустовский, но имея в виду вообще категорию такого рода текстов) машиной изменения (эта же сфера одновременно является машиной времени, машиной случая), – фактически я должен считаться с тем фактом, (и это будет нашим четвертым принципом), что то, что называется впечатлением, содержащим какую-то правду о мире, раньше входит в нас, чем мы в самих себя и в него. Повторяю: впечатление раньше входит в нас, чем мы входим сами в себя и в это впечатление. И беда в том, что промежуточное пространство занято, по глубокому ощущению Пруста, выдуманными, хотя эмпирически существующими, какими-то невозможными спиритуализированными существами[289 - Sw. – p. 279.]. Как ни странно, Пруст, которого считали и считают эстетом, и он, естественно, по традиции связан с французским символизмом, и на многих страницах и этого романа, и других его произведений вы встретите слова «сущность», «вне времени», «духовный эквивалент», «дух» и т д., – как ни странно, Пруст абсолютный, фантастический антиспиритуалист. Если под спиритуализмом в данном случае понимать (как и следует вообще) некоторые рассудочные акты или даже рассудочные существа, которые стоят на месте живых, с кровью и во плоти выполняемых актов. Я поясню коротко смысл этого спиритуализма следующей фразой Пруста: он говорит, что все время пытается пояснить разницу, которая существует между весной и картиной весны, написанной плохим художником[290 - См.: Centenaire de Marcel Proust, p. 65 (lettre а Renй Blum).]. Кто хочет иметь картину весны, и к тому же написанную плохим художником, вместо переживания весны? Ну, картина, казалось бы, воспроизводит весну. Дело в том, что такие спиритуализированные существа, которые выполняют рассудочные акты и наполняют промежуток, в котором, например, есть вербальное знание вместо самого этого же знания, но не вербального. Есть описание, имитация любви и нет чувства любви в том же самом человеке, который употребляет эти слова. Это все рассудочные сущности или рассудочные существа. И они являются экраном между нами и миром. Или – экран между нами и нами самими же. (Хотя это, казалось бы, и просто уловить, но в то же время трудно, что и бывает видно по последствиям. А ухватить это очень важно.)