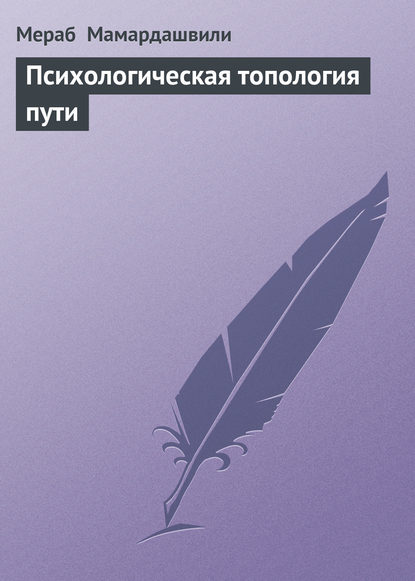По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Психологическая топология пути
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Фактически книга Пруста как запись жизни, в которой сама жизнь перестраивается и охватывается, овладевается, стягивается в целое, в бодрствующее целое, есть драма. Драма жизни и сознания против механизма и энтропии. Драма различий или мира различий, индивидуализированных и уникальных, против хаоса и безразличия или тождества. И добавлю к этому, что жизнь, сознание и различие есть нечто, что реализуется, исполняется только при помощи промежуточного средства: текста, или, в частном случае, искусства. А в широком смысле слова роман есть текст, закон – текст (я не имею в виду напечатанный в книге закон, – закон как артикуляция). Эти вещи я называю текстами. (И искусство – частный случай такого рода текста. Молчание тоже – текст. Молчание героя – текст.) Так вот, это есть одно из промежуточных средств, лежащих между жизнью, сознанием и различием, с одной стороны, а с другой стороны – хаосом, безразличием, распадом и энтропией, то есть смертью. И вот материал текста, то, из чего текст составляется, текст в широком смысле слова, не обязательно формально нами написанный (книга – культурная условность, тексты могут существовать не обязательно в виде книги; скажем, древнейший, солярный символ, то есть символ солнца, который высекался на камне первобытным человеком, тоже есть текст), – есть то, что мы называли впечатлениями, Подлинные впечатления и составляют то, из чего составляется или может составиться текст. И они же, эти впечатления – залог спасения и возвышения каждого человека, который на самом деле лучше, чем он есть. И сейчас, поясняя сказанное, я одновременно поясню и разницу между чем-то, что есть, и спиритуальной копией того же, что есть. Значит, есть что-то, что есть, и есть спиритуальные или спиритуализированные копии. И, конечно, есть люди, которые живут спиритуализированными копиями. Я их называл спиритуализированными существами. Итак, есть подлинные впечатления, и они, естественно, если они случились, помним мы их или не помним, закреплены в нас. И тот факт, что они есть, может прийти к нам непроизвольным путем. Мы ведь даже можем не помнить, что мы это помним. Потому что «помним» – спиритуальная операция. Спиритуальная операция, которая выполняется и пришла к нам в промежутке рассеяния. Пока мы оглянулись под ударом впечатлений, мир уже прибежал к нам и ощерился против нашего движения в глубь впечатления, ощерился, как я сказал, механизмами привычки, механизмами ментальных, рассудочных, спиритуальных операций, механизмами страха, надежды и т д. Сказано: «оставь надежду всяк сюда входящий»[291 - «Входящие, оставьте упованья»(Данте Алигьери. Божественная комедия. Ад, III, с. 18).]. (В свое время даже революционные деятели понимали, что это есть что-то важное, и в качестве своего рода эпиграфа Маркс взял из Данте совет, написанный перед входом в Ад, как символ дороги понимания: «Здесь страх не должен подавать совета»[292 - См.: Там же.]. Но мы все – конечные и слабые создания, и он не смог до конца ни выполнить, ни понять того, что здесь сказано. Потому что под «страхом» Маркс, к сожалению, понял, что не нужно бояться полицейских и всяких стражей буржуазного порядка, понял как страх расставания со своими возвышенными идеалами. И – чтобы оставалась у него возвышенная мечта, из-за страха, чтобы она у него не распалась, – он определенным образом видел реальность. И это исказило в большой степени видения и мысли этого гениального человека. Повторяю, страх нужно останавливать в себе, не бояться с чем-то расстаться. И не платить ценой картины реальности якобы за нерасставание с возвышенными мечтами и идеалами. Чего-то мы не хотим видеть, потому что «видеть» было бы слишком позорно и слишком страшно, обидно для человеческого достоинства и неутешительно для мечтаний.)
Я возвращаюсь к проблеме спиритуализированных существ и одновременно связываю ее с тем, что наличие в нас пережитого прошлого и тот факт, что оно в нас есть, есть залог и надежда возможного нашего спасения и возвышения. Пруст пишет: «Мы не верим в то, что жизнь прекрасна, потому что мы ее не помним»[293 - См.: Poulet. Etudes sur le temps humain. Proust. P. 417 (lettre а Renй Blum)]. Очень трудно здесь уловить различие между словами, потому что слова движутся внутри различения между чем-то живым и им же в виде спиритуальной копии. В слове, обозначающем это, этой разницы нет. Повторяю, жизнь у Пруста есть нечто, что отличается от того, что – мы думаем – есть жизнь. Значит, мы «не верим, что жизнь прекрасна, потому что мы ее не помним. Но стоит нам почувствовать когда-то почувствованный запах, как вдруг мы опьянены. И точно так же мы думаем, что не любим умерших…», – вслушайтесь внимательно: скажем, я любил какую-то женщину и она умерла, или Пруст любил Альбертину, и в одном месте романа он узнает, что она умерла, а потом через энное число страниц он узнает, что она жива, и не радуется; это – смерть чувств, да? «…точно так же мы думаем, что мы не любим умерших, но потому что мы их не помним»[294 - Ibid.]. Странные слова… Как же можно думать, что я не люблю умершего, и при этом не помнить его. Да нет, мы как раз не любим тех, кого помним. Я помню, которую любил, которая умерла, и я ее не люблю. Как тут употребляются слова… непонятно. Но в том-то и дело. Повторяю: «…мы думаем, что мы не любим мертвых, но это потому, что мы их не помним. Но стоит нам увидеть вдруг, неожиданно, старую пару перчаток, и мы разражаемся слезами, и все это висит на pйdoncule, черешке воспоминаний»[295 - Ibid.]. Пруст имеет в виду «не помнить», когда что-то не представлено само по себе, в своем живом виде. Непроизвольное воспоминание дает нам не словесную или умственную память о чем-то, а само это. А «само это», оказывается, во мне есть. Я-то думаю, что я не люблю мертвую, и вдруг я встречаюсь с парой перчаток, – и она вся передо мной, или вся моя любовь передо мной, и я плачу. «Разражаюсь слезами», как выражается Пруст. Вот эту разницу нужно уловить. И обретение прошлого или потерянного времени есть восстановление связей с такого рода отложенными в нас вещами, о которых мы можем и не знать. Или забыть. Забыть – где? – в своем спиритуальном мире копий. В рассудочных актах. Метафизическая проблема, – какой же смысл моя жизнь имеет, если я не помню тех, кого любил, и для чего я жил? Обратите внимание: если в нас не живут те, кого мы любим, мы сами мертвы, и наша жизнь не имеет смысла. Для чего же я жил, если я не помню даже того, что любил? Ну ладно, допустим, я не помню того, что мне было безразлично… ладно, черт с ним, хотя это тоже проблема. Но какой же смысл имеет моя жизнь, для чего я живу, если я не помню даже тех, кого любил… Вот что я назвал драмой жизни и сознания против механизмов и рассеяний. Драма различий, а это и есть различие. То, что отделяет слово, обозначающее вещь, и саму эту вещь – не материальную, а ее присутствие, в том числе духовное, – то, что отделяет, и есть различие. Уникальное качество или свойство вещи, чувства, человека или любви к нему и т д. – это есть различие. Мир человеческий, как и биологический, различен. Это мир различий. Но беда в том, что есть тут принципы своего рода, так же, как в биологии: порядок только из порядка, из беспорядка не рождается порядок. Или: жизнь только из жизни. Вот простой биологический принцип. Кстати, в биологии же можно утверждать принцип, который ближе к тому, о чем мы говорим: различие – только из различия, дифференциация рождается только из дифференциации и т д. Это есть принцип живой жизни. Бесконечной жизни. В отличие от энтропии, царства хаоса или безразличия. Теперь мы понимаем, о чем идет речь. Почему мы не можем уловить различия? Уловить, что весна и она же, изображенная, не есть одно и то же в духовном смысле, в смысле присутствия (а не в физическом смысле слова). Я думаю о любви или вспоминаю актом произвольной памяти любовь… это – не она. И это различие между одним и тем же словом «любовь» – «любовь», вот это различие и есть то, что Пруст называет миром различий. То, что есть жизнь, и одновременно есть материал воспоминаний и вся проблема нашего прошлого.
Повторяю: внутренняя драма сознания и жизни против или в отличие от распада, рассеяния, хаоса и энтропии, или налаженного механизма. То есть есть нечто, что дается механизмом, а есть нечто, что может давать вообще что-то, только будучи живым. Жить, быть, есть, и этим что-то случается. Фактом жизни. Не содержанием жизни – потому что содержание опять будет ментально. Потому что мы из содержания – как элемента данных нашего суждения – будем что-то выводить. Нет, нечто, что производит самим фактом, что это есть. Вот жизнь такова. Беру пример: наш герой сидит в поезде и смотрит в окно, появилась девушка, молодая продавщица молока. Идет вдоль поезда. «Она проходила мимо вагонов, предлагая кофе с молоком проснувшимся пассажирам. Раскрасневшееся от отсветов утра ее лицо было более розовым, чем само небо. Я почувствовал перед ней это желание жить, которое рождается в нас каждый раз, когда мы заново осознаем красоту и счастье»[296 - См.: J.F. – p. 655 – 656; Poulet – p. 412.]. Вы видите, что душа Пруста – это душа, жаждущая красоты и счастья, как и душа всякого человека. Поэтому, кстати, он все время повторяет, что мы считаем жизнь пресной и неинтересной, или посредственной, потому что мы думаем жизнь и не помним. То есть потому, что сами эти вещи не предстают перед нами. Но опять я отвлекся – «…чуждое моделям красоты, которые рисовала моя мысль, когда я был один…[297 - См.: Poulet. Sur le temps humain. Proust. P. 412.]». Модели красоты, которые рисовала моя мысль, есть спиритуальные копии того, что называется красотой. Это не есть сама красота – спиритуальная копия, что-то, что принято считать красивым. Это то, что я придумываю, и придуманная вещь не есть эта же вещь, иначе представленная. Помните, я рассказывал вам, что есть такая проблема: о чем мне написать? Я ищу сюжет книги. И вот кретины находят сюжеты, а автор наш, умный, гениальный, сюжетов не находит. И он отчаивается. Он настолько умен, чтобы понимать – сюжет из головы не появляется. А оказалось, что у него уже была такая жизнь и были упакованы в нем воспоминания, такие, которые сами могли быть сюжетом многих книг. Но они были пустяковыми, а он искал абстрактный, возвышенный сюжет[298 - См.: J.F. – p. 656; Sw. – p. 179.]. И красота имеет свое возвышенное представление. Это спиритуальная копия красоты. Повторяю: возвышенное представление красоты. Так вот, она чужда моделям красоты, «которые рисовала моя мысль, и она сразу пробудила во мне вкус определенного счастья[299 - счастье всегда определенную форму имеет, всегда партикулярную, и лишь под этой частной формой мы можем вообще ощущать вкус счастья]. И тем самым я дарил торговке молоком то, что являлось моим существом в полном его составе, способным вкушать живые наслаждения»[300 - См.: Poulet. Sur le temps humain. Proust. P. 412.]. Вот здесь я подчеркиваю сопоставление двух вещей. С одной стороны – спиритуальные вещества, например, возвышенные представления о красоте. А с другой стороны – реальная красота, которая воспринимается только тогда, когда ты присутствуешь в полноте своего существа. И присутствие есть проблема. Оно само не случается. Это есть проблема организации своего сознания, своей жизни и своего существа посредством чего-то. И в таком случае автор полностью присутствует, вернее, присутствует в полном составе своего существа.
Дальше, другую цитату привожу: «Иногда случается в самой гуще действия природы, где мы начинаем вдруг мечтать, и тем самым приостановлено действие привычки, и наши абстрактные понятия вещей отложены в сторону, и только тогда мы верим глубокой верой в оригинальность, в индивидуальную жизнь того места, где находимся. И поэтому прохожая, которая появилась в этом месте и вызвала мое желание, мне не казалась тем или иным экземпляром общего типа: женщина!»[301 - См.: Ibid. P. 413.]. Мы опять вернулись к спиритуализированным существам: женщина как представитель или экземпляр, отдельный, частный экземпляр общего типа женщины. Пруст имеет в виду, что если в действительности что-то происходит, то происходят другие процессы, другие события в нашей восприимчивости, в нашей душевной жизни. Если наша душа приходит в движение, – не экземпляр женщины, категории женщины, а совсем другое – «естественный продукт данной почвы». То есть нечто, существующее внутри мира различия. И вот тогда «и земля, и существа мне казались более ценными, более важными, одаренными существованием более реальным, чем то, которое представляется уже сложившимся людям»[302 - Ibid.]. Вот мы вводим тем самым важную тему Пруста, относительно которой часто бывают всякие недоразумения: тему детства и прошлого. И мы ее вводим там, где она, действительно, должна стоять: я говорил о впечатлениях и о том, что существует сфера, отделяющая меня от меня самого, – что пока я двинулся, впечатление раньше вошло в меня, чем я в него, и раздулась целая сфера… в детстве же мир не успел еще прибежать и подставить мне свои спиритуальные симулякры… И вводится проблема детства, прошлого и т д. – не в силу какого-то романтического или сентиментального пристрастия какого-либо типа людей к прошлому, к сладостному детству, радостям и т д., а по фундаментальной онтологической причине того, как вообще мы в мире существуем, – есть в нас эти впечатления бытия или подлинные впечатления. И, конечно, они есть, потому что мы начинали жить в детстве. С каждым из нас случилось что-то первично-человеческое: так называемые впечатления, подлинные впечатления, которые несводимы к своему физическому эквиваленту. Я напомню вам, как в психоанализе используется тема так называемой первичной сцены соблазна. Или впечатления ребенка от наблюденной им якобы любовной сцены между родителями, смысла которой он не понимает. В этом впечатлении, конечно, ребенок ангажирован в смысле второго принципа. Это его тень (это непонимание), из которой он должен обязательно выйти к свету, разобраться ценой жизни и смерти. И вот я хочу обратить внимание на одну сторону этого дела. Когда ребенок, став взрослым, узнает, что значит эта сцена в смысле общих актов (сексуальное действие тоже является элементом обоих актов, то есть актов, известных нам в общем смысле), – то, что он узнает, не будет ответом на то, в чем он был ангажирован, в чем была его тень и в чем он был озабочен. Оказывается, там решалось что-то другое: решалась фундаментальная проблема становления человеческого существа, поиска «я» и своего места в мире, проблема, на которую эмпирическое знание, постфактум пришедшее, вовсе не является ответом. Там шла речь о чем-то не в смысле общих фактов. Так же как выражение лица Рахиль значило что-то для Марселя в смысле общих актов, и совсем не в этом смысле оно значило что-то для Сен-Лу – он был внутри дифференциала жизни. А Марсель не был по отношению к Рахиль в дифференциале жизни, и связи – у него с Рахиль – в различии не было. А ведь мы всегда описываем мир в смысле значения общих актов. Так вот, мы переворачиваем проблему: когда есть ответ, относящийся к общему значению актов, он вовсе не является ответом на ту проблему, которая лежала во впечатлении. Вот где еще проглядывают для нас рога различия между чем-то и им же самим. Повторяю: различие между чем-то и им же самим. Например, между женщиной и женщиной. И я хочу сказать вслед за Прустом, что это различие и есть мир. Но он – целый мир еще и в том смысле, что он может быть растянут и может заполниться: мы это все можем забыть, на это может наслоиться все другое, там может все рассеяться, и вот привычка, наши психологические или спиритуальные механизмы могут породить такие продукты, которые целиком займут это место. Я в действительности помню мертвого, а знаю, что его не помню. Это ведь громадное пространство… между чем? Между чем-то и им же самим. То есть между «я помню мертвого», близкого человека и «я помню мертвого». Громадное пространство, оно может занять целую жизнь. (Я, например, могу это узнать, когда мне будет пятьдесят лет. Опять же в смысле общих актов вы знаете, что такое пятьдесят лет, но не знаете в смысле мира различий.)
Что происходит здесь, и как это связано с трудом литературы, я сейчас вам поясню цитатами. К сожалению, я имею дело с такого рода цитатами и с такого рода пассажами, которые просто нужно было бы читать подряд по несколько страниц. В одном из вариантов, не вошедшем в сам роман, у Пруста есть такое рассуждение – идеи этого рассуждения я потом приведу в более четком виде из опубликованного текста. Но есть какие-то оттенки мысли, которые здесь лучше высказаны и потеряны в окончательном тексте, там они уже не фигурируют. (Да, еще, чтобы воспринимать читаемые отрывки, сосредоточьтесь на том, что существуют подлинные впечатления: всегда было какое-то правдивое впечатление мира; оно случалось и в детстве, и позже. Просто в детстве еще не был этот промежуток так заполнен, только и всего, ведь первичное человеческое в своей свежести устанавливалось, – вот на этом нужно сосредоточиться, – что это есть и что оттуда приходят к нам живые радости, оттуда приходит энтузиазм жизни. То есть – жизнь все-таки прекрасна, прекрасна в своем трагизме.) Так вот, слушайте: «Теперь я лучше понимаю, что не путешествием в какой-либо момент будущего или в какой-либо момент действия я мог бы продолжить, реализовать ту радость, которую мне дано было встречать только каждый раз вдалеке от того места, где она случалась, в сердце и в сердцевине других вещей, чем она сама, и в другое время, чем она случилась»[303 - Bertini, Mariolina Bongiovanni. Guida a Proust, p. 204. (Le Temps Retrouve dans les Cahiers in «Etudes proustieies» d'Henri Bonnet. Paris, 1973).]. То есть каждый раз Пруст убеждается в том, что если ему случилась радость (скажем, он увидел цветы боярышника), то почему-то он устроен так, что эта радость доходила до него позже – не в тот момент, когда она случилась физически, а когда нечто подобное этой радости встречалось в другом месте, и эта – другая – оживляла ту радость, и тогда, наконец, до него дошло, что он почувствовал. Ну, так же, как мы часто ощущаем радость, немножко отойдя в сторону от самого случая. Мы в нем слишком физически, непосредственно затронуты, и это затемняет наши чувства, а в полной чистоте наша радость случается, когда мы немножко отстранены, а отстранение всегда означает другое время. Ну, хотя бы через пять минут. Но даже пять минут – все равно другое время. Так вот, он убеждается в том, что каждый раз это всегда так случается. И этим надо воспользоваться, этой сущностью, essence высвобожденной жизни, что означает подлинное впечатление. Высвобожденная жизнь. «Эту сущность высвобожденной, почувствованной жизни нужно уже не прятать снова под ложью»[304 - Ibid.]. Вспомните, что я говорил: мир прибежал, мы еще не вошли во впечатление, впечатление вошло в нас, мы еще не вошли в него и в себя, а мир уже тем временем прибежал, и – удар впечатления, и тут оно покрывается ложью. Ложь ложится на какой-то слой – темнота действия. Но обратите внимание, что ответ на впечатление действием – разрешение его в действии, где действие есть реакция на впечатление, – есть затемнение впечатления, потеря того, о чем оно говорило. Так же, как если в ответ на удар смерти, удар страдания, вызванного смертью любимого существа, я действую. Например, мы начинаем мстить. Я разрешаю действием то, что должно было бы длиться и, следовательно, требовало моего молчания, недеяния. Понятно? Так же, как Гамлет потерял бы смысл мира и не мог бы его обрести, если он механически, в ответ на оскорбленную честь, действовал бы и мстил тому, кто эту честь затронул. Мы не имели бы смысла в мире, если бы так было. А Пруст выражается так: я знаю, что я никогда не мог разрешиться в материальном действии (так это – выигрыш).
Значит, – «темнота действия ложится», и «нужно было это впечатление вынести на полный свет, закрепить его в эквиваленте, который не был бы ни языком привычки, ни языком страсти, но таким, где каждое слово было бы определено этим впечатлением, а не заботой о том, чтобы произвести тот или иной эффект»[305 - Ibid.]. Вот сколько раз, продумывая наши впечатления или нашу мысль, мы думаем не о нем самом, то есть и о нем думаем, но думаем еще и о том, какой эффект мы произведем. Скажем, понравится это кому-то или не понравится. Кого-то мы поразим, обретем славу, какие мы умные и т д. Я, казалось бы, банальные вещи говорю, но это и есть фундаментальные вещи в том, как мы живем, что с нами случается и что из нас получается. Значит, «не заботой произвести тот или иной эффект, не леностью, не ленивым прибеганием к заученным формулам, которые цветут вокруг, не припадками настроений моего физического индивида, которому не удается забыть самого себя»[306 - Ibid.]. Тема – забыть самого себя. Одновременно это и тема смерти, потому что смерть как продуктивный фактор нашей духовной жизни есть предельный символ расставания с самим собой. В каком смысле – расставания с самим собой? Я ведь есть – кто? Каждый из нас. Для нас есть что-то свершившееся, сделанное, имеющее какие-то качества и свойства. Я – имеющий такие-то определенные свойства, такие-то чувства и т д. Вот с этим часто нам нужно расставаться. А смерть, повторяю, есть расставание, взятое в предельном виде. Большего расставания, чем смерть, не существует. И если я могу представить нечто, что нужно сделать в его предельном виде, то мне удается тогда это сделать. И поэтому мысль о смерти, или сознание смерти в том смысле слова, как я сейчас говорю, есть продуктивный фактор, продуктивный элемент нашей духовной жизни, продуктивный элемент того, что вообще мы понимаем или не понимаем, видим, не видим, заблуждаемся, не заблуждаемся, иллюзорно представляем, неиллюзорно представляем и т д. Возвращаюсь к цитате: «…физический индивид, который не может забыть самого себя, который сохраняет в тот момент, когда он пишет, ощущение своего лица, своего рта, своих рук, вместо того чтобы превратить самого себя в пористую, пластичную, податливую материю, которая становится самим этим впечатлением, которая мимирует это впечатление, его воспроизводит, и все это нужно для того, чтобы иметь уверенность в том, что мы не изменили это впечатление и ничего к нему не добавили и ничего не убавили. И разве такое искусство не должно было мне показаться драгоценным и достойным того, чтобы посвятить ему мои годы. Другому искусству посвящать годы бессмысленно, и уж лучше быть ленивым; хотя бы лень тебя спасает от ошибки писать бездарные и никому не нужные книги»[307 - Ibid.]. В другом месте Пруст удивляется тому, где люди находят веселую искру, приводящую человека в трудовое движение[308 - См.: Mauriac, Claude. Proust. P. 66.]. Действительно, чтобы писать (ведь это физический труд!) – нужна искра, радостная. Откуда люди ее находят? Мне лень, говорит Пруст. И его вполне можно понять. «И разве такого рода искусство не было бы на самом деле лишь просто регрессом к жизни…» Обратите внимание на не случайно выбранное слово «регресс». Представьте теперь себе сферу, забитую спиритуальными привидениями, которые успели наслоиться. Движение к впечатлению есть регресс (то есть обратное движение). И значит, это движение к жизни для Пруста есть обратное движение, совершаемое посредством искусства. Продолжаю: «…регрессом к жизни, к нашей собственной жизни, которую мы отказываемся в каждый данный момент видеть из-за усталости, из-за духа имитации, из-за автоматизма, из-за страстей. Я понимал, что именно потому, что на подлинном впечатлении от вещей мы нагромождаем и накапливаем в каждый момент мыслительные абстракции, мертвую материю привычки, темноту, в которой мы любим жить, туман страстей, водоворот действия, и что, наоборот, для того, чтобы делать произведение искусства…». Я уже предупреждал вас, что делание произведения искусства и снова нахождение жизни эквивалентны, совпадают; искусство не есть описание или воспроизведение жизни, искусство есть элемент самой жизни, ее переживания в том или ином виде в вещах, совершенно не относящихся к проблемам писания книг или писания картин. «…для этого нужно было не воспроизводить то, что – мы думаем – является жизнью, прошлым, действием, словами, но последовательно отчислять то, что жизнь, сам тот момент, когда мы переживали впечатление, отслоила на нем, – что затемняло впечатление и к чему в действительности столько художников сводят искусство»[309 - См.: Bertini M. Guida a Proust. P. 205.]. Значит, то, что называется реализмом, есть воспроизведение симулякр или спиритуализированных привидений, выросших в сфере рассеяния между мной и мной самим. Между впечатлением и – мною, вошедшим в впечатление. Между моим впечатлением и мной, вошедшим в мое впечатление.
Дальше будем цитировать. В этих цитатах будет фигурировать одна тема, и поэтому, поскольку она фигурирует в одной и той же словесной массе, чтобы она тоже встала на свое место, я ее обозначу, хотя пока не хочу ею заниматься. Это тема метафоры. Так вот, в искусстве одним из орудий воссоединения в жизни меня с самим собой во впечатлении, минуя, или разрубая, или проходя туннельно (символ туннельного движения – дантовский символ), является метафора. Но поскольку я ввел метафору в таком контексте, то понятно, что «метафора» не в традиционном психологическом смысле. Под метафорой обычно понимается умственный акт установления связи между понимаемыми вещами. Я понимаю А и понимаю Б и устанавливаю между ними аналогию. Но это не есть то, что называется метафорой у Пруста (и не то, что называется метафорой в искусстве XX века). Для начала оговорю символ туннеля. Итак, у нас есть начало – впечатление, есть раздувшаяся сфера в промежутке между впечатлением и им же самим. Мы путем вычитания (и в этом задача искусства) всех слоев сферы наслоения должны прийти к впечатлению. Вот это и есть движение, и символом его является туннель – дантовский символ. Если вы помните, «Божественная комедия» начинается с того, что автор обнаруживает себя в сумрачном лесу, из которого он хочет выйти, и тут же перед ним и цель – великолепная гора, символ возвышенного, другой возвышенной духовной жизни. В отличие от этого темного леса страстями порожденных сцеплений своей собственной жизни. И на пути к горе, которая прямо перед ним, нужно войти, и ты возвысишься, – очень интересная символика, которая каждый раз непонятна, и это не упрек нашей глупости или уму, а просто указание на наше положение (человеческих существ) в мире, которое состоит в том, что мы, слава богу, имеем символы, поддающиеся бесконечной интерпретации и требующие бесконечной интерпретации. Я сейчас расшифрую этот символ, но сначала напомню, что то же самое я уже говорил вам: всегда есть какая-то точка, к которой нельзя прийти прямым продолжением линии из той точки, в которой я нахожусь. Повторяю: в нашей сознательной жизни или в нашем переживании всегда есть такая точка, к которой нельзя прийти прямым продолжением пути из точки, в которой я нахожусь. И я пояснял, что вся проблема состоит в изменении себя, или – «запускание» себя по другой траектории. Хотя этот путь казался прямым, но в действительности он невозможен, и более прямой путь как раз совсем другой, обходной, через изменение самого себя… Возвращаюсь к божественному языку Данте. Он говорит, что дорогу ему преградили несколько животных. И каждое из них символизирует какие-то пороки, какие-то страсти, какие-то силы. И остановила его движение, окончательно закрыла ему движение к этой горе – вот руку протянуть и достать… – волчица. Символ алчности и скупости. И это не случайно: ведь Данте хотел в путь на возвышенную гору взять самого себя – как уже сделанного, завоеванного, имеющего какие-то недостатки. Он себя продолжал в проекции на высокую гору. Он был скуп – он не мог расстаться с самим собой. Волчица об этом говорит и не пускает его. И появляющийся Вергилий ему говорит, что этим путем не пройти, есть другой путь – в туннель. А в туннеле – ад, и все круги ада нужно пройти. Нужно пройти тень, нужно «утемниться», чтобы возник свет; нужно пройти страдание, реальное испытание, и тогда окажешься на той горе, к которой был прямой путь.
Теперь возвращаюсь к прустовскому тексту с этими предупреждениями. «То, что мы называем реальностью, есть некоторое отношение между ощущениями и впечатлениями»[310 - T.R. – 889.]. Скажем, я ощущаю запах цветка, взгляд женщины, вкус вина, и эти ощущения омыты одновременными с ними какими-то воспоминаниями, которые все время циркулируют в нашей психике, в нашей душе. А реальность есть некоторая пропорция – или отношение – между актуально, сейчас переживаемыми впечатлениями и омывающими их воспоминаниями. И именно это отношение элиминируется, уничтожается, не замечается простым кинематографическим видением, которое видит кадрами, «которое тем больше отделяется от истинного, чем больше оно претендует сводиться к нему»[311 - Ibid.]. (То есть давать только истину, как она есть.) И вот это отношение, которое и есть реальность, в кадре не дано. Это уникальное отношение, каждый раз уникальное, и есть то, «что писатель должен открыть и навсегда заковать его в своей фразе между двумя различными терминами»[312 - Ibid.]. Или – заковать его навсегда в метафоры (метафорами). Значит, реальность есть что-то, что поддается воспроизведению метафорой. Я помечу одну только ниточку, – почему метафорой – и эту ниточку нам придется потом развивать, – потому что метафора есть что-то, что связывает нечто, находящееся вне привычных связей. Повторяю, метафора есть что-то, что связывает нечто, находящееся вне привычных связей. Но обратите внимание на то, что как раз привычные связи и есть самая главная наша проблема в сфере рассеяния, разделяющей «я» и «я», или в сфере, заполняющей интервал. Там как раз все, что наслоилось на впечатление, есть прежде всего, кроме всего прочего, нечто сцепленное привычными связями. (Скажем, колесо: какой-то круг есть колесо телеги. Чашка есть что-то, из чего пьют кофе, и на ней не может быть волос. Не бывает волосатых чашек. И поэтому, когда художник рисует волосатую чашку, то ясно, что он хочет сказать. Он хочет разрушить видение мира через призму привычных связей, чтобы выявить что-то, что скрыто привычными связями. Понятно, да? Я просто оговорил термин, обозначив нашу проблему, о которой я рассказывал в других терминах, термином «привычные связи»). И дальше идет принципиальная вещь у Пруста, которая касается бесконечности описания. «Можно бесконечно сменять один за другим термины описания объектов, которые фигурируют в каком-либо описываемом месте, истина же начнется только в тот момент, когда писатель возьмет два различных объекта, сконструирует их отношение, аналогичное в мире искусства тому отношению, каким является уникальная каузальная связь в мире науки, и заключит их внутрь необходимых звеньев или сочленений стиля»[313 - Ibid.]. Вот после метафоры у Пруста появляется фигура стиля. А стиль – многозначная вещь. Давайте условно будем относить стиль к тому, что я называл формой, имея в виду артикулированную конфигурацию, которая сама производит какие-то эффекты. Во-первых, сама производит какие-то эффекты, во-вторых производит такие эффекты, которые стихийным, естественным путем не могли бы рождаться (понятно? черта с два… ну, во всяком случае, приятно пытаться понять; единственное, что можно сказать…). Значит – сковать их звеньями стиля – так же, «как в жизни, когда, сближая общее качество двух ощущений, он выявит их общую сущность – объединив их одно в другом, чтобы освободить от случайностей времени, – и объединит их в метафоры»[314 - Ibid.]. Объединение в метафоры двух разных ощущений есть – и это очень важно – высвобождение чего-то из случайностей времени – временного потока. Потока стихийного рассеяния. И цель метафоры – держание чего-то над этим потоком. Держится путем метафоры. Иначе говоря, метафора есть для Пруста элемент нераспада нашей душевной жизни, который неминуем, если она предоставлена просто процессу времени. Сам процесс времени как таковой ведет к распаду любых организованных систем или организованных конфигураций. Значит, метафора не есть эстетический объект у Пруста. И все, чем мы занимаемся, это не эстетика, не литература (хотя в то же время и эстетика, и литература). Нет, мы занимаемся нашей жизнью, как достойной жизнью, в смысле – жизнью существ с организованным и нераспадающимся сознанием. Просто, оказывается, у нераспада сознания есть какие-то инструменты. Дальше идет рассуждение о том, что сама природа поставила Пруста на этот путь, поскольку она давала ему возможность испытывать качество одного предмета в качествах другого предмета. Скажем, я говорил вам: вдыхать воздух Комбре в Париже или воздух Парижа в Комбре и тем самым завязывать метафорические связи вне обычных связей. Потому что в обычных связях воздух Комбре – это воздух Комбре, и воздух Парижа – это воздух Парижа. И сравнивать их можно только в какой-либо рассудочной аналогии. А метафора не есть рассудочная деятельность.
«И тогда реальность, оказывается, есть лишь производный осадок работы искусства и опыта»[315 - См.: T.R. – p. 881.]. То, что мы называем реальностью, есть нечто, выпавшее в осадок опыта. Был какой-то опыт, который исчез, мы его не видим, а видим отложенный им осадок и называем его реальностью. «Так, если это так и этот осадок тождественен для каждого, потому что, когда мы говорим: плохая погода, война, стоянка такси, освещенный ресторан, сад в цвету – каждый знает, что мы хотим сказать; если реальность именно это, то тогда было бы вполне достаточно кинематографического фильма этих вещей, и стиль, литература, которые отходили бы от этих простых данных, были бы излишеством»[316 - Ibid.]. Значит, если бы реальностью было то, что я перечислял, то достаточно было бы снять ее в кино (под «кино» здесь имеются в виду просто кадры). И стиль тогда не нужен. Но когда речь идет о ненужности стиля в этом контексте, мы понимаем, что имеет в виду Пруст под стилем: насколько глупы люди, которые видят всякого человека, занимающегося стилем, как кого-то, кто сидит в слоновой башне, оторван от жизни – не реалист, модернист, поскольку он занимается стилем[317 - Ibid. P. 881.]. Но дело в том, что стиль, мы в этом убедились, есть продуктивный механизм жизни. А кинематографическое описание, которое выдает себя за реализм или кажется реалистическим, оно-то как раз не с жизнью имеет дело и не с нашей жизнью среди живых вещей, а, во-первых, описывает мертвые симулякры или спиритуализированные механизмы, и, во-вторых, нас же вписывает в этот мир в качестве марионеток, почему-то наделенных сознанием. Сознание всегда можно вычесть и показать, что на самом деле оно лишь марионетка, воображающая себя (в силу сознания) автором своих собственных действий. А в действительности в этих действиях есть уходящие в устройство космоса причины и действующий субъект – марионетка этих причин. Значит, реализм такого рода существует – или для мертвых, или для рабов. Потому что только рабы могут согласиться с тем, что в действительности они являются в мире спиритуализированными марионетками, воображающими себя сознательными существами. А по глубокой мысли Пруста, и эта мысль является результатом всякой философии, – самое большее, чему может научить всякая философия, – тому, что законы существуют только для свободных существ. Ну, а теперь вернемся к миру привидений. После фразы о том, что стиль был бы бесполезным излишеством, Пруст говорит так: ну хорошо, но тогда, что же значит… то, что мы перечислили, есть, действительно, реальность? «Если я пытаюсь отдать себе отчет в том, что происходит в тот момент, когда вещь на меня производит определенное впечатление, как, например, когда я проходил по мосту Вивони, промелькнувшая тень облака на воде заставила меня в восторге воскликнуть: „Ух, как здорово!“, подскочив от радости; или когда, слушая фразу Бергота, самое большее, что я увидел из своего впечатления, это было нечто, выразившееся восклицанием: „Это – замечательно!“ или когда Блох, произнося слова, совсем не соответствующие событию, говорил так: „Ну, такое поведение я считаю все-таки ф-ф-ффантастическим…“ или когда я, опьяненный вином, говорил себе вполголоса, расставаясь с хозяевами, которые меня этим вином угостили: „Какие все-таки очаровательные люди, с ними хотелось бы провести всю жизнь!“, – и тогда я замечал, что это – существенная книга»[318 - Ibid. P. 890.].
Я должен оговорить – «существенная книга» всех тех впечатлений, которые в перечислении Пруста выражены полусуществами. То есть не дошедшими до артикуляции нашими эстетическими и нравственными восторгами. Вот когда мы говорим: «Ох, как хорошо! Какой прекрасный фильм! Какая замечательная книга!» и когда мы остаемся на уровне этого состояния нашего порыва, мы имеем то, что Пруст назвал бы состояниями или чувствами-недоносками. Полу-существами, полу-умами. То есть неартикулированными существованиями, полыми существованиями. А как вы знаете, полнота нужна даже для того, чтобы увидеть красивую девушку, проходящую мимо вагона. То есть увидеть ее не потому, что ты так представляешь красоту из абстрактных представлений о красоте… Увидеть. И в этом случае ты в полном составе должен присутствовать. Значит, повторяю, недоносками бывают не только такого рода наши состояния – мы сами можем быть недоносками. В смысле экзистенциальной или онтологической проблемы. Значит, Пруст перечислил все эти недоноски, у которых везде есть корень истинного впечатления. Только носитель этого впечатления остановился на разрешающем это впечатление, выпускающем пар при давлении полу-слове, полу-вздохе: ах, как хорошо! и подпрыгнул от радости. И если – только это, то тогда случившееся, или бытие, показавшее себя в впечатлении, уйдет в ничто. Уйдет в небытие. Но если повезет, то, может быть, оно, уходя в небытие, в тебе же отложится в какой-то, внешне не связанный с этим, объект. Ну, скажем, как некоторые вещи, которые герой романа упускал в небытие, отложились, непроизвольно? независимо от его внимания и воли), в пирожном «мадлен» и жили там. И потом, когда он ел это пирожное, они все распустились и вышли оттуда. Ну, если повезло. А могли и не сцепиться с такого рода объектами и вообще уйти. Невозвратимо. Так вот, Пруст говорит: в нас книга есть уже. Вот мы ахаем, охаем, или «ф-ф-ф-антастично» говорим, – это все недоноски. Но там – книга. «Эта существенная книга, единственная истинная книга – писатель ведь ее не должен изобретать, она есть уже в каждом из нас, он должен ее лишь перевести. Долг и задача писателя суть долг и задача переводчика»[319 - Ibid.]. Вот определение Пруста. Долг и задача того, что создает артикулированный текст или артикулированное существо, полное существо, которое своими сцеплениями держалось бы над потоком, производило бы мысли и состояния и т д., – в действительности создание такого текста есть продукт перевода. Перевода впечатлений. Если нет впечатления, никакого текста не напишешь: из слов нельзя рождать слова. Из книг нельзя рождать или писать книги. Книги не пишутся из книг и слова не рождаются из слов. Они рождаются из невербального корня такого переживания, которое есть. Или его нет. И нельзя существующий в твоей голове симулякр или спиритуальную копию реального состояния принимать за само состояние. Так же как нельзя ожидать «женщину в мире», исходя из общего характера категории женщины. Или ничего не случится, или случится что-нибудь, что даже похожим не будет, только нос себе расшибешь.
Отсюда Пруст делает простой вывод, что этот разговор в интервале (я веду с собой разговор; всякая мысль есть разговор с самим собой, вот – я думаю) – это мышление, которое совершается в интервале между «я» и «я», то есть в сфере рассеяния, в которую впихнулся уже ощетинившийся мир привычки, механизмов и т д., – но я-то мыслю в этом мире, и когда я мыслю в этом мире или разговариваю с самим собой, – это Пруст называет косвенным дискурсом, discours intйrieur[320 - Ibid.]. Косвенной речью, или косвенной мысле-речью. (Когда ты правое ухо берешь левой рукой.) В отличие от прямого языка, который вырастал бы прямо из впечатления. Ты успел – пока мир не прибежал и не встал на место этих впечатлений, не подменил собой впечатления – готовый мир привычки или привычных связей. Или – когда это уже случилось, – проделав регресс, срезав эти слои, вычтя их. Что требует труда, конечно. Работать надо. Так вот, человек, который не забывает себя, когда пишет (то есть – любя себя, или с себялюбием), – не занимается, по Прусту, выпрямлением этого косвенного или кривого языка, или мысле-речи. И тем самым, пользуясь неточным, как говорит Пруст, языком себялюбия, – «все больше отдаляется от первичного и центрального впечатления – до такой степени, что эта кривая совпадает уже с прямой, которая должна была бы исходить из самого впечатления, и исправить эту кривую становится весьма трудно, и этого труда всячески избегает наша лень»[321 - Ibid.]. И здесь уже «лень» фигурирует как психологический механизм, порождающий в мире привидения, иллюзии и т д. А в случае любви речь идет не о лени, а о том, что выпрямление кривой становится весьма болезненным. И здесь Пруст вводит тему страстного диалога с самим собой или встречи меня с самим собой, родимым (когда я сам себя люблю). И этот разговор во время страстной встречи с самим собой есть разговор человека, который любит себя. (Я сейчас отвлекаюсь от того, что в нем происходит, а возьму лишь то, что с точки зрения Пруста является действительным литературным трудом.)
Я говорил о бесконечности описания: описание может продолжаться бесконечно, оно не содержит в себе критериев остановки (а работа метафоры другая, ею нужно заниматься). Так вот, один из эквивалентов, синонимов бесконечности описания у Пруста – термин «наблюдение». Наблюдение и описание ставятся Прустом на один уровень[322 - J.S. – p. 447, p. 451]. Бесконечное описание, не имеющее в себе критериев остановки и тем самым – непродуктивное, устремляющее нас в бесконечность, не вынимающее нас из потока распадающейся нашей психической жизни, – такое же, как и наблюдение. Пруст неоднократно подчеркивает, что он не умеет наблюдать, подчеркивает, что – потом возводит это в принцип – вообще наблюдение ничего не дает. (Кино фиксирует наблюдение кадром. Так вот, наблюдение тоже есть кинематограф.) И тут Пруст говорит потрясающую вещь, которая связывает последнюю цитату, которую я сейчас приведу, с той, с которой я начинал. Значит, этот труд, в том числе прибегающий к метафоре и т д., выпрямляющий кривую, – «труд художника, который стремится к тому, чтобы под материей, под опытом, под словом увидеть нечто другое, этот труд является на самом деле трудом обратным по отношению к тому, что – когда мы живем, отвернувшись от самих себя, – производят каждую минуту себялюбие, страсть, ум и привычки, когда они наваливаются на подлинное впечатление, чтобы окончательно для нас его закрыть, номенклатурное расчерчивание мира, практические цели, – что мы ложно называем нашей жизнью»[323 - T.R. – p. 896.]. Подчеркиваю, здесь у Пруста мысль все время идет не в терминах сопоставления представлений, правильных или неправильных, того, что называется жизнью, – Пруст другое называет жизнью и пытается показать, где истинная жизнь. Не другие слова, не более истинные представления, а жизнь, – вот о чем он говорит. И это сложное искусство (искусство стиля), которое кажется многим излишней роскошью, «есть единственное живое искусство. Только оно для других выражает и нам самим показывает нашу собственную жизнь, ту жизнь, которую нельзя наблюдать, и видимые явления чего нуждаются в том, чтобы быть переведенными и прочитанными, часто в обратном смысле, и быть расшифрованными с большим трудом»[324 - Ibid.].
ЛЕКЦИЯ 16
3.11.1984
Начну с того, на чем мы остановились: я говорил вам, что Пруст был одним из тех немногих художников в XX веке, который заменил проблему наблюдения (по определенным причинам) какой-то другой проблемой, которую я все время условно называл проблемой реализации самого себя какими-то средствами, проблемой исполнения жизни. Он был одним из тех, кто вернул искусство в наши непосредственные жизненные ощущения, в те задачи, с которыми мы сталкиваемся в жизни, когда что-то испытываем, когда в чем-то пытаемся разобраться, когда пытаемся ответить на вопрос, что же, собственно, я чувствую. Вопрос неоднозначный – что же со мной происходит? где я? откуда я? и куда я? И все эти вопросы встали на место наблюдения или описания. Любого описания: обыденного, научного, художественного. Вместо описания мы имеем проблему, состоящую в том, что в мире, в котором мы что-то испытываем, есть какая-то точка, в которой описание останавливается, не может идти дальше, и в этой точке должен совершиться какой-то акт, дополнительный. Акт жизни, дополнительный к наблюдению. То есть дальше наблюдать нельзя, что-то другое должно произойти, такое, что вызовет новый сознательный опыт. Если перевести на язык, близкий к тексту Пруста, то это можно выразить примерно так: сколько угодно я могу вглядываться в ментальную картину моих воспоминаний о Венеции или о местах моей юности, или о близком человеке, сколько угодно я могу вглядываться, то есть перечислять элементы этого воспоминания… Есть ментальные элементы воспоминания, которые мы можем проходить один за другим, чтобы воссоздать все воспоминание. Попробуйте, например, осчастливить или обрадовать себя, сказав, что все-таки я кое-что повидал в жизни. Я был, например, в Сиони, или был в Венеции, – и мы начинаем перечислять наши внутренние душевные богатства, но почему-то в нашей душе ничего не шевелится. Ничего не происходит. И совсем что-то другое происходит, когда в наши контролируемые волей и сознанием или волепроизвольные воспоминания вторгается что-то, не связанное с нашей волей, с нашим усилием перечисления, или описания, или наблюдения – вторгается нечто само собой. Это нечто, вторгающееся само собой, Пруст называет непроизвольным воспоминанием[325 - S.B. – p. 558 – 559.]. Но вся проблема в том, что непроизвольное воспоминание происходит само по себе у каждого человека в режиме его жизни. Но иногда можно этому воспоминанию помочь. Для этого есть средства, которые и называются искусством. Искусство для Пруста – не описание, а орудие, помогающее тому, чтобы в нашей душе вспыхнул спонтанный акт нового сознательного опыта. И чтобы дальше закрепить эти вещи, я продолжу цитаты, потому что мы к ним уже подготовлены. Мы многое знаем о том, как нам нужно смотреть на искусство, на жизнь, и как Пруст смотрел на искусство и на жизнь. И поэтому то, что я буду сейчас читать, должно ложиться в ваших головах в уже более или менее предготовые клеточки.
Вы помните, что речь шла о художественных впечатлениях, о которых мы восклицаем, пытаемся их снова испытать, – скажем, придя в восторг на концерте и воскликнув «Ах!», мы еще раз идем на концерт или снова прослушиваем пластинку с записью этого концерта. Такое отношение к искусству у Пруста называется булимией (или обжорством)[326 - T.R. – p. 892.]. И за этим лежит глубокий закон, который люди, в той мере, в какой они философствовали, знали давно: тысячу раз вкушение одного и того же наслаждения или впечатления ничего к нему не добавляет и не помогает разобраться в его природе. Эти ахи и охи есть лишь полуумы. Полу-умы. То есть недоношенные существа, недоноски нашей сознательной жизни. Неудачные животные, скажем так. И вот что говорит о такого рода впечатлениях Пруст: «Даже в художественных наслаждениях, которые мы ищем, в силу наслаждения, которое они в нас вызывают, мы умудряемся как можно скорее оставить в стороне в качестве невыразимого как раз именно это впечатление и привязаться к тому, что позволяет нам получить от него удовольствие…»[327 - См.: Ibid. P. 891.]. Под удовольствием здесь имеется в виду непосредственное удовольствие. Вы эту тему должны помнить точно: есть удовольствие, из которого мы что-то узнаем, а есть удовольствие в смысле разрешения всего того, что мы должны были бы узнать непосредственным наслаждением. Или непосредственным материальным действием. С точки зрения прустовской или философской, чтобы понять удовольствие от пирожного, нужно не еще раз его укусить, а остановиться. Или в горе – нужно не заплакать и выполнить ритуальный жест, а нужно не сделать чего-то. Не сделать (тема недеяния, о которой я говорил, и надеюсь, что вы об этом помните). Потому что, если мы сразу переводим энергию случившегося в какое-то разрешающее ее действие, мы одновременно теряем то, что стучалось к нам в окно или в дверь. Значит, мы привязываемся к тому, что позволяет нам получить непосредственное, тут же на месте, «удовольствие, не познав его до конца, и воображаем, что мы сообщаем его другим любителям удовольствий…». Мы воскликнули «Ах!», скажем, или сделали знак горя, фактически обращенный к другим. Но сообщили что-то, не прожеванное нами самими. Так вот, воображаем, что сообщаем его другим любителям искусства, «с которыми окажется возможной беседа, потому что, разговаривая с ними о вещи, которая одна и та же и для них, и для нас…», – а в действительном человеческом восприятии того, что случилось, исключено, чтобы вещь была бы одна и та же для тебя и для других. Мы каждый раз имеем дело с уникальным, незаместимым и только твоим корнем впечатления. То, что ты увидел, увидел только ты, и если ты начал разговаривать, значит, от того, что ты увидел, ты берешь ту часть, которая одинакова у тебя и другого, кому ты пытаешься ее сообщить. Возвращаюсь снова к тексту (надеюсь, что такое хождение по тексту сделает его более понятным) – «…потому что, разговаривая с ними о вещи, которая одна и та же для них и для нас, личный корень нашего собственного впечатления при этом элиминирован. В те самые минуты, когда мы всего бескорыстнее в наблюдении зрелища природы, общества, любви, самого искусства, поскольку всякое впечатление…», – лучше «запечатление», потому что в русском слове «впечатление» отсутствует активный оттенок; впечатление есть что-то, что в нас запечатлелось; думаем мы об этом или нет, как мы об этом думаем, как мы оцениваем, – наша ментальная картина впечатления, а речь идет о запечатлении. Отпечаталось. Так вот, «…всякое отпечатление двойственно, наполовину укоренено, вправлено в оправу объекта…» – смотрите, как «мускулисто» идет у Пруста выражение мысли и состояния души: вправлено – сразу образ виден: как бриллиант вставляют в серебро, но оправой является объект. Скажем, запах, лицо, любое впечатление. Значит, «…наполовину вправлено в оправу объекта, а другой своей половиной продолжено в нас, и будучи продолженным в нас…» – представьте себе какую-то вещь, которая наполовину вправлена в оправу объекта и тем самым видна не только мне, который получил впечатление, но видна и другим, – объект! То, что вне нас, – но другой половиной оно (впечатление) уходит в нас, то есть в каждого. И, очевидно, пробегает в этом подземелье какие-то другие пути и сплетается с какими-то другими вещами, живет своей подземной историей, будучи утоплено в подземелье, которое мы не видим, видим лишь стоящее над землей здание или оправу бриллианта. «…наполовину укоренено в оправу объекта, продолженного в нас другой своей половиной, единственной, которую лишь мы можем знать»[328 - Ibid.]. И вот эту половину знаем только мы.
Приведу простой пример, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Допустим, существуют два события: есть Альбертина и есть я, который видит Альбертину. И есть третий, который наблюдает, что происходит в том, как я вижу Альбертину. Так вот, никакое описание им – как он видит Альбертину и как я ее вижу – не видит (это описание) тех, как выражается Пруст, «золотых дверей в моей душе, которые захлопнулись за вошедшей в них Альбертиной»[329 - S.G. – p. 1128.]. Но дело в том, что моя судьба и реальные сцепления, результаты которых будут выпадать мне в качестве внешних событий, будут зависеть не от того, как Альбертина видна на поверхности, в том числе и третьему глазу, а от того, в каком виде и почему захлопнулись за нею «золотые двери моих грез». Там она будет жить, и оттуда ее жизнь будет подавать сигналы и детерминации того, что будет со мной происходить: как будет развиваться мое чувство, какие события ему будут выпадать и т д. И вот вопреки этому, говорит Пруст, «мы спешим пренебречь этой последней…». Той, которая закрылась золотыми дверьми, – например, она не годится для разговора. Всякий разговор останавливается на пороге этих дверей. Разговор – как нечто передающее что-то другим. Более того, этого нельзя еще передать не потому, что мы что-то храним в себе, а потому, что мы сами этого не знаем. Ведь нельзя говорить другим о том, чего сам не знаешь. Поясню то, что я сейчас сказал, следующими словами (и опять прошу прощения, что я кругами хожу, но дело в том, что моя задача – сообщить вам не сумму знаний, а привести в движение ваши души и мысль): часто говорят, что все люди равны. Но можно показать, что мир устроен таким образом, что самые существенные события в нем, например, закон или беззаконие и т д., зависят от усилий, совершаемых каждым отдельным человеком. А усилие означает, что чего-то нет, пока не совершено усилие. И весь прустовский мир держится и плывет на вершине волны усилия. И различие людей, то есть равны они или не равны, будет во многом определяться тем, кто совершил усилие, а кто не совершил его. Как говорится в Евангелии: «Раньше были Иоанн Креститель и пророки, а теперь царство Божие силою берется»[330 - «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его; Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна»(Евангелие от Матфея, гл. 11 (12).]. Или в другом варианте: «Раньше был закон и пророки, а теперь царство Божие усилием восхищается» (в русском переводе). Усилием похищается («восхищается» в смысле «похищается»). Ясно, что я сказал? Тогда я сделаю простой вывод, чтобы замкнуть рассуждение и прийти в его начало. В каком же смысле люди равны? Ведь нельзя поровну делить то, чего нет. То, что может быть лишь в усилии, этого ведь нет. И нельзя равно делить то, чего нет. Вы, наверно, прекрасно помните хорошую байку Эрлома Ахвледиани. Сказка о глупой курице, которая отдала своих цыплят на воспитание лисе. Глупая курица отдала своих цыплят – их было пятеро – на воспитание лисе. И лиса стала воспитывать и обучать этих цыплят, в том числе учить их арифметике, Одного она научила считать до четырех, второго – до трех, третьего научила считать до двух, четвертого до единицы, а пятого ничему не научила. И потом устроила экзамен. Спрашивает, сколько вас, – первого. А он, восхищенный своими собственными знаниями, гордо отвечает: «Четыре». «Неправильно», – говорит лиса. И съела его. И так далее – которого спрашивает, он говорит – три, лиса съедает и его и доходит до последнего, которого она ничему не научила. И спрашивает: «Сколько вас?» Он говорит: «Нисколько». И вдруг лиса оказалась как раз перед той проблемой, которую мы сейчас обсуждали. Поняла, что нельзя съесть то, чего нет. И не съела его. Более того, цыпленок был настолько необразован и неграмотен, что не знал, что в Божьей иерархии лиса есть лиса, цыпленок есть цыпленок, и полагается лисе съедать цыпленка, и поэтому съел цыпленок лису, Вот так кончается парабола Эрлома. Значит, нельзя делить то, чего нет, в том числе нельзя делить и в социальном смысле. Но и в обыкновенном смысле нашего общежития – нельзя делиться тем, чего нет. И если есть что-то во мне, с чем я еще сам должен разобраться каким-то усилием, то по определению я вообще не могу этого сказать. Это неизречимо. Фактически я объясняю вам философские термины. Скажем, – «непознаваемо», «невысказываемо», «невыразимо» – в нашем обыденном языке мы думаем так: «невыразимо» означает, что есть что-то, оно иррационально, само по себе богато, и только выразить его нельзя. Да нет, самое интересное «невыразимое» есть как раз то, чего нет. Оно само себя не знает. Не только не может сообщить себя другим, но и себя не знает.
Так вот, почему мы пренебрегаем той частью вещи, которая ушла в нас самих? Ну, нам лень или страшно. Страшно, потому что мы боимся истины и отворачиваемся от нее, но не просто отворачиваемся, мы сразу выдумываем какие-то ее рационализации, приятные нам. Значит, в отличие от того, чего мы не знаем, во что мы должны были бы углубиться, «мы спешим пренебречь этим и учитываем лишь вторую половину»[331 - T.R. – p. 891.]. Ту, которая на поверхности, вправлена в оправу объекта, который дан вовне всем на обозрение, – Альбертина ушла в мою душу, но Альбертина еще и видна другим. И даже я, в душу которого она ушла, могу говорить о ней в той ее части, в какой она видна и другим. Например, могу сказать, что она прелестна и поэтому я ее поцеловал, хотя в действительности я должен был бы сказать: я получил удовольствие от того, что ее поцеловал, и поэтому она прелестна. Две совершенно разные вещи. (Я никак не могу сдвинуться с места. Но дело в том – то, что я сейчас делаю на ваших глазах, есть одновременно и урок чтения. Представьте себе, что вы сидите и сами, без меня, читаете. Написаны слова, которые могут вызвать, если ты подготовлен к ним, если они совпадают с каким-то твоим личным внутренним опытом, столько ассоциаций и мыслей, которые нельзя выразить, или для выражения которых понадобилась бы тысяча слов. Вот если вы сможете так читать другие тексты, тогда стоит тратить на это время. А если нет, то лучше просто погулять. Потому что, как я говорил вам, чтение книги не есть какой-то священный акт, а он есть такой же жизненный акт, как другие, и имеет смысл ровно в той мере, в какой он вплетается в нашу душевную и реальную жизнь.) И вот мы учитываем другую половину, ту половину, которая объектом дана, которая, обратите внимание, «не поддаваясь углублению, ибо она внешняя, не причинит нам и никакого труда…». Нельзя углубить то, что вовне, но необходимо как раз углубление; а мы выбираем внешнюю половину: трудиться не надо; а потрудившись, ты можешь узнать страшные вещи, в том числе и о самом себе. «…слишком нам сложно попытаться увидеть маленькую борозду…» – Пруст считает, что впечатления прорывают в нас кровавую двойственную борозду. Как ножом провести по живому телу – эти впечатления есть материал искусства. А нам трудно, невмоготу увидеть борозду, прорытую в нас видом цветов боярышника или церкви, – вещи безобидные, казалось бы, но они прорывают борозду. И мы вместо этого, пишет Пруст, «снова проигрываем симфонию, возвращаемся снова взглянуть на церковь, в этом бегстве подальше от нашей жизни, взглянуть в лицо которой у нас не хватает мужества, бегстве, которое называется эрудицией, пока мы не будем их знать так же хорошо, как их таким же манером знает самый ученый любитель музыки или археологии. И сколько на этом не останавливается, которые ничего не извлекают из своего впечатления, стареют, бесполезные и неудовлетворенные». Потому что, если ты так бежишь за впечатлениями, по определению, ни одно их них не может быть последним. Если ты так бежишь по церквям, то ни одно из этих хождений не может быть последним. Бегство в эрудицию есть бегство от нашей собственной жизни. И вот – «стареют бесполезные и неудовлетворенные, этакие холостяки искусства». Холостяки искусства – очень хорошее выражение, потому что оно действительно обозначает более широко холостяков жизни, и об этом говорит окончание фразы: «У них горести такие, какие есть у девственниц и лентяев, и которых плодоношение и труд излечили бы»[332 - См.: Ibid. P. 891 – 892.]. И как раз именно в этом контексте Пруст далее говорит об экзальтации любителей искусства, о булимии (обжорстве художественными радостями), об этих полуобморочных вздохах и ахах, вскриках «браво», «ура», нечленораздельных восклицаниях восторга, пустой экзальтации и т д., – все это Пруст сравнивает «с первыми опытами природы, которые художник хочет создать такими же бесформенными, такими же мало жизнеспособными, как и первые животные, которые предшествовали ныне существующим и которым не суждено было продлиться. „Мы должны видеть что-то трогательное в этих бессильных и бесплодных любителях, как в тех первых летательных аппаратах, которые не могли оторваться от земли и в которых было заключено, – нет, не тайное средство, которое еще предстояло открыть, а лишь желание полета“[333 - См.: Ibid. P. 892.]. На место «желание полета» поставьте «желание красоты», «желание любви», «желание справедливости», «желание добра» и т д. Ведь мир устроен так, что в нем добро не есть наше желание добра. Справедливость не есть наше желание справедливости. Ибо справедливость – это аппарат, который может полететь так же, как в том примере, который только что приведен из Пруста. И соответственно – любовь, добро и пр. Я уже говорил вам, что один из законов русской жизни – это вздыхание или поползновение добра, но – завтра. И всем скопом, вместе. Сегодня – какой смысл мне одному быть добрым, когда кругом все злые… И когда вы встречаете текст, принадлежащий к категории на полную катушку испытанных и сделанных текстов, как у Пруста, то там в невинных фразах скрыты вещи, не имеющие, казалось бы, никакого отношения к ним. Пруст говорит о восприятии искусства, о том, как выразить наслаждение или испытать его до конца, а я вам говорю о совершенно других вещах. Но на самом деле они содержатся в том, что здесь сказано. Потому что в глубинной структуре наших испытаний есть какие-то законы, и эти законы магически привлекали Пруста, и он чувствовал в себе призвание открывать эти законы. И если думать, то думать только о них, а об остальном думать не стоит. Нет той веселящей искорки, которая приводит все в движение и заставляет трудиться.
Дальше, подкрепляя мысли, которые я сейчас излагал, продолжу цитирование. И вот в связи с «ухождением» – держите в голове образ двойственного объекта, двойственного впечатления, которое одной своей половиной вправлено в оправу объекта, лежит на поверхности, а второй половиной вправлено в оправу нашей души и ушло туда. Еще одно – я сказал: «вправлено в вашу душу». Нужно иметь в виду, что душа здесь как бы тоже есть вещь. Значит, впечатление вправлено в оправу объекта, выступающего из-под земли и лежащего на поверхности, Второй половиной объект уходит в подземный мир нашей души. Но такое подземное ухождение для Пруста есть ухождение впечатления как бы в вещи. Но вы не должны вкладывать в то, что я говорю, и в то, с чем пытается разобраться Пруст, ментальных, психологических ассоциаций, которые являются нашей привычкой. И остановить эту привычку очень трудно. Потому что когда я сказал «вложено, проросло в душу, в подземелье души», то вы, конечно, думаете о тайнах человеческого сердца, о нашей внутренней субъективности, нашем внутреннем богатстве. Нет, не это имеется в виду, – то есть и это и не это. Вот в чем сложность. Нельзя понять, не остановив привычек, таких, которые привилегируют (как нечто особенное, священное) нашу внутреннюю субъективность. Такой второй половиной, оправой может быть пирожное «мадлен», куда ушла моя душа. Душа Пруста. Альбертина – в той мере, в какой она за захлопнутыми дверями моих грез – она тоже в моей душе как вещь. Такими тюрьмами, внутренними тюрьмами для восприятий, для впечатлений могут быть места, люди, имена, произведения искусства. И с этой оговоркой попытайтесь воспринять следующую цитату. «Некоторым умам, любящим таинственное, хочется верить, что объекты сохраняют что-то от глаз, которые на них смотрели, что памятники и картины являются нам лишь под одеянием чувственной вуали, которую им соткали любовь и созерцание многих и многих обожателей в течение веков»[334 - См.: Ibid. P. 884.]. Это связано, чтобы вы четче поняли, о чем идет речь, с повторяющейся у Пруста темой о душах деревьев – как бы у деревьев или у звезд есть души, которые на нас смотрят. И об этих душах он говорит: «…мы смотрели на звезды, и что-то эти звезды сохранили от наших прежних взглядов…»[335 - J.S. – p. 244.] – какие-то частицы нашей души сохранены в звездах и в деревьях, и они теперь на нас смотрят. Кстати говоря, такое одушевление объектов мира есть оно из древнейших человеческих представлений. Одна из древнейших структур человеческого сознания – анимистического, мифологического и т д. Так вот – «Эта химера стала бы истиной, если ее транспонировать в область того, что единственно реально для каждого, в область его собственной чувствительности»[336 - T.R. – p. 884.]. То есть души вещей есть метафора, истинная, если мы ее относим к описаниям реальности нашей души, а не к тому, что, действительно, в мире есть вещи, населенные душами или остатками наших собственных взглядов, оттуда на нас смотрящих. «Да, в этом смысле, и только в этом, но он гораздо больший. Вещь, на которую мы прежде смотрели, несет нам, когда мы ее видим вновь, вместе со взглядом, который мы на нее бросали, все образы, ее тогда наполнявшие. Дело в том, что вещи и книга в своей красной обложке среди прочих других, в тот самый момент, когда они нами воспринимаются, становятся в нас чем-то имматериальным, причастным к природе наших забот и ощущений того момента, и неразъединимо смешиваются с ними». То есть вхождение второй половины означает, что эта вещь не только ушла в невидимое подземелье, а еще в этом подземелье сплелась с нашими фундаментальными заботами того момента, казалось бы, с той вещью никак не связанными; она встала в контекст общих наших состояний и неотделима уже от них, она в них заключена. «То или иное имя, прочитанное в давней книге, держит в промежутке своих слогов быстро веющий ветер или яркое солнце момента, когда мы ее читали»[337 - См.: T.R. – p. 885.]. Здесь у Пруста идет речь о книге Жорж Санд «Франсуа ле Шампи». И это чтение книги не невинно – впервые ребенку читался роман, он впервые столкнулся с литературой. Но с литературой он столкнулся там – и вот почему фигурирует слово «забота», с которым смешивается впечатление или чтение книги. Если вы помните, мальчик не может заснуть и впадает в истерику, потому что мама не поднялась поцеловать его на ночь, и даже зная, что будет наказан, он тем не менее штопором ввинчивается в свое переживание; и вдруг его не наказывают, мама остается с ним и, чтобы успокоить его, читает ему эту книгу. Ну, ясно, конечно, что между слогами этой книги или между элементами ее сюжета вплетается эта основная забота и состояние души нашего героя. Вы уже знаете, какую фундаментальную роль для него играет образ поцелуя матери – символ материнского лона, проецируемый на мир, который тоже должен быть таким же ласковым лоном, который тебя объемлет и защитит со всех сторон.
И вдруг – после этого понятного пассажа – наш герой, то есть автор, снова выходит на общие вопросы, которые нас занимают. Снова он выходит на вопрос, к которому он все время возвращался, на вопрос о литературе. К этому он возвращается по одной причине, кстати, самой главной, – жизненной. Есть абстрактное представление о трудящемся литераторе, у которого в голове есть сюжеты, и он излагает их, и в то же время – сознание своей собственной лени и полного отсутствия сюжетов и пустой головы, когда садишься за лист бумаги. Конечно, написать нечего, когда хочешь слова составить из слов. А мы говорили, что не из книг рождаются книги. «Литература, удовлетворяющаяся тем, чтобы описать вещи, чтобы давать от них только жалкую сводку линий и поверхностей, которая является как раз той, которая, при всем том, что она называет себя реалистической, наиболее удалена от реальности, является той, которая наиболее всего оскудняет и опечаливает, ибо она резко обрезает всякую коммуникацию нашего нынешнего я с прошлым, сущность которого хранят эти вещи, и с будущим, где они вновь возбуждают нашу способность ее вкушать. Именно она есть то, что искусство, достойное этого названия, должно выразить, и, если оно терпит в этом неудачу, из его бессилия можно хотя бы извлечь урок, тогда как никакого урока не извлекается из удач реализма, а именно, что эта сущность частично субъективна и некоммуникабельна»[338 - Ibid.]. Теперь нам предстоит уже более сложная работа: представьте себе картину мира, которая вырисовывается за этими словами. Ну, выходки против реализма вам понятны. Это ясно, и об этом могут спорить только в специальных учреждениях или кретины. Проблема реализма в искусстве такая же выдуманная и несуществующая, как в философии проблема идеализма и материализма. Так вот, нечто, что обрезает коммуникацию нынешнего «я» с прошлым, сущность которого хранят эти вещи, – сущность ушла в вещь. Я – Марсель – общаюсь с собой, вспоминаю себя прошлого, но то «я», которое я хочу вспомнить, в действительности заключено в вещь и ею сохранено, – в пирожном «мадлен». Вот что мы должны уловить. «И с будущим, где они вновь возбуждают нашу способность ее вкушать». Не всякие вещи, а те, которые – источник наших чувств. Не внешние вещи являются источником наших чувств, а – «Я шел не по тем же улицам, по которым шли другие люди, вышедшие из дома в этот день, я шел по скользким и печальным улицам моего прошлого»[339 - См.: T.R. – p. 858.]. То есть восприятие улицы может вызвать только та улица, которая связана с печальной и скользкой улицей прошлого. И здесь же ответ на вопрос: чему мы волнуемся? чему не волнуемся? что мы воспринимаем и чего не воспринимаем? Вещи – не они есть источник действия на нас, так же как – не всякая красота женщины, а та, черты которой раздулись и сложились в видимые черты ветром моего желания. Прошлого. И я волнуюсь. А со стороны описать, что меня волнует, – меня волнует красивая женщина. Ничего подобного. Или – я иду по улице и вспоминаю. Ничего подобного. Пруст называет прошлое – gisement (представьте себе геологические отложения нашей души, а всякий писатель или философ есть археолог или геолог души). В душе есть какие-то геологические отложения нашей жизни. Или, как выражается Пруст: «Глубокие отложения моей ментальной почвы, по которой я до сих пор хожу и на которую я до сих пор опираюсь… настолько, что цветы, которые мне показывают сегодня в первый раз, не кажутся мне настоящими цветами»[340 - Sw – p. 184.]. То есть, чтобы увидеть цветок, я должен поместить это на gisement mental, на ментальное геологическое отложение. И следовательно, цветок раздроблен во множестве миров. Ведь у нас же разные ментальные отложения. И цветок, который извне, казалось бы, перед нами, упирается, – есть у вас для него ментальное отложение, и тогда вы можете на него прореагировать как на цветок, восхититься его красотой. А у меня, например, его нет, и я не увижу цветка, глядя на него, или он мне покажется ненастоящим, восковым. Я отклонился в сторону, чтобы пояснить одну простую вещь, которая двумя словами проскользнула в цитате: «…обрезает всякую коммуникацию нашего нынешнего я с прошлым». И мы теперь понимаем, что коммуникация – это вещь очень непростая. Я коммуницирую с собой, то есть я коммуницирую не с самим собой – психологическим, ментальным существом. Потом я еще одну вещь добавлю, а пока продолжу: «сущность которого хранят вещи». Значит, мы теперь понимаем, в каком смысле внешние мне вещи могут хранить мое прошлое. И развертка моего впечатления в будущем – например, моя возможность снова волноваться – не может зависеть только от моей физиологии, от порога моей чувствительности, от притупляемости или непритупляемости моих ощущений (у всех она разная) – зависит от этих отложений, которые мы встречаем потом впереди, и мы вдруг волнуемся и можем повторить чувство. Повторить мы можем только чувство, которое мы не исчерпали в мгновенном и непосредственном его удовлетворении. Вещи в удовлетворении умирают. Все реактивные акты кончаются своим последним звеном и исчерпываются на нем. Скажем, если я голоден, то, поев, я насыщаюсь, и ощущение голода исчезает. Оно сослужило свою службу и исчезло. А мы говорим о тех чувствах, которые сами воспроизводят свои собственные причины. То есть они возобновляются.
…То, что я называл топологическими проблемами, – то есть проблема отношения ума с самим собой, ума с вещами и ума с другими. Ведь кажется, что ум в отношении с самим собой может быть разделен большим пространством. Есть какой-то зазор между мной и мною самим. Хотя бы потому, что есть, скажем, «я» и есть «я» в прошлом, в ментальном воспоминании. Но в действительности мое прошлое «я» не есть в том рассудочном ментальном воспоминании о самом себе, которое я усилием воли и сознания произвожу в самом себе (я вспоминаю, что было тогда-то), – это «я» ушло… в пирожное «мадлен». И если оно распакуется из этого пирожного, – Марсель окунает кусочек пирожного в чай, подносит к губам, и вдруг его пронзает целый мир, содержащийся в этом пирожном, мир его детства. Мир Комбре, весь упакованный в запахи, звуки, лица. Но это же не есть акт его воспоминания – это какой-то самопроизвольный акт, другой какой-то инстанцией произведенный. И вот оказывается, мое взаимоотношение со мной самим в прошлом, казалось бы, уже случившимся (и поэтому известном), вспоминаемым усилием воли и сознания, – между ними лежит большое расстояние. Точно так же и в будущем, Пруст говорит следующие слова – к которым приравнивается коммуникация «я» с самим собой, прошлым, и с «я» в будущем, где эти вещи снова действуют как источник восприятия, волнений, полноты душевных состояний, – цепь, которая циркулирует поперек нашего существования, связывая то, что уже мертво, с тем, что еще живо полной жизнью[341 - J.F. – p. 949.]. Представьте себе какую-то цепь, окружность, замкнутую окружность, которая, оставаясь замкнутой, движется по потоку нашей жизни, настоящей и будущей, и все, что в жизни происходит, должно пересекаться с этой окружностью. Круг, или цепь, которая циркулирует, как выражается Пруст, «поперек нашего существования». Вдоль и поперек движется, и все линии нашего существования должны проходить через круг, который связывает то, что уже мертво, с тем, что еще живет полной жизнью. (Я потом свяжу это с той цитатой, которую я приводил в прошлый раз. А пока, зафиксировав это, вернемся к более легкому чтению: я хочу завершить мысли Пруста, связанные с произведением искусства, с проблемой нашей чувствительности и т д.).
Значит, после слов о коммуникации нашего нынешнего «я» с прошлым шли слова об искусстве, которое должно выразить именно эту сущность, уложенную в вещи, и потом, в будущем, снова являющуюся источником наших чувств, и о том, что эта сущность частично субъективна и некоммуникабельна. Это запомним. Пруст продолжает: «Более того, вещь, которую мы видели когда-то, книга, которую мы читали, не остается навсегда соединенной только лишь с тем, что тогда нас окружало; она остается столь же верно соединенной и с тем, чем мы тогда были сами, она может быть заново пройдена…». Вспомните круг, держите в голове образ круга, идущего по нашему существованию; круг, который должен просекаться линиями; линии, которые не просекают круг, для нас не существуют; золотая цепь жизни, так сказать. Повторяю: «…она может быть заново пройдена только той чувствительностью, той только персоной, какой мы были тогда»[342 - T.R. – p. 885.]. То есть, чтобы вещь ожила в этом круге, который замыкает мертвое и живое, должен ожить «я». А я предупреждал вас, что «я» – много. «Я» есть в каждой вещи. Есть «я» – «мадлен», есть «я» – Альбертина, есть «я» – неровные плиты площади святого Марка в Венеции, потом другие, но столь же неровные плиты двора дворца Германтов, по которым идет Пруст, снова натыкается на эти неровные плиты, и тут вся его Венеция всплывает. Значит: «…может быть, пройдена только той чувствительностью, только той персоной, какой мы были тогда; стоит мне, даже только мысленно, взять с библиотечной полки – Франсуа ле Шампи…». Книга, которая читалась у его изголовья после знаменитой сцены с поцелуем. «…как немедленно во мне встает ребенок, который занимает мое место, и который только один имеет право читать этот заголовок – Франсуа ле Шампи – и который читает его так, как он его читал тогда, с тем же ощущением погоды, стоящей в саду, с теми же грезами, в которых ему представлялись страны и жизнь, с той же тревогой, которую вызывал в нем завтрашний день». Еще бы! завтрашний день – это снова проблема поцелуя матери. «Стоит мне вновь увидеть вещь иных времен, как подымается молодой человек. И моя сегодняшняя персона, считающая, что все, содержащееся в ней, равно одно другому и монотонно, есть лишь оставленная карьера, но оттуда каждое воспоминание высекает, как греческий скульптор, бесчисленные статуи». Помните – я-то думаю, что я не люблю, я-то думаю, что я мертв, а на самом деле – часто мы лучше, чем сами о себе думаем. «Я говорю: каждая вещь, которую мы видим вновь; ибо книги ведут себя в этом отношении точно так же, как вещи»[343 - Ibid.]. Вот достойное место для книг.
Теперь вернемся к этим уложениям. Я сказал: можно пройти к этой вещи – чтобы я увидел, пережил ее реально (в прошлом когда-то увиденную), мое восприятие или переживание должно пересечь замкнутый круг (тот, который я вам предлагал). И вот почему. Здесь говорилось – «той чувствительностью, которая была». Пруст как бы предполагает, что если вещи действительно воспринимаются в их полноте, то в этом восприятии существует какая-то априорная структура чувства. Если ее нет, а она была у того «я», то ее – вещь – этим «я» воспринять нельзя. Теперь дальше – то, что я назвал уложением, – оно уложилось в какой-то чувствилищный центр, который лишь символизирован внешней вещью. Например, символизирован пирожным «мадлен», символизирован неровными плитами площади собора св. Марка и т д. И вот, иллюстрируя это уложение, я приведу еще одну цитату. «Наша привычка никогда не ходить в один и тот же день в обе стороны во время одной и той же прогулки, а раз – в сторону Мезеглиз, другой раз – в сторону Германтов»[344 - Sw. – p. 135.]. Сторона Мезеглиз – это, так сказать, буржуазная сторона, родительская сторона жизни маленького Марселя, а сторона Германтов – это аристократическая сторона, сторона грез, великих имен, легенд, запечатленных в этих именах. Обратите внимание на фразу… люди выходят гулять, открывается знаменитая калитка, на которой висит колокольчик, который вечером звонит, – для Марселя это знак, что гости ушли и теперь мама может к нему подняться и поцеловать. Этот звон проходит через всю жизнь нашего героя как некоторое внутреннее временное измерение всего мира. И вот они выходят из калитки и идут гулять – или в сторону Мезеглиз, или в сторону Германтов, но никогда так, чтобы в один день и туда и туда. Потому что даже простое хождение объединило бы две стороны. Так ведь? Но что пишет об этом Пруст? «…привычка запирала их под замок, так сказать, вдали друг от друга, в неузнаваемом друг для друга виде, в замкнутых и несообщающихся между собой вазах того полдня или этого полдня»[345 - Ibid.]. В полдень совершались эти прогулки, и вот вдруг даже географические места запечатались в разные вазы и распечатать их может только – не ментальный акт воспоминания, а возродившаяся чувствительность. Должен встать тот молодой человек, который в один полдень ходил в сторону Мезеглиз, а в другой полдень – в сторону Германтов. Сравните это с ментальным gisement – отложениями, где цветы, которые ты видишь в первый раз, тебе даже не кажутся настоящими цветами. Или улицы – ты идешь по улицам, и они не есть те же улицы для других прохожих, бывших в этот день вне дома. Или в Булонском лесу – не тот же ветер, который веет для всех, не то же озеро, которое могут увидеть все, и не те птицы, которые летают над этим озером. Булонский лес для тебя является символом женщины, недоступной, прекрасной женщины, катящейся в коляске со всем тем, что она в себе запечатала от меня. Там – моя душа. Так же, как если бы она была бы в деревьях. Напомню вам дантовский образ. Только прежде скажу вам, что это запечатление равнозвучно смерти. Я говорил вам: круг – мертвое и живое, Так вот, это же есть смерть. Я расстался со своей собственной живой плотью. Что такое – живое? – моя чувствительность. Моя чувствительность – в пирожном «мадлен», в Булонском лесу, в стороне Мезеглиз; другая чувствительность – в стороне Германтов. Причем они не сообщаются одна с другой. Только потом, на эн-тысячной странице романа наш герой открывает, что, оказывается, в сторону Мезеглиз можно было пройти через сторону Германтов, и наоборот, – и вообще не существует такого различия сторон. Но это – после того, как проделан жизненный опыт, путь.
Значит, мертвое, да? Напомню вам, что такое самоубийца, Самоубийца – это человек, который разлучает душу и тело. Так ведь? И не случайно у Данте образ наказуемых адовой мукой самоубийц дан дуыам, заключенным в деревья. Человек расстался со своей душой насильственным актом, который в христианской религии воспрещен, и душа заключена в инородную ей материю. В дерево. Дерево совершенно инородно человеческой душе, которая там заключена. И деревья содержат души самоубийц. Переведите эту метафору на то, что я говорю. Ведь мы каждую секунду умираем или убиваем себя, потому что мы позволяем своему живому ощущению быть заключенным в вещь, которая инородна или неадекватна ему. Ведь моя душа заключилась в Мезеглиз или в стороне Германтов, а в действительности не существует различия сторон. Можно было бы пройти то и другое с живой душой. Но ты отдал душу – стороне Германтов, или стороне Мезеглиз, или Альбертине, или пирожному, и еще очень должно повезти, крупная удача судьбы должна быть, если тебя, благоволением Бога, поразит непроизвольное воспоминание. Оно тебя еще может оживить, когда ты макнешь свою собственную душу, заключенную в пирожное «мадлен», с этим пирожным макнешь в чай, и это может произойти, а может не произойти, – а как воссоединиться? А цепь, проходящая, требует, чтобы была связь; вот этот круг, о котором я говорил, требует, чтобы была связь между живым и мертвым, чтобы этот круг двинулся бы по всей жизни и чтобы все линии пересекли его. Запомните: каждый день, каждую секунду мы умираем, но умираем – как самоубийцы. Те, которые сами разлучают душу и тело. А наказания… простые в нашей жизни. Например, частица моей души уложена так, что я вхожу в трамвай и мне уступает место молодой человек, вежливо и любезно, а это – любовник моей жены. И я этого не знаю. Часть моей души встала и уступила мне место, и это существенный акт, событие в моей жизни, мало ли что из такой встречи может проистечь… Вы не обязательно должны представлять наказание в драматическом виде, в таком религиозном, что ли, виде. Достаточно нам в жизненном виде представить, тем более что религиозные символы как раз об этом, а не о чем-нибудь другом. Только мы их читать не умеем. Значит, есть эта цепь, круг движущийся, циркулирующий по нашей жизни, и на нем написан только один призыв к нам, а именно: жить! Возрождаться сейчас и здесь. Или жить дальше, таща за собой каждую секунду умирающие части и возрождая их хотя бы тем, что ты что-то через них узнаешь. Узнавая, ты возвращаешь себе. Если ты узнал, что в Мезеглиз можно пройти через сторону Германтов, то ты возвращаешь себе душу свою, которая в географии этого места была заключена. И ты ведь мог страдать, ты мог считать, например, что можешь восстановить эту часть души своей, просто посетив (в географическом путешествии) места своего детства. Увы, говорил Пруст, нельзя, шагая по поверхности, прийти к месту своего детства, потому что это место – под землей, и нужны археологические раскопки, а не путешествия[346 - C.G. – p. 91 – 92.]. Так же, как у меня все время звучит в ушах шум мельницы в деревне матери – в Шиндиси, недалеко от Гори, прямо перед нашим домом была мельница. И вот шум этой мельницы все время звучит. Но, посетив эту деревню много лет спустя, я ничего не смог обнаружить от того, что было в моей душе. Ничего не смог восстановить. Потому что не так восстанавливается прошлое. Или – не так оно оживает. А как же оно оживает? Я уже сказал: узнать – это уже оживить. А знание требует движения в подземелье. Теперь, продолжая эту мысль, я одновременно завязываю ее с темой метафоры. Фактически я все время говорил о метафорах (о естественных метафорах). Пирожное, содержащее душу, – а теперь я могу сказать, что пирожное есть метафора моей души. Мезеглиз есть метафора моей души, сторона Германтов есть метафора моей души, книга «Франсуа ле Шампи» есть метафора моей души. Она хотя бы потому метафора, что эти вещи неописательны. Когда я говорю: книга «ле Шампи» – метафора, то я имею в виду книгу, которая не есть та книга, которую можно описать. Представьте себе третьего наблюдателя, который смотрит, – Марсель берет книгу в руки «ле Шампи», и наблюдатель видит это и описывает. Или сам Марсель захочет описать. Что он опишет? – сводку линий и поверхностей. Книга, как всякая другая. И пишет в романе: Марсель взял в руки книгу. Что сказано этим описанием? Ровным счетом ничего. А метафора указует на запечатленный внутри, в этом подземелье, опыт сознательной жизни, который еще одним актом жизни, то есть дополнительным опытом сознания, нужно возродить. Чтобы вернуть себе какой-то один опыт сознания или души, нужно проделать самому еще какой-то опыт. И тот опыт возродит этот опыт. И этот опыт проделывается вне существующих классификаций и связей. Потому что книга, описуемая, стоит в классификации и в наших привычных связях. Имеет значение внутри них. А метафора начинается там, где вещь вынимается из привычных связей и номенклатур. И тем самым она отличается от описания или от наблюдения. И соответственно: чтобы наблюдать, увидеть то, что является метафорой, то, что содержится в метафоре, нужно совершить не акт наблюдения, а акт жизни. Иногда такие акты жизни непроизвольно происходят. Скажем, автор споткнулся о неровные плиты во дворе дворца Германтов, и его сознание – он ошалело застыл на месте – пронзилось воскресшей площадью перед собором святого Марка. Он, ослепленный этой картиной, – она тут же исчезла – хочет ее восстановить, он делает еще шаг и говорит: «Но шаги моей души не были шагами в географическом пространстве, и, не делая еще один шаг по двору дворца Германтов, я мог снова восстановить это ощущение»[347 - T.R. – p. 866 – 867.]. И, слава богу, оно снова его пронзило, и у него была возможность восстановить весь упакованный в нем мир.
Так вот, «дальше жить» означает завершение таких актов, которые возрождают то мертвое, которое сцеплено с тем живым, которое живо сейчас, – чтобы дальше просто жить, а не продолжать частями осыпаться (как штукатурка осыпается) в смерти. И чтобы жить дальше и что-то узнать, нужно проститься с собой. С собой, любезным самому себе, привычным, дорогим, достигнутым, свершившим, сделавшим уже что-то. Ведь когда мы боимся смерти, мы боимся, что не будет тех чувств, которые мы сейчас испытываем. Следовательно, если метафора есть замена констатации, или описания, или наблюдения того, что есть, замена этого воскрешением того, что мы испытали, – а это разные вещи, потому что описание пирожного «мадлен», того, что есть, не есть воскрешение того, что мы испытали, то есть того, что уложено в этом пирожном, и, как я говорил, одна сторона впечатления, называемого пирожным «мадлен», вправлена в оправу объекта, а другая сторона проросла в нас и захлопнулась там за какими-то золотыми дверями, – и вот если метафора есть воскрешение того, что мы испытали, в отличие от описания того, что есть, то у дверей метафоры стоит страж, не пройдя мимо которого нельзя войти в эту дверь. И этот страж – смерть, под знаком которой только и открывается измерение невидимого. Значит, измерение невидимого смертельно. Смерть есть предельный образ расставания с самим собой. Ведь не расставшись с самим собой, со своими любезными состояниями, самому себе любезными состояниями, – а одним из них является вкусное пирожное, я люблю есть пирожное, и было бы ужасным лишением, а смерть – это предельное лишение, если бы я лишился этого удовольствия. Ну, конечно, уж смерть радикально лишает меня такого рода любезных мне удовольствий. Физическая смерть. А вот сознание смерти, посредством которого я открываю двери метафоры, это – символ смерти, о котором всегда думает философ. И думал Пруст, – открывая для себя двери, за которыми распростерто или развернуто измерение невидимого. (Все, что есть в пирожном «мадлен», невидимо, – мы видим пирожное, но мы не видим пирожного «мадлен». То есть мы не видим того пирожного, которое есть часть нашей душевной жизни и часть нашей судьбы.) И вот очень странная получается картина у Пруста. Все эти отложения некоммуникабельны. Мезеглиз не коммуницирует с Германтами. Каждое из них содержит, следовательно, частичку моей смерти. Скажем, образ Альбертины, ушедшей в мою душу, не коммуницирует с образом Альбертины же, которую видит другой человек (скажем, маркиз Сен-Лу). Или, наоборот, образ Рахиль, ушедший в душу Сен-Лу, где за этим образом запахнулись, закрылись «золотые двери» грез о театре, о возвышенном, о прекрасном и т д., – он ушел в мир как бы параллельный образу Рахиль в глазах Марселя – двадцатифранковой из дома свиданий Рахиль. И эти параллели никогда не пересекаются. Не пересекаются – «эта сущность частично субъективна и некоммуникабельна», – вот что имел в виду Пруст. Значит, этот круг движется по жизни, и в нем, если он движется, должны пересечься параллельные линии, которые пока у нас не пересекаются. Есть множество миров, миллионы миров, которые несутся по непересекающимся параллелям. В них сотни «я» запечатаны в сотнях миров, и движутся они на параллелях. Здесь получается какая-то фантасмагория… Я имею два образа: один – это круг, сцепляющий живое и мертвое, именно сцепляющий. Мы видим круг в измерении невидимого – символом, не смертью, а символом смерти, открытым теперь для нас, и должны вести его так, чтобы через него проходили бы все линии. А они параллельны. И второй образ: между. Я говорил: между мной и мною самим большое расстояние. Не только между Марселем и маркизом Сен-Лу – расстояние. Душевные расстояния, не измеряемые в километрах, но такие же, не меньшие, чем расстояние между мной и, скажем, звездой Сириус. Вот это «между», – когда читаешь Пруста, то возникает такое ощущение, что есть какая-то громадная вращающаяся туманность, в которой все время разными ликами поворачиваются к тебе одни и те же вещи, перекрещиваясь одна с другой, вещи, то замкнутые относительно одна другой, то доносящие свет одна до другой путем вспышки непроизвольного воспоминания. Скажем, мир Венеции Пруста доносится до мира Пруста, идущего на светский раут к Германтам, вспышкой непроизвольного воспоминания. Эти миры находятся в этой вращающейся туманности, поворачиваясь разными сторонами, они некоммуникабельны друг с другом и в то же время иногда, так сказать, перемигиваются какими-то связями. Одна из этих связей – непроизвольное воспоминание, другая связь – встречи. Ну, скажем, расшифрованная встреча двух женских грудей: Марсель видит Альбертину, танцующую с Андре, и видит в этом конвенциональный ритуал и последовательность определенных физических актов, которые совершаются. Движутся ноги, руки, музыка, фигуры вращаются: девушка танцует с девушкой. А доктор Котар бросает фразу из своего мира, фразу, которая в этом мире принесет смысл: ведь женщины именно грудью получают сенсуальное наслаждение. Уже все было конвенционально осмыслено, то есть объяснено, – и вдруг разверзлась пропасть, и Марсель рухнул в пропасть ада лесбийской любви. Пронзило. Мир перемигнулся. Это – понятая встреча. А есть встречи непонятые, вроде той, о которой я говорил: я вошел в трамвай, и молодой человек уступил мне место, а он, оказывается, участник моей жизни, а я этого не знаю. Это и есть один из ликов вращающейся туманности. (Или: Марсель сначала видит в Шарлю надменного аристократа, который обдает его презрительным взглядом, а потом в этом взгляде читает гомосексуалиста, рассматривающего молодых людей. Повернулся лик. В романе чудовищное число таких переплетений и поворотов лика.)
Значит, есть вещи: пирожное, плиты; есть места: Мезеглиз, Германты; есть люди. Ведь Альбертина – это кокон моей души (вот как ее рассматривает Пруст), кокон, в котором запечатана часть моей души. Произведение «Франсуа ле Шампи» не есть роман в нашем конвенциональном смысле, то есть нечто под переплетом, имеющее ментальное содержание. Да нет, книга – такая же вещь, как пирожное; она кокон части моей жизни и моей души. И все описываемое вращение туманности есть как бы совершенно фантастическая сарабанда. Танец, хоровод. Фантасмагория поворотов, перекрестов, перемигиваний – символических перемигиваний. Разные места перемигиваются непроизвольным воспоминанием, которое соединяет их, и такое ощущение, что ты каждый раз испытываешь свежее ощущение зановотворения мира, – вот в этой сарабанде как бы заново возникает мир перед тобой, и совсем не такой, каким казался, пока ты позволял своей душе умирать, то есть растекаться в вещах, в произведениях, в географических местах, пока ты не мог этого всего собрать, в том числе еще и своей страстью владения. Ведь именно привязанность к объекту является причиной смерти владельца этого объекта. Стоит нам наложить манию владения на этот заколдованный мир, как створки или дверцы возможных отверстий мира захлопываются. Ты хочешь владеть Альбертиной как вещью – ты никогда ничего о ней не узнаешь. И самое главное – ты не узнаешь о законах своей души, которые заставляют тебя сегодня плакать, завтра смеяться, послезавтра снова плакать. Это все к тебе будет приходить, как метеоры, из чужого мира. Или – как рука, которая опускается в аквариум и вынимает из него рыбку, которая барахталась в воде и думала, что ее мир, аквариумный мир, бесконечно простирается. И рука вторгается в этот мир вне всякой связи с привычными объектами – для рыбы – мира воды; мир воды для рыбы был продолжен бесконечно – и тут вдруг – рука. И сколько раз в нашей жизни – нас, бедных рыбок, касается такая рука. Сначала кто-то с довольно растроганным, умиленным и слегка насмешливым видом рассматривает наши шевеления в аквариуме, который мы воображаем всем миром, а потом вынимает нас из этой нашей бесконечной водной среды.
И вот, идя по этой ниточке, я назвал бы роман Пруста эпосом. Это эпос расколдованного мира. Весь этот мир – заколдованный – движением текста (для этого текст и пишется) расколдовывается. И уже в этом расколдованном мире вырастают действительно эпические фигуры: эпос вещей, эпос цветов, эпос имен. Эпос мест и эпос людей, – потому что вырастают фигуры, которые не уложишь в схемы добра и зла. Они настолько многофацетны, настолько поворачиваются разными сторонами в разных встречах, настолько сами себе неизвестны и настолько проблема реализации их душ шире проблемы добра и зла в элементарном моралистическом смысле, что, конечно, это эпические фигуры. Попытка эпической прозы в XX веке, который, казалось бы, совсем уж для эпоса не приспособлен. Эпос – мы предполагаем – давно прошедшее… Но, посмотрите, ведь роман Джойса «Улисс» явно эпический роман. Там все события, мелкие события обыденной жизни героя расположены в многомерном пространстве мифологических фигур, где даже в обыденном событии могут содержаться связности, во-первых, далеких миллионов событий и, во-вторых, связности эпической масштабности. Ведь не случайно сквозной и постоянно повторяющейся темой у Пруста является тема собора, католического собора[348 - См.: S.B. – p. 89; T.R. – p. 1033, 1045; Sw. – p. 100.]. Потому что собор – организованный язык, содержащий в себе максимальное количество различных временных пластов и обозначающий их смыслами, зашифрованными в символах и в расположениях самих частей собора. А для Пруста проблема языка была очень существенной: он понимал, что переживать можно лишь в языке. То есть, имея артикуляцию и перенося на нее способности переживания, – и тогда ты понимаешь, любишь, страсти твои организуются. Ты способен на доблесть, на мужество и т д. А не просто – хотеть быть добрым, хотеть быть мужественным… И собор для Пруста был текстурой человеческих страстей. Не в смысле нравоучительных замечаний о том, что страсти преходящи… Да нет, – язык, посредством которого они могут осуществляться. Реализовываться человеком, в полноте этих страстей переживаться. Для этого понимания был очень существенным опыт, который с Прустом случился в его собственной биографии писателя. До романа, называемого «В поисках утраченного времени» он написал роман «Жан Сантей», который так и остался в рукописи. Многие темы, сквозные образы, встречаемые нами потом в тексте «В поисках утраченного времени», фигурируют в этом раннем романе, но нет там, во-первых, смертного ритма; это скорее внутренний роман, роман вдохновения, роман художественных озарений, вызываемых непроизвольными воспоминаниями и красотами природы. В нем нет еще ощущения смертельного риска и смертельного ритма того невидимого измерения, в котором должен двигаться человек, который просекает все свои линии жизни через цепь, связывающую мертвое и живое. А связать мертвого и живого означает возрождение мертвого впереди самого себя. Так вот, не было этого смертельного ритма и, во-вторых, не было того опыта, который испытал Пруст после написания романа. Это был опыт общения Пруста, путем переводов, с английским эстетом и философом Джоном Рескином, который, кстати, тоже был фигурой моего детства. В детстве я читал в основном французских авторов – Монтеня, Монтескье, Руссо и др., а из английских авторов по случайности библиотечных потоков в родном моем городе Тбилиси именно Рескин мне достался. А потом я вдруг обнаружил через много-много лет, что это был довольно существенный опыт в биографии Марселя Пруста. Пруст переводил его путешествия – у Рескина есть несколько книг, относящихся к нашему делу: одна из них называется «Камни Венеции», и вторая книга – «Амьенская библия». Та и другая книги – описание своего рода пилигримства Рескина, художественного, эстетического, по соборам и всяким местам, где есть прекрасные монументы и произведения искусства. Пруст его переводил и написал прекрасное предисловие (к «Амьенской библии»), которое потом отдельно издавалось. И вот на этом опыте Пруст впервые осознал проблему языка. Он осознал ее через образцы средневекового искусства в описаниях Рескина. И потом он всю свою жизнь считал соборы самой спиритуализированной вещью, какая только может быть. Я все время фактически говорю о спиритуализированных вещах. Только есть вещи совершенные – спиритуализированные. Скажем, собор. А есть вещи несовершенные, тоже спиритуализированные – пирожное «мадлен». Конечно, пирожное «мадлен» спиритуализированная вещь, но она – не собор, она недостаточно спиритуализирована. И вот я вывел вас к проблеме языка, потому что вы понимаете, что спиритуализированная вещь есть метафора; только – естественная метафора, а не умственная аналогия или умственная метафора. Это не есть сравнение, совершаемое актом нашего ума, который знает оба члена сравнения и приводит их в связь; два крайних звена сравнения известны в сравнении, и наш ум состоит в том, что мы сравнили одну известную вещь с другой известной нам вещью. Здесь речь идет о естественных метафорах, имеющих совсем другую структуру. И вот эти вещи, будучи в самой жизни, и в самой жизни будучи случаями в ней коммуникаций некоммуницируемых миров, – ведь мир испытания Прустом чего-то на площади Сан-Марко сам по себе некоммуницируем с посещениями Марселем Германтов; чтобы испытать, соединиться с площадью святого Марка, ему нужно снова стать тем молодым человеком, который ходил по этой площади перед собором, то есть не быть тем, который ходит на приемы к Германтам, – все эти коммуникации метафоричны по своей структуре, они есть случай естественной метафоры. (Встреча является естественной метафорой. Ведь, скажем, любовник, который уступил мне место в трамвае, есть метафора моей жизни. Но – естественная метафора. Только я ее не знаю, более того – такая метафора, которую можно не знать. Но это – метафора моей жизни.) И об этих вещах Пруст говорит как о начатках искусства в природе. В самой природе или в самом мире есть начатки искусства. То есть в ней есть начатки таких организаций, которые подобны тем, которые специально создаются художником, чтобы испытать то, что можно испытать только пугем сознательной метафоры. Метафору можно испытать или быть жертвой метафоры в жизни, а можно ее прожить (и если с нами случаются метафоры, подобные той, которую я условно вам описал, так лучше их прожить), и в каком-то смысле и жизнь, и произведение искусства могут быть проживанием метафоры. Кстати, это выражение есть у Эзры Паунда. Он вообще считал поэзию прожитой метафорой. Обратите внимание – прожитая метафора. Это, конечно, не есть жизнь согласно метафоре, а нечто совсем другое.
ЛЕКЦИЯ 17
19.11.1984
Я начну с очень легкой цитаты Пруста. Она необязательна, я мог бы ее не приводить, но она просто напомнит вам тон нашего подхода к роману Пруста и тон трудовой жизни Пруста. В одном из писем к Жаку Ривьеру он писал следующее: «если бы у меня не было бы интеллектуальных убеждений, если я хотел бы просто вспоминать и дублировать мою жизнь вместе с самой этой жизнью», – что-то случается, и я вспоминаю о том, что случилось, и тогда описание воспоминаний есть дубль того, что произошло реально. (Очень часто у Пруста повторяется словосочетание – double emploi[349 - См.: S.B. – p. 418; T.R. – p. 895.], двойное использование: один раз случилось в жизни, а второй раз я об этом вспоминаю и записываю воспоминание.) Так вот, если бы я хотел просто вспомнить и желал делать двойное употребление своей проживаемой жизни, – «я, будучи таким больным, каким я являюсь, не взял бы на себя труда писать»[350 - См.: Centenaire de Marcel Proust, p. 65.]. Эту тему лени, которая помешала бы ему делать двойное употребление из проживаемой жизни, он повторяет в другом письме, в письме Роберту Дрейфусу (1913 год). И здесь тоже очень важное для нас предупреждение. Я как-то говорил, что в связи с Прустом сразу же возник культурный экран (что очень часто случается с крупными произведениями и авторами), мешающий нам воспринимать, что на самом деле написано. Как только вышел его роман, сразу возникли такие словосочетания, как «мельчайшее наблюдение», «тонкость деталей» и т д. Доведенный до отчаяния Пруст неоднократно повторял: «…простите, я никакие детали не исследую, я не пользуюсь микроскопом, если я и пользуюсь каким-нибудь оптическим инструментом, то это скорее телескоп, чем микроскоп»[351 - См.: Ibid. P. 64.]. Кстати, это есть в самом романе, в последней его части, а чаще повторяется в переписке и в интервью Пруста. «И там, где я искал законы, там другие видели детальное описание событий»[352 - T.R. – p. 1041.]. Воспоминаний, деревьев, цветов и т д. Точно таким же словосочетанием было «тонкая наблюдательность», хотя (в самом тексте романа и просто по сути это видно) Пруст предупреждал, что он вообще лишен дара наблюдения (того наблюдения, которым мы занимались на прошлом занятии). И вот в письме, которое я сейчас хочу процитировать, он пишет: «Мне говорят, вы хорошо подмечаете – нет, я ничего не подмечаю. Ведь ни разу ни один из моих персонажей не закрывает окно, не моет рук, не надевает плащ, не произносит формулу представления, и если есть в моей книге что-нибудь новое, то хотя бы вот это. Так это было хотя бы новым, и, кстати, это вовсе не воленамеренно, просто я слишком ленив для того, чтобы писать вещи, которые нагоняют на меня скуку»[353 - Centenaire de Marcel Proust, p. 64 (lettre a Robert Dreyfus).]. Ну, скучно писать в романе, что господин X встал, подошел к окну и открыл его. Или господин X надел плащ. Скучно! Это, так сказать, маленькая затравка вам для более сложной темы, которая у нас будет фигурировать в весьма головоломном виде, – для темы неизобразительности изобразительного искусства. И напоминание вам о божественной лени.
Теперь вернемся с этими напоминаниями к тому, чем мы занимались. Когда мы говорили о метафоре, мы выбрали путь, такой, чтобы элементы метафоры, в качестве естественных элементов, а не ментальных, видеть в самой жизни, в природе, в самой действительности. И в самой действительности, в самой жизни эти элементы метафоры, как элементы естественной метафоры существующие, являются зачатками искусства. Но я хочу повернуть это другой стороной и показать вам, что не только зачатками искусства, но и чем-то одновременно другим являются эти элементы. Я только помечу начало рассуждения таким образом, чтобы то, что я сейчас назвал элементами метафоры, можно было бы назвать и другим – неожиданным – словом, казалось бы, не связанным с метафорой, – словом закон. То есть, когда я говорю – элементы метафоры, в действительности, я могу заменить слово «метафоры» и сказать «законы действительности». Скажем, встреченный мною случайно любовник моей жены, с которым я пересекся в трамвае, при описании кем-то третьим этого факта есть метафора моей жизни. Но есть одновременно и закон моей жизни в том смысле, что то, что случилось в моей жизни сообразно не видимому мною перекресту (то есть не видимому мною факту), случается сообразно именно этому, а не сообразно тем ментальным картинам, тем идеям, в том числе идеям о любви, о братстве, которые копошатся в моей голове. То, что копошится в моей голове, будет нашим сознанием, ментальным миром, а то, что я называл элементами метафоры, будет чем-то, что содержит в себе закон моей жизни. И беда со мной будет тогда, если, говоря словами Пруста, я вижу факты и не вижу законов. Вот этот взгляд, организованный так, чтобы видеть, – смотреть на факт и видеть за ним закон, есть взгляд мыслителя или философствующего писателя, и одновременно он обладает структурой метафоры, потому что даже сейчас выразить то, что я сказал, я вынужден буду снова метафорой – строчкой из стихотворения Вильяма Блейка: «И видеть небо в чашечке цветка»[354 - «Небо синее – в цветке,В горстке праха – бесконечность;Целый мир держать в руке,В каждом миге видеть вечность!»]. Вы смотрите на цветок, малюсенький цветок, – а как должен быть устроен ваш взгляд, чтобы вы, глядя на цветок, видели бы целое небо или целый мир? Ну, точно так же за невинными фразами можно видеть не факты, а законы. Вот Альбертина сказала слово, которое обычно не фигурирует в ее лексиконе и заимствовано из другого слоя языка, – скажем, если бы она была грузинкой и употребила бы вдруг, в контексте какой-то фразы, слово «техавс» – «клево». Человек, видящий законы, а Пруст видел законы, в этом слове увидел бы закон жизни Альбертины, позволяющий ему поцеловать ее[355 - C.G. – p. 356.]. То есть он прочитал в употреблении этого слова присутствие женщины, которую можно обнять и поцеловать, хотя ничто предшествующее не вело к этому эротическому акту. В социальной жизни случаются такие же вещи. Есть качество, которое не зависит от содержания, – скажем, качества языка говорят больше, чем содержание того, что есть на самом деле. Например, у языка газеты «Правда», независимо от того, есть у вас соответствующая контринформация или нет, есть несомненные качества, говорящие о том, что что-то не так. Просто язык таков. Но я задаю другой вопрос: у какого количества людей глаз устроен таким образом, чтобы так видеть? Первый вопрос, – и второй вопрос: как может человек вырабатывать в себе такое устройство глаза, чтобы видеть таким образом? Видеть небо в чашечке цветка, в жаргонном словечке Альбертины – целуемость ее (простите меня за неологизм), а в строчке или в слове газеты «Правда» увидеть что-то прямо обратное.
Значит, я заменяю слово «элементы метафоры» словом «законы». Я говорил – зачатки метафоры в действительности, а теперь можно сказать так: нечто, что при полном осознании выступает перед нами как закон, действующий тогда, когда у нас как раз этого сознания нет, и вступающий в какие-то сочетания с другими обстоятельствами, плетущий какую-то ткань, которая по отношению к нам выступает как наша судьба, как объективные обстоятельства нашей жизни, которые мы не можем менять. Которые мы расцениваем как незаслуженные случайности, выпадающие нам на долю, хотя известно, что чаще всего мы впереди себя индуцируем те случайности, которые с нами случаются. Индуцируем характером своего предшествующего движения. «Разве с этой точки зрения (с точки зрения метафоры) природа не сама поставила меня на путь искусства, разве она сама не была начатками искусства, она, которая часто позволяла мне познать красоту одной вещи только в красоте другой. Полдень Комбре – лишь в звоне его колоколов, утренники Донсьера – только в клокотании нашего водяного калорифера. Связь (то есть метафорическая связь) может быть малоизвестной, объекты посредственными, стиль плохим, но если этого нет, нет ничего»[356 - T.R. – p. 889 – 890.]. Так вот, нет ничего – очень радикальное утверждение. Оно имеет в виду не только то, что нет художественного произведения (в этом случае оно звучало бы так, что если нет этой связи, если нет какой-то метафоры, то вообще нет художественного текста, художественного описания), – помня то, что мы говорили о метафорах в прошлый раз, когда с разных сторон высвечивали место метафоры в реальной жизни, мы должны теперь понимать, что ничего означает еще и следующее: нет ничего и в нашей жизни. И сейчас я одной только фразой поясню то, что сказал. Скажу так: у кого нет истории, у того ничего и не будет. Ведь вспомните, что, когда мы говорили о метафоре, мы говорили фактически о том, что прожито, мы говорили о том, что является следами совершенного человеком движения в мире. Он что-то делал. И когда мы говорим, что если нет этой связи – утренников Донсьера с клокотанием нагревающегося прибора, или полдня Комбре со звоном колоколов, – если этого нет, то, значит, впереди ничего не будет, потому что историю, как и мысль, нельзя начать. В ней можно только уже быть. История, как и мысль, обладает очень странным законом. В абсолютном смысле слова не существует некоторого абсолютного начала мысли или начала истории – мы никогда не находимся в положении, которое очень часто описывается как положение выбора. Вот якобы мы стоим перед рекой и думаем: бросаться в реку или не бросаться. И именно так понимаем знаменитый принцип Гераклита, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды[357 - «Ha входящих в те же самые реки притекают в один раз одни, в другой раз другие воды»(Фрагменты ранних греческих философов. С. 209).]. Это совершенно ирреальная картина, никогда не случающаяся в нашей жизни, а в нашей жизни случается совсем другое. На самом деле принцип Гераклита гласит: каждый данный момент мы уже в реке. Мы уже шевелили руками, и это шевеление есть волна, перед которой мы теперь оказываемся. Но это шевеление означает и наличие истории. И вот сейчас историю нам нужно расшифровать. Что я сказал на самом деле и почему это связано с метафорой, почему это связано с теми коконами – вещами, событиями, местами, в которых упаковывается наша душа? Ведь фактически, сказав, что если чего-то не было, то ничего нет, я сказал следующее: наша история есть совокупность тех предметов – а такими предметами могут быть люди, места, вещи, – которые похитили у нас часть души и продолжают ее своим существованием. Но для того, чтобы похитить у нас душу, нам нужно было работать, переживать, страдать, волноваться, делать.
Ведь вы поймите, что в такого рода радикальной работе, какой является прустовская, всегда речь идет об остром переживании и оставлении позади себя проблемы, которая описана, задана дантовским символом. Вспомните, кто даже в ад не попал? (То есть получил самое худшее из всех возможных наказаний.) Люди, которые ничего не сделали, – ни добра, ни зла. Люди, не имеющие истории. Помните – девушка идет вдоль вагона, в котором сидит наш путешественник Марсель, и продает молоко? Эта девушка переживается нашим Марселем как возможность полной жизни в чистом виде. Почему? Потому что он воспринимает девушку вне какой-либо связи с предшествующей своей жизнью, и перед лицом восприятия он сам – в полном составе своего существа. Вне каких-либо предрассудков, вне предзаданных представлений о том, что красиво, что некрасиво. Привилегированный детский момент – ребенок никак не задействован, его возможность восприятия не разделена на уже воспринятые и оцененные предметы, которые, чтобы воспринять новое, нужно было бы собрать и из них извлечь самого себя, высвободить свою способность восприятия из ее задействованности, и тогда оказаться свободным перед новым восприятием. И оно ведь тоже уложится в память, но только в том случае, если человеку потенциально было дано полное присутствие. (То есть он волновался, решал, переживал, радовался и страдал.) Тогда это может закрепиться, как в коконе, в материальной оболочке воспоминания и потом всплыть. Но представьте себе, что он не жил, – так ведь то, что не жило, не может ожить. Вот что я называю иметь историю. Иметь – мы имеем историю в том смысле, что мы приходим в движение. Мы двигаемся в мире. Но двигаемся (и так устроены законы нашей сознательной жизни) в мире, еще не успевая расшифровать, понять то, что с нами происходит. И поскольку мы не успеваем расшифровать и понять, постольку содержание нашего переживания или нашей мысли может слепиться с совершенно инородным ему предметом. А на место высвобожденного могут прийти штампы, стереотипы культуры, нашего рассудка, общих представлений. Но шанс, что когда-то в будущем вы сможете выскочить из предрассудков, заложен только там. Если вы пережили и если объекты похитили у вас содержание переживания, – похитили, потому что оно еще не было вами понято, проработано, – но все-таки оно было; а оно было только потому, что вы были озабочены своим существованием и были соотнесены с какими-то невидимыми и высокими для вас силами. Ведь для того, чтобы ребенок запомнил, с точки зрения психоанализа, любовную сцену, которую он не понимает, но которую видит, нужно, чтобы он думал, волновался, чтобы это было бы для него вопросом существования, на который у него ответа пока нет. И я хочу сказать, что такого рода работа есть формирование и образование очень странных материальных образований, представленных или являющихся нашими телами, похожими по своей структуре как раз на метафору. Или на метонимию (метафора – это связь разнородных объектов, а метонимия – это замещение и обозначение отсутствующего объекта каким-то совершенно другим предметом).
Я хочу сказать, что, когда мы движемся, мы отращиваем себе тело, которое потом очень часто описывается, – например, известно, что существует сексуальное отклонение, заключающееся в том, что если мужчине не пощекотать пятки, то он не может получить сексуального наслаждения. Я вам сейчас привожу не шокирующие примеры, а примеры того, о чем нужно думать, потому что даже за пяткой, так же, как за чашечкой цветка, можно и нужно увидеть законы, которые шире и значительнее этих пяток или чашечек. Дело в том, что пятка стала органом, телом возможной чувствительности и возможной реализации полового желания у данного человека. Наработанное им тело – такое же, как пирожное «мадлен», сохранившее в себе воспоминание о Комбре и содержащее в себе наши возможности взволноваться теми предметами, которые запечатаны в этом пирожном. Ведь я говорю не о пустых воспоминаниях, а об источниках наших волнений, нашего понимания или непонимания. Почему мы понимаем что-то, почему не понимаем? Почему видим, не видя? Смотрим – и не видим того, что перед нашими глазами. Ведь этого нельзя объяснить глупостью или, наоборот, умом данного человека. Нельзя описать случайно, здесь действуют какие-то законы. Точно так же человек, у которого ушли в пятки его волнения, его переживания, его мучительный запрос о своем собственном существовании и о смысле, – ведь бессмысленно что-нибудь видеть в том, что он обращается к пятке, а не к тому, к чему мы обычно обращаемся для того, чтобы удовлетворить свои желания, – видеть в этом какой-то злой умысел, исправимый тюрьмой или проповедью. И вот мир Пруста, совершенно независимо от этих крайних патологических случаев, которые я приводил просто в качестве иллюстрации, мир Пруста и мир человеческого сознания, описываемого Прустом, полон такого рода вещами, которые содержат нашу чувствительность, являются ее органами, или – телесными образованиями, которыми мы обросли. Они есть носители истории, всего пережитого нами; но я подчеркиваю слово «пережито» – переживается не само собой не то, что случается, а то, что мы пережили, то есть над чем мы работали, от чего мы не устранились, чтобы не сделать ни добра, ни зла, были нейтральны (если мы устранились, то мы даже в ад попасть не заслужили), и в чем и с чем мы пришли в движение. Приведу другую цитату Пруста, чтобы как-то бросить свет на проблему, которую я сейчас ввел. Во многих местах романа, которые, кстати, перекликаются между собой по законам симметрии, – симметрии или символические соответствия есть не только в нашей сознательной жизни, они есть еще и в самой композиции романа (разные части романа отсылают одна к другой), – в этих местах отсылки почти всегда фигурирует одно и то же слово для обозначения этих наращенных тел или наращенных вещей. Фактически то, что является материалом в романе Пруста, есть новая психология. В психологии Пруста мы обладаем не тем телом, которым якобы мы обладаем[358 - См.: Sw. – p. 404; Fug. – p. 488; Pr. – p. 100.]. Живет в мире не это тело, а какое-то другое тело, которое можно видеть, если соединить его с пирожным «мадлен» или с колокольнями, или с этой пяткой. Пруст все время говорил, что к видимому миру нужно присоединить мир желаний, чтобы понять что-то[359 - T.R. – p. 876.]. Вот мы смотрим на мир, мы хотим его понять – мы можем его понять, если мы присоединяем к видимому невидимый мир желаний. Но мы должны понять, что в этой психологии слово «желание» не обозначает рассудочное, ментальное, какое-то гомункулусное состояние в нашей пустой голове. Слово «желание» всегда указует на желающие тела, на тела желания. А они, повторяю, есть продукт нашей истории. Так вот, во всех этих симметричных или корреспондирующих местах романа к такому роду явлений применяется слово «вазы», «замкнутые вазы». Очень выразительное слово. Запечатанные вазы. Потому что для всякого человека, которому читались сказки, слово «вазы» связано, конечно, с духом, который можно выпустить из вазы. То есть – с какими-то таинственными вещами, которые в вазе заключены. Запечатаны. Так ведь? Джин из вазы выходит. И это не случайный выбор у Пруста, потому что он имеет в виду именно такого рода запечатанность. Например: «Час этот был не час, а запечатанная ваза, содержащая запахи, звуки, климаты»[360 - См.: T.R. – p. 889.]. И каждый раз запечатанность вазы (или термин «ваза») фигурирует тогда, когда нам нужно отличить подлинное переживание, которое среди прочих своих свойств обладает свойством обязательно иметь телесного носителя, такого, который не есть наблюдаемые нами тела, – каждый раз в контексте отличения подлинного впечатления от того впечатления, которое мы волепроизвольно пытаемся себе представить. Есть разница между впечатлениями, связанными с такого рода телами желания, и чем-то – какой-то призрак в нашей голове, картину которого мы хотим волепроизвольно себе составить или представить себе. Вот видите, настолько этот пункт фундаментален и необычен для психологии, что я даже затрудняюсь терминологически пояснить вам эту разницу между ментальной картинкой чего-то и самим этим «чем-то», что не есть вещь, что есть тоже представление, но не ментальное. И вот Пруст пишет: «…я слишком хорошо понимал, что ощущение неровных плит, жесткость салфетки, вкус „мадлен“, то, что они пробудили во мне, не имело ничего общего с тем, что я с помощью единообразной памяти пытался вспомнить о Венеции, Бальбеке, Комбре; и я понимал, что жизнь можно оценивать как посредственную, хотя моментами она и представлялась такой прекрасной, потому что в первом случае мы ее взвешиваем и обесцениваем на основе чего-то совсем другого, чем она сама, на основе образов, ничего от нее не сохранивших…», – различием между каждым из действительных впечатлений, расхождение которых и объясняет, почему единообразной краской нельзя нарисовать что-нибудь в жизни подобное; единообразной памятью нельзя воссоздать картину памяти, хотя бы потому, что предметы памяти заключены в вазах, а единообразная память, выступающая как средство, безразличное к достижению цели, не может ухватить различия ваз, то есть различия того, что в вазах заключено. «Это различие было, по всей вероятности, обусловлено тем, что малейшее слово, сказанное нами в тот или иной момент нашей жизни, самый незначительный жест, сделанный нами, был окружен и нес на себе отражение вещей, которые логически к нему не имели отношения, были отделены от него умом, которому нечего было делать с ними в целях рассуждения…». Я на секунду прерву себя: пример, который я приводил, говоря о пятке как органе желания, – случилось сексуальное переживание, но оно окружено – как жест, как побуждение – вещами, не имеющими никакого к нему отношения. И дело в том, что как раз в эти вещи оно и может уйти, пока не понято и не освоено. И скорость ухождения в окружающие вещи больше, чем скорость понимания. Пока мы поймем, что с нами происходит, идет вот такая укладка событий, состояний и переживаний в вещах, не имеющих, с точки зрения ума, никакой логической связи с нашими состояниями. И ум не мог бы воспользоваться этими вещами для рассуждения. (Вот вы наблюдаете ребенка, рассуждаете о сексуальном желании, и для нужд этого рассуждения нет никакой необходимости обращаться к пятке. Ну, какое она с точки зрения ума и логики может иметь отношение к происходящему? Никакого. Но дело в том, что она никакого отношения не имеет к происходящему и в уме самого ребенка тоже. Но мир, повторяю, не ждет, пока смыслы развернутся в уме ребенка.)
Возвращаюсь к цитате Пруста – «…был окружен и отраженно в себе нес вещи, которые логически не имели к нему отношения…». Теперь внимательно следите за текстом, потому что вообще прустовские фразы чудовищно сложны, читать их еще можно, потому что можно возвращаться глазом, а когда на слух ты должен воспринимать, то возвращение невозможно; так вот, жест окружен какими-то вещами – жест, любое слово, но при условии, что слово сказано или подумано, что жест сделан или намечен внутренне, – «…в гуще которых – вот тут розовый вечерний отсвет на увитой цветами стене загородного ресторана, ощущение голода, жажда женщин, удовольствие роскоши…» Все сопутствующие и логически не связанные вещи, просто характеризующие мое общее состояние в тот момент и общую ситуацию, когда я испытываю какое-то дискретное впечатление или желание. «…голубые волюты утреннего моря, обволакивающие музыкальные фразы…» – музыкальные фразы попали в волюты, – ну, естественно, вы сидите на концерте, слушаете музыку и смотрите в потолок, а там – волюты! Или вы смотрите на волны во время исполнения музыки, и волны тоже образуют волюты, завиточки белые. И тут гениальная метафора у Пруста – «…которые частично из них выступают, как плечи русалок»[361 - Ibid. P. 869 – 870.]. Материальная и крепко сбитая метафора. Из пены морской, из волют голубых волн белые плечи русалок частично выступают. (По этой метафоре можете представить себе все, что я говорил перед этим. И даже из пятки выступающее наше половое желание. Пятка тоже – волюта.) «…жест, простейший акт остается заключен как в тысяче закупоренных ваз, каждая из которых заполнена вещами совершенно разного цвета, запаха, температуры; не говоря уже о том, что эти вазы, расставленные по всей длине наших годов, в течение которых мы не переставали меняться, хотя бы только в грезах и в мысли, расположены на весьма разных высотах и вызывают в нас ощущение причудливо различающихся атмосфер»[362 - Ibid. P 870.]. Вот представьте себе все это, и более того – я в прошлый раз ввел тему параллелей, – мы у Пруста плывем на не пересекающихся параллелях. Пока мы имеем закупоренные вазы, вазы желания – назовем их так, вазы нашей жизни или вазы наших историй, мы плывем на параллелях, где даже воспоминания любящих друг о друге не одни и те же. Скажем, Марсель помнит какие-то слова Альбертины, и они застряли у него, как камень, в голове, а она их не помнит и помнит совсем другое. «Наша параллельная жизнь была похожа на те аллеи, где симметрично, от места к месту, расположены вазы, но не напротив друг друга»[363 - Ibid. P. 975.]. Значит, мало того, что по всей линии траектории нашей жизни, вдоль наших годов, как вдоль аллеи, расставлены вазы или наши тела… Тела желаний, те, которые мы нарастили и в которых упаковано что-то. Мало того, что они расставлены еще и на другой параллели; конечно, у всех – параллельные вазы, и одно и то же событие вошло в эти вазы, эти параллели вобрали в себя одно и то же какое-то событие… Но к тому же еще эти вазы могут быть вовсе не симметричны. То есть на линии относительно другой линии они расставлены не против друг друга.
Так, продолжаем. Для паузы в нашем напряжении я верну вас к литературной проблеме метафоры, процитировав кое-какие места из Пруста, которые говорят лишь о том, как эти вещи, которые мы ищем в жизни, используются в написании и создании литературного текста, где они являются особой проблемой искусства. Значит, обо всех этих вещах, которые расположены в вазах, перекликаются, Пруст говорит, что «в произведении искусства, если бы я решился на него, я понимаю, что я должен был бы выполнить последовательные части в материи, весьма отличной от той, которая подошла бы к воспоминаниям утра на берегу моря или к полуденным воспоминаниям Венеции, если я хотел нарисовать эти вечера Ривбеля, когда в столовой, выходящей в сад, жара уже начинала разваливаться, спадать, никнуть, когда последнее сверкание еще освещало розы на стенах ресторана, а последние акварельные краски дня были еще видны в небе, – выполнить это в материи дистинктной, новой, в материи особой прозрачности и звучности, компактной, освежающей и розовой»[364 - Ibid. P. 871.]. А вот в связи с разницей высот – эти вазы, у них совершенно разная атмосфера, они на разных высотах расположены вдоль годов нашей жизни, – Пруст пишет: «Но между воспоминаниями, которые я последовательно имел о Комбре, Донсьере, Ривбеле, я чувствовал в этот момент расстояние между разными мирами, сама материя которых была бы иной»[365 - C.G. – P. 398.]. Помечаем: материя этих ваз или материя миров, определенных вазами желаний или телами, о которых мы говорили, – материя разная. «И если бы я решил в какой-нибудь работе имитировать ту материю, в которой мне представлялись отлитыми мои самые незначительные воспоминания о Ривбеле, то – субстанцию, до этого аналогичную шершавому и темному песчанику Комбре, мне понадобилось бы прошить розовым, сделать ее вдруг насквозь прозрачной, компактной, освежающей и звучной»[366 - Ibid.]. То есть такая перекличка ваз и воспоминаний, которые, как джин, из этих ваз выскакивают, перед тем, кто хочет их описать, ставит задачу выполнить описание совсем другой материей. Не в материи Комбре или Ривбеля, не в песчанике Комбре, а в другой – прозрачной материи. То есть в такой, которая прозрачно могла бы нести в себе синтетический смысл переживаний, случавшихся в разное время и заключенных в разные материальные вазы. Это уже – на уровне художественного творчества.
Но вернемся пока к уровню жизни, потому что уровень творчества – это и раскупорка в нашей жизни этих ваз. Эти вазы еще должны у нас прийти в движение. А пока мы находимся в вазах, которые расставлены на параллельных аллеях и даже не всегда одна напротив другой. Одно и то же событие – на одной параллели у человека ушло в одну вазу и на параллели другого человека, связанного с первым (например, у возлюбленных), ушло в другую вазу. И вот мы еще должны эти вазы, чтобы было бы возможно распространение жизни, коммуникации жизни, сообщение жизни, привести в движение. Но перед тем как они пришли в движение, мы сталкиваемся с очень забавными свойствами такого вазового или атомарного устройства нашей жизни. Эти вазы ведь есть как бы полные атомы нашей сознательной и психической жизни, замкнутые в себе. Замкнутые в себе, как по отношению ко мне самому в следующий момент времени, скажем, через несколько лет, так и по отношению к другому человеку. Во мне может силой непроизвольного воспоминания совершиться соединение или перекличка замкнутых в себе атомов. Силой непроизвольного воспоминания, а не рассудочного ментального описания или реконструкции. Какой же силой происходит это с другими людьми? Скажем, в моей голове промелькнуло непроизвольное воспоминание – а с другими людьми как? На их параллельных линиях? Как я с ними могу перекреститься? Ведь метафора – непонятая и непрожитая – в самой жизни будет говорить обо мне, но я не ею буду жить. Она будет нести картину законов, по которым со мной что-то случается, а со мной будет продолжать случаться, как с бараном, все то же самое. Просто я не буду знать этих законов. Вот какие действительные проблемы перед нами здесь стоят. (Но пока вернемся к свойству этих ваз, которые нам мешают – пока они не поняты, войдем в это движение и в сообщение по всему широкому жизненному пространству.)
Когда происходило переживание в допущении, что всегда – если со мной происходило что-то человеческое, знал я об этом или не знал, полностью для меня был ясен его смысл или не полностью, – это человеческое могло произойти только при условии: я был в полноте всего моего существа (ну, как ребенок, допустим), и тогда все, с чем я имел дело, было предметом веры и было индивидуальным, ни на что другое не похожим предметом. Ну, я оговорю сначала слово «индивидуальное». Понимаете, ведь роза, которую ты описываешь, не есть та роза, для которой существуют тысячи и миллионы экземпляров. Точно так же, как женщина, которую ты любишь, не есть женщина как представитель класса женщин, где есть тысячи подобных – таких, каких ты мог бы полюбить. И то, что я сейчас сказал, в нашей традиционной языковой символике очень часто обозначено, как ни странно, словом «золотой век» или «потерянный рай». Беда в том, что это словосочетание указывает не на то, что было реально, а указывает на свойство определенных переживаний, и поэтому Пруст говорит каждый раз, что рай бывает только потерянный. В данном случае под «раем» мы должны понимать полноту своего собственного присутствия. Но дело в том, что если ребенок в своей полноте присутствовал и реагировал и видел индивидуальность вещи, то есть верил в нее, как во что-то уникальное, то ведь скорость этой веры меньше и скорость движения по линии этой веры меньше, чем скорость мира, готового, рассудочного мира, закодированного в языке, который тебе приносят взрослые и который с большой скоростью становится на место твоего, еще по своей линии не прошедшего переживания. Например, ты пережил уникальность розы, а в языке ты узнал значение «розы». А значение розы есть значение тысячи экземпляров розы. У тебя уникально выделяющееся сенсуальное или сексуальное чувство, а в языке ты узнаешь о женщине как о представителе класса женщин, имеющих какой-то набор перечислимых свойств. Дело в том, что один мир становится на место другого. О первом Пруст говорит так: «…это чувство я потерял давно, а именно, чувство, которое заставляет нас рассматривать какую-то вещь не как спектакль, а верить в нее, как в существо, не имеющее никакого эквивалента»[367 - Sw – p. 66.]. Или – не имеющее себе равного, подобного, и тем самым несводимое в своей сущности. Теперь я хочу пометить один момент: это было, если было. Я сказал; если было что-то человеческое, то было так, или – если мы люди сейчас, то обязательно что-то человеческое или первично человеческое должно было быть в нашем детстве. Но, как я сказал, – на место придут слова, и мы будем иметь дело со словами. И тогда начинаются наши драмы. Почему? По одной простой причине. Скажем, в языке будет слово «Рахиль», а, допустим, я испытал какое-то уникальное чувство по отношению к Рахиль, и сам факт наличия в языке слова «Рахиль» требует и предполагает поиск в мире эквивалента или референта этого слова. Слово «Рахиль» обозначает Рахиль как таковую, саму по себе, как она есть. Так говорит язык, в котором существуют значения. Но на самом деле (что мы уже установили) не существует Рахили как таковой. Это ложная проблема и ложный поиск того, что существует Рахиль в себе, об этом говорит лишь язык в целях своей собственной композиции. Он есть набор референтов, указующих на объект, и мы, не разобравшись в уникальном чувстве, помещаем на него уже в языке существующее слово «роза» или «Рахиль» и потом судорожно ищем действительность этого слова, которой не существует. И никогда не существовало. Начинается то, что называется фетишизмом слов и психики. Или слово «Германты». Скажем, маленький мальчик видит в герцогине Германт уникальное существо и переживание, видящее индивидуальность, он описывает так: «Когда мы молоды, а именно в возрасте моих прогулок в стороне Мезеглиз, наше желание, наша вера сообщает одежде женщины индивидуальную партикулярность, несводимую и от всего отделенную сущность»[368 - См.: Poulet. Etudes sur le temps humain, p. 412.]. Это – высокое переживание. Дай бог нам видеть такими глазами мир.
Но язык мгновенно подсовывает на это место совершенно другую проблему, не ту, которая там была. Он уже этот мир населяет (имя Германт) целым миром мечтаний и грез об аристократическом прошлом Франции, об особых качествах носителей имени Германт, как будто все эти качества содержались в имени, или факт этого имени, наличие этого имени, владение этим именем, заставлял бы меня судорожно гнаться за тем, чтобы за этим именем найти объект. А именно – благородных аристократов. Как говорит Пруст – розовых, с орлиным носом и живущих совершенно особой, какой-то сказочной жизнью[369 - C.G. – p. 62.]. Жизнь каждый раз будет показывать, что ничего этого нет и что за этой внешностью скрывается мелкий расчет, низость души и т д. Все эти разочарования… Но эти разочарования не имеют отношения к доказательству того, что такое аристократия, и слово «Германт» не имеет отношения к поиску сущности объекта. Просто сам факт, что в нашем языке есть слова, имеющие референты, обязывает нас, имея слово, искать его референт как таковой. И тем самым оказывается, что расстояние между, о котором я говорил, – то, которое между мной и моим собственным умом, между моим умом и вещами, между двумя умами, – это расстояние, пока оно потоком жизни проходилось или пока оно еще не было пройдено – охвачено потоком живого, – оно уже наполнилось значениями из другого мира, напичкалось мертвыми инертными остатками. Такими, как, например, имя Германт, за которым я ищу что-то, а оно мертво, и ничего за ним нет. А вот то, что было – эти реальные переживания (потом скрывшиеся, и за неимением скорости времени ушедшие в смежные, случайные объекты, в коконы – людей ли, имен, мест), – когда это было, тогда была для нас фундаментальная вещь. То, что я называл работой. И из этой работы нам нужно вытащить одно очень важное ее свойство. Скажем, со мной случается что-то, что я запоминаю. Дело в том, что в тех актах, которые происходят в полноте моего присутствия, где желание еще не раздробило мир, – когда желание поселится на телах желания, то мир будет раздроблен (ведь если желание поселилось в пятке, то его выселить оттуда и объединить с единством своего собственного существа почти что невозможно, или, во всяком случае, требует специальной лечебной процедуры), – так вот, пока этого не произошло, был, как выразился бы Декарт, акт, а не passion. Французы различали – и это отличие Пруст унаследовал – акт и passion. Passion – это акт или действие претерпевания (в русском языке этот оттенок исчез), и когда говорят по-французски la passion de Jйsus-Christ, страсти Христовы, то имеются в виду претерпевания Христовы. Страсти – не в смысле желаний, а – претерпеваний. То есть все человеческие действия – в той мере, в какой они содержат в себе желание, а содержа желание, они устремлены в будущее, – содержат в себе претерпевание. Passion. А акт не имеет никакого отношения к будущему. Если вы помните, я вводил категорию вечных актов. То, что не имеет бывшего и не имеет будущего, то есть не имеет смены состояний, есть акт. В мире существуют такие акты. В ядре нашей сознательной жизни заложены именно акты, а не passion. В качестве примера такого акта я приводил акт того смысла, который выполняется в агонии Христа, которая, следовательно, длится вечно. О ней нельзя сказать, что она случилась, что она имела место. Если мы посчитаем, что это случилось, и пометим знаком прошлого этот акт, как в прошлом есть, например, камни и скалы, то наша сознательная жизнь разрушится. Условием функционирования нашей сознательной жизни является наше движение или пребывание внутри вечно свершающегося акта, о котором нельзя говорить ни в терминах бывшего, ни в терминах будущего. То же самое свойственно нашим моральным состояниям. Например то, что мы переживаем под видом раскаяния, есть переживание такой проблемы, к которой неприложим термин «бывшее», потому что если приложить термин «бывшее», то раскаяние не имеет смысла. Сделанное нельзя сделать «небывшим», нельзя сделать «несделанным». И бессмысленно волноваться и беспокоиться. А человек волнуется. Почему? А потому что внутри так называемого раскаяния (или чего-то, внешне выглядевшего как раскаяние в чем-то конкретном) совершается какая-то другая работа. Совершается бытие и установление смысла внутри бесконечного акта, который никогда не завершен и в котором не сменяются никакие состояния. В этом смысле он не устремлен в будущее, он не устремлен в прошлое. Так вот, поскольку совершались акты, – если ребенок переживает что-то, относящееся в принципе к его существованию, к чему-то первоначально человеческому, то он – поскольку первоначально человеческое замкнуто на эти вечные акты – именно внутри этих актов что-то делает, такое, что может помнить. Этим я хочу сказать, что акт памяти не есть пассивное запечатление того, что с тобой произошло. То, что запомнится, – запомнится, если совершилась инскрипция, то есть – если создана материя того, что в будущем будет памятью, где в самом акте впечатления инскрибируется, вписывается в какую-то материю сама возможная структура или сама возможность воспоминания этого. И поэтому Пруст в одном месте говорит совершенно мистическую фразу в связи с этой верой. «То ли реальность складывается в памяти, то ли у меня иссякла вера, которой я обладал в юности, вера в индивидуальность и уникальность вещей»[370 - См.: Poulet. Etudes sur le temps humain, p. 415.]. Реальность складывается в памяти. Очень странное утверждение. В другом месте Пруст обмолвкой скажет как бы о чисто ментальном характере реальности[371 - T.R – p. 914]. То есть сама реальность чисто духовна по своему характеру, Значит, я подчеркиваю, – то, что совершается под видом запоминания, – не воспоминания, а запоминания, есть какая-то активная работа, которую я назвал инскрипцией; и это есть в момент контакта с объектом, – поскольку там был акт, а не просто passion, в нем, если была инскрипция, завязывается и складывается реальность. (Конечно, я сейчас непонятные вещи говорю, но, ей-Богу, я в этом не виноват, просто так получается, что я движусь на грани непонятного в принципе. Не мною, не вами – не понятого, а вообще непонятного. Но поскольку я, так же как Пруст, человек ленивый, постольку ничто, что не обладает свойством быть на грани непонятности, не может привести меня в движение. Мне скучно и неинтересно.)
Сейчас я ведь ввожу категорию памяти, категорию времени и пространства у Пруста. Это и есть в действительности то, чем я занимаюсь. Пространство я уже ввел: я говорил об особого рода телах, которые локализуют и держат на себе наши ментальные, психические и сознательные состояния. А тела – пространственны. Конечно, это пространство мы видим, если к видимому миру присоединяем мир желаний. Я говорил о времени, а дальше уже буду пояснять, что я имею в виду под временем и памятью. Так вот, пример – сложный сам по себе, но в то же время доступный нам, потому что мы его на своей шкуре пережили, или на шкуре наших отцов и дедов, скажем (для вас – дедов, а для меня – отцов). Вы знаете, что время имеет хронологические метки – оно расположено или движется по линии, размеченной датами. Но когда мы в философии или в литературе, в нашей сознательной жизни говорим о времени, мы задаем какой-то другой вопрос. Скажем, есть дата – и мы задаем вопрос смысла. То есть мы очерчиваем те ситуации, где со смыслом можно употребить слова «произошло тогда-то» и поставить дату. Произошло в детстве или в таком-то году. Ну, скажем, что-то произошло в 1937 году. Я задаю вопрос: в каком смысле можно сказать, что что-то произошло в 1937 году? Я веду сейчас к иллюстрации тезиса о том, что реальность складывается в памяти. Возвращаюсь: в каком смысле мы можем сказать: что-то произошло в 1937 году? А мы живем в 1984, и тем самым это позади нас на добрых 50 лет. Если взять реальные сцепления наших переживаний, реальные сцепления наших реакций, реальные устройства того, как мы видим наши гражданские дела, то все, что происходило в 1937 году, происходит – в смысле возможности наших душ – и сейчас. В наших реакциях, в наших душах, в том числе и в том, чему мы не научились на опыте 1937 года. Все, что там происходило в своих сцеплениях, живо и может снова произойти. Тогда я спрашиваю: в каком году расположены те события, которые происходили в 1937 году, или – в каком месте времени они произошли? Я не могу утверждать, что они произошли в 1937 году. И то, что складывается как реальность, – та реальность, в которой мы живем, реальность как нечто, в чем независимо от нас могут случаться какие-то вещи, – она определена во многом тем, чего мы не сделали в 1937 году или по отношению к 1937 году. То есть тем, чему мы не научились. Определена тем опытом, который мы не извлекли. Ясно, конечно, почему мы не извлекли. Мы не извлекли, потому что не имели публичного пространства для извлечения опыта. А опыт извлекается только на агоре, только публично. Там шар извлекаемого опыта должен покатиться и обрасти мясом и плотью – наша мысль нуждается в мускулах, и этот шар должен обрасти, покатившись в резонансных отражениях. Но я задаю снова тот же вопрос. В момент, когда случилось и мы якобы запомнили это, какую инскрипцию мы делали в своем собственном теле? В своей чести, в своем достоинстве или трусости – где инскрибировалось то, что потом помнится, то есть является возможностью, которая может быть актуализирована? Что может быть актуализировано? Боюсь, что в 1984 году может быть актуализировано как раз то, что вызывает у нас ужас, когда абстрактным умом мы вспоминаем 1937 год и считаем, что это произошло тогда. Может оказаться – мы так делали (так инскрибировали или не инскрибировали), так извлекали опыт или не извлекали, – что мы реально живем не в 1984 году, а в 1937 году. И здесь память и время являются операторами всей массы наших психических возможностей и событий, и они помечают, где мы находимся во времени, а не хронологическая дата. По хронологии 1937 год – где-то в давнем прошлом, а в реальности он расположен временем-оператором. То есть тем, которое живет в измерении или задает измерение, о котором Пруст говорит так: это непредставимое и чувственное измерение существует[372 - См.: Sw. – p. 156; T.R. – p. 884.]. Так же, как существует измерение пятки. В данном случае я беру пространственную сторону этого невидимого, но чувственного измерения. (То есть доступного, тем не менее, чувствам. Телесно организованного. Вы знаете, что на наши чувства могут действовать только телесные организации. Ничего другое действовать на наши чувства не может.) И тогда мы начинаем понимать, о каких вещах говорит Пруст, мечтающий о счастье, о счастливых ощущениях потерянного рая. Или – когда он с таким восторгом предается ощущению вневременной радости – когда мы понимаем, что, например, для того, чтобы извлечь временной опыт того же самого 1937 года, нужно быть способным выпасть из времени. Извлечение временного опыта происходит во вневременном измерении. Вот эти проблемы, ничего общего не имеющие ни с писательством, как мы его себе представляем, ни с академической психологией, как мы ее представляем, все эти вещи у Пруста сконцентрированы вокруг одного стержня, вокруг одного слова – реальность. Пруст говорил (в одном из своих писем или интервью, я не помню точно), что вся его философия сводится к тому, чтобы реконструировать и оправдать реальность[373 - S.B. – p. 309.]. То, что есть на самом деле. Но то, что есть на самом деле, – очень сложная вещь, сложность которой видна тогда, когда ты должен почти заболеть проблемой своей собственной реальности.
Значит – что мы сознаем? И сейчас вы должны сосредоточиться, чтобы уловить это, уловить трудно, потому что окна нашей души – каждого человека, не вашей только, но и моей, – замазаны, мы не чувствуем того, что прямо перед нами, и заставить нас чувствовать и понимать трудно. Повторяю, основное прустовское переживание таково: в той мере, в какой я есть человек и существо, сознающее, в смысле: в своей голове имеющее ментальные состояния, ментально осознаваемые чувства, ментально осознаваемые мысли, ментальные картины чего-то (с таким же успехом все это могло кому-то другому сниться), – как носитель этого, реален ли я? Где я? Кто я? Вот проблемы Пруста. То есть – в каком смысле, в каком реальном смысле вообще и когда можно сказать: я пережил, я почувствовал, я увидел, я понял, я запомнил, я вспомнил и т д. Набор фраз, которые, если начать думать, сначала кажутся тебе эпифеноменом других реальных физических событий в мире. А то, что в твоей голове, и то, что в тебе, это – пар, туман, испарения. Эпифеномены, как говорят. А Пруста интересует именно это: насколько я реален в качестве сознающего, чувствующего, понимающего. Мыслящего или пишущего. Вот какая проблема реальности перед ним встает. Поэтому я бы сказал так; первая фигура перипетий встреч – это сам автор, то есть всякий человек, который взял перо в руки или мысленно занят литературным, творческим или мыслительным трудом. Сейчас я поясню свою фразу. Помните – я вижу танцующих девушек, которые прикасаются одна к другой грудью. Здесь важно повернуть наше вопрошение, прежде чем спросить о том, что в действительности происходит, а кстати, на это уже есть ответ – девушки танцуют, «шерочка с машерочкой». Обыкновенный конвенциональный акт, как я говорил. Нужно спросить: кто я, видящий это? Насколько я сам реален? Если я вижу танцующих девушек, знаю, что вижу танцующих девушек, то я сам – привидение. Точно так же я – привидение, если я вошел в трамвай, молодой человек поднялся, уступил мне место, а он любовник моей жены. Поверните вопрос так: я в качестве видящего и чувствующего, – ну, встал молодой человек и уступил мне место, благодарю вас! – я – кто? Привидение. Пар. Или – я взял перо в руки и описываю: вошел в трамвай, или открыл окно, или помыл руки. В качестве совершающего этот акт – кто я? Что я мыслю? Я, например, думаю о том, что кто-то открыл окно, помню и записываю, что господин Х подошел к окну и открыл его, потом помыл руки. Кто я – в качестве делающего это? То есть сам пишущий книгу есть в этом смысле элемент жизни и может быть таким же привидением. Тем привидением, которое мы увидим в перипетии встречи третьим глазом. В прошлый раз вы напомнили мне о кино Отара Иоселиани: мы смотрим и видим, мы знаем эту даму в черном, мы знаем этого убийцу, хотя он и сбрил бороду, и мы видим перипетии встречи, в которой дама смешна, убийца абсурден. Теперь отвлечемся от того, что видим мы, и представим себе, что мы сами находимся в качестве пишущих или мыслящих о такого рода ситуациях. Вот какая проблема у Пруста. И сказать ему, что раз ты мыслишь, и мыслишь о предметах, а предметы существуют, то ты тем самым уже – в реальности, поскольку ты мыслишь о реальных вещах и пытаешься их описать, – этого нельзя сказать. Почему? Во-первых, проблема Пруста состоит не в том – есть ли в реальности вещи, которые я вижу, а – существую ли я, насколько реален я, видящий их такими, какими я вижу. Потому что если я вижу молодого человека, а не любовника моей жены, то я – ирреален. Да и сказать ему, во-вторых, нельзя, что, вот же, предметы есть, ты их видишь, осознаешь, потому что Пруст ответил бы так: между мной и предметом всегда лежит каемка сознания, и эта каемка сознания отделяет меня от предмета[374 - См.: T.R. – p. 975; Sw. – p. 84.]. Сознание, что я вижу предмет. Вот в этом вся проблема. Теперь я попробую расшифровать эту фразу, которая поначалу кажется непонятной.
Дело в том, что – я вижу предмет, а сознание, что я вижу предмет, вносит мои знания об этом предмете, – эти знания отделяют меня от самого предмета. Так же, как эти знания отделяют Марселя от предмета – соприкосновение женских грудей; он знает и знает это – как конвенциональный акт. Он видит предмет и сознает, что его видит, и в этом сознании как раз содержится весь прибежавший на место предмета мир. Вот та большая скорость (о которой я говорил), которая бежит на место наших еще не продуманных восприятий, имеющих зазор, и в этот зазор вдруг уместилось – что? Кромка, кайма, обрамляющая предмет и отделяющая меня от самого предмета. Кайма – чего? – сознания, что я вижу предмет. Сознание. Ведь мои глаза видят танцующих девушек, и если бы не сознание, что я вижу танцующих девушек, то, может быть, это впечатление могло развиться совершенно иначе. В том числе по его истинному смыслу. У меня на глазах совершается сексуальный акт, поскольку, как известно, источник наслаждения – это грудь. (Ну, сейчас неважно, так это или не так, не имеет значения, насколько, медицински или биологически это установимо.) Значит, сознание в том числе содержит в себе и причинную терминологию. Я вижу танцующих девушек, и это есть причина моего состояния, видения, и это отделяет меня от предмета. Поэтому для Пруста проблема впечатлений и их запечатлений в памяти есть проблема – феноменологическая. Проблема феноменологического взгляда, в котором устранено сознание видения предмета, содержащего причинную, объясняющую терминологию. Потому что, когда я вижу предмет, одновременно я ведь сознаю, почему я его вижу и почему я его воспринимаю. Так ведь? А оказывается, это – граница. Но я подчеркиваю сейчас еще один элемент. Вся прустовская проблема – как человека – он с остротой осознал свою ирреальность в такого рода положениях, в такого рода состояниях. Ирреальность себя – видящего так. Осознавая ирреальность – потому что она есть, о ней можно говорить абстрактно, а можно остро осознавать, иметь острое чувство сознания этой ирреальности. И вот, имея это острое чувство сознания, он искал столь же остро реальность, то есть – умещение самого себя в мир с тем составом чувств, представлений и мыслей, которые якобы этим миром в тебе порождены. Как мне уместиться в нем с моим уникальным ощущением, которое не сметено, не прикрыто объективирующим взглядом? Взглядом, который утверждает, что в мире происходит просто обыкновенный конвенциональный акт танца одной девушки с другой. И это сознание есть одновременно определенное отношение к судьбе – то, что я до сих пор называл метафорой. (Я потом вывел вас на метафоры вещей, в которых запечатаны наши души, если мы вообще что-то делали, если инскрипция происходила. Вот у наших отцов инскрипции не происходило, и у них нет тел, которые содержали бы в себе знание действительного смысла того, что произошло в 1937 году. У них нет даже пяток для этого…)
Эта мания Пруста, которую я назвал бы антименталистской, – ему страшно сознавать себя только в качестве ментального существа, потому что, если я ментален, я – привидение, или мог бы быть элементом сновидений какого-то другого человека; и не случайно роман начинается с собирания нити годов и дней, собирания нити, что совершает просыпающийся человек, который не знает, где он, кто он, – незнание – где он и кто он, – это и есть модель внутреннего переживания Пруста. Но дело в том, что это судьбоносный вопрос… Судьба ведь тоже – метафора. И если пятка обладает структурой метафоры, но естественной метафоры, то ясно, что судьба – метафора, потому что то, что запечатано в пятке и что находится вне моих рассудочных связей, и естественным образом, независимо от меня, сцеплено с какими-то другими вещами, это есть судьба по отношению ко мне. И тогда всю работу Пруста можно понять так: работа осознания судьбы. Работа человека, который не хочет быть пассивным носителем или жертвой судьбы, а хочет стать вровень со своей судьбой, извлечь из нее смысл и тем самым возвыситься над своей судьбой. Возвышение над судьбой или извлечение смысла из судьбы для Пруста крепко-накрепко связано, переплетено со значением слова «реальность». Реальность самого себя в мире – как испытывающего, видящего что-то или записавшего что-то в себе. Или не записавщего. И счастье его, возможность счастья, шанс может быть только в том, насколько велики и насколько вовремя были проделаны инскрипции происходящего. Если тогда ты волновался, если тогда ты был внутри акта, а не только внутри passion, – а passion (желания) еще не оформились, у них тел не было, они только должны были получить тело, – то тогда у тебя есть шансы в последующем, потому что ты находишься в пространстве и во времени. Я хочу сказать, что все тела желаний есть одновременно пространственно-временная локализация мира, который без нее остался бы чисто ментальным или эпифеноменальным. То есть парами в нашей голове, которые не имеют ни пространства, ни времени. Происходят реальные вещи, а в головах наших – привидения. Неважно, похожи эти привидения на происходящее в мире или нет. Я говорю о статусе бытия наших мыслей и чувств, а не о том, похожи ли они на происходящее. Ну, конечно, эпифеномены бывают копиями реальных вещей. Но я говорю сейчас не о копиях, потому что я говорю о реальности меня самого (или Пруста) – имеющего переживание чувства и мысли. Вот встать вровень с судьбой – притяжения пропорциональны судьбам. И теперь мы уже более детально знаем, что такое судьба, а притяжения – это наши взаимоотношения, коммуникации между людьми, события, которые случаются в пространстве между этими людьми, – почему ты встречаешь это и не встречаешь другого? Почему ты, встретив, понял, или почему ты, встретив, не понял? Увидел, не увидел, Почему вы оба любили друг друга, но один любил, как Татьяна Онегина, в один момент, и не было коммуникации между Татьяной и Онегиным, а потом Онегин полюбил в другой момент, и там тоже не было коммуникации. Почему нет этого соответствия, correspondance, почему чувства не перетекают по разным точкам пространства, хотя у всех они есть? Почему именно в тот момент – хочу стать хорошим ребенком, бросаюсь с моими открытыми чувствами в объятия родителей, а они вдруг отталкивают меня с суровой миной? И не потому, что они меня не любят, а просто в этой точке нет correspondance, нет соответствия по каким-то законам. Эти законы того, что со мной происходит, – как они строятся, как они из судьбы вырастают? Значит, судьбы – им пропорциональны притяжения. То есть притяжения пропорциональны тяжести или набитости ядер нашей жизни, наших полных атомов или тел желаний. Как, чем они набиты, – как бы увесистая масса системы отсчета, которая притягивает к себе по пропорции, той или иной, какие-то события. Вот так видит Пруст мир. И все это под знаком реальности.
Отношение Пруста к судьбе можно выразить словами совершенно другого человека. Цитата из Антонена Арто – он то же самое думал о театре. Значит, как Пруст относился к написанию романа и писал его все время с сознанием того, насколько реален человек, пишущий и мыслящий, что нужно мыслить или писать так, чтобы быть реальным, иначе писание не имеет смысла, говорение, мышление не имеет смысла, – так и Арто относился к театру. Он пишет так: «Итак, театр подобен длинному большому бодрствованию, в котором это я веду мою фатальность»[375 - Artaud. Le theatre et son double. Gallimard, 1964, p. 226.]. Или мою судьбу. (Ну, вы знаете, насколько образ бодрствования значим в философии. Еще Гераклит говорил, что мы бодрствуем, когда спим, или – живя, мы не живем и т д.). Так вот, у Пруста роман есть длинное бодрствование. А длинным бодрствованием является то, что в себе удается породить посредством текста или структуры романа. Посредством специального особого акта письма. Создание текста, внутри которого что-то рождается или что-то держится. В каком виде поддерживается? В бодрствующем. Или – вертикальное стояние бодрствующего человека, который держит (поскольку он бодрствует) на своих плечах дление мира. Или дление смысла, который совершается внутри агонии Христа. Этот смысл без нашего усилия не длится. Но если есть наше усилие, мы внутри него, то он длится бесконечно. Для того, чтобы быть в длительности таких бесконечных смыслов, нам нужны машины, орудия. Театр есть для Арто такая машина. И, кстати, очень забавное совпадение, перекличка между Арто и Прустом. Причем я даже не знаю, читал ли Арто Пруста, но он явно не цитировал Пруста и мысленно не корреспондировал со словами Пруста, а совпадения буквальные (просто нужно менять слова). Я рассказывал вам, что психология Пруста, как он выражается часто, есть психология в пространстве. Или психология во времени. У него эти два слова эквивалентны. Есть какая-то глубина, объемность, которую Пруст называет пространством, – у психики, у сознания. Ведь не только в измерении предмета и моей ментальной картины этого предмета, а в измерении, к которому добавлен невидимый мир желаний, к которому добавлены тела желания, – вазы, о которых я говорил. Весь этот объем есть расположение психологии или ее пространственное расположение. Арто говорит, что его театр, в отличие от традиционного театра, который есть психологический театр, театр сюжета и характеров, и главное, театр диалога, – театр в пространстве[376 - См.: Ibid. P. 92, 135.]. Театр – психология в пространстве, а не диалога. Для Арто весь европейский театр – в том виде, в каком он его застает перед своими революционными новациями, психологизирован. Он есть театр слов. То есть значений слов, которыми обмениваются между собой на сцене персонажи или характеры. И вот почему – Арто идет к театру в пространстве, а Пруст идет к психологии в пространстве или во времени, – причина – реальность. Арто тоже был болен реальностью. Сознанием или остротой сознания самого себя: реален я или не реален. И театр оказался для Арто способом, когда можно посредством определенной машины театрального действия и изображения создать чувствующий, реагирующий на что-то, – случался в качестве реального, а не в качестве привидения. И это именно он называл пространственным театром. И – словечко, которое у Пруста все время мелькает, оно мелькает и у Арто. У Пруста – словечко «реально». В одном месте он говорит, что его книга в высшей степени реальная. Он хотел этим сказать, что его книга не есть то, что есть в голове и в языке, то есть то, что в мире значений или ментальных копий происходит. И в десятках других мест он это же слово повторяет. У Арто то же самое. Говоря о языке театра, он пишет: «язык не виртуальный, а реальный»[377 - См.: Ibid. P. 141.]. Вот эту разницу нам нужно ухватить. Вспомните, я говорил словами Пруста, что меня от объекта отделяет lisere, каемка или окаймление сознания моего восприятия объекта. То же самое – как если бы я описывал бы не женщину, а ту ментальную картину женщины, которая дана в языке, где сам смысл и значение события «женщина в мире» (я вижу женщину, я влюбился в женщину) есть в языке – виртуальность языка – и не имеет признака существования. Поэтому Пруст тоже ищет реальный язык, как и Арто. Поэтому Пруст чаще всего говорит об иероглифах, то есть таких образованиях, смыслах и значениях, которые не есть ментальные картины, чисто виртуальные, в которых не содержится признака существования, а есть телесные, ходячие языковые значения[378 - T.R. – p. 878]. И поэтому, в отличие от элементов диалога, а диалог – это циркуляция языка, Арто нужен был язык как реальное событие в мире. И поэтому сцена и то, что изображено на сцене, должно быть иероглифом, а не картиной[379 - См.: Artaud. Le thйвtre et son double, p. 206, 227.].
Значит, я говорил словами Арто, – не виртуальный язык. Опять же эта формула и эта утопия театра, который Арто хотел бы создать, имеет внутри себя стержень мотива, стержень страсти, реальности, о которой я говорил. Страсти, осознающей, что мне, чувствующему и переживающему, дотянуться ментальным путем, в том числе по нитке языка, до предмета невозможно. Например, когда случились мои переживания, случился приход мира значений и ментальных образов, мира языка, то я уже из моей точки дотянуться ментальным актом до предмета – обозначенного словом «Германты», – не могу. И между моим взглядом и предметом «Германты», на который падает тот взгляд, уже целый мир фетишистских иллюзий, которые как раз мною должны быть пройдены до последней иллюзии, как выражается Пруст, подлежащей уничтожению. Вот мы уже локализовали в пространстве и во времени психику, сознание: мы говорили о вазах желаний, о телах желаний и т д. Это – пространственно-временные локализации. То есть реальность. Но дело в том, что, начав с уникальных переживаний, которые мы записываем или инскрипцию которых мы производим в телах желаний, которые мы в себе отращиваем, мы тем самым становимся реальными событиями в мире, а не эпифеноменами или какой-то пришлепкой живой чувствительности к привидению, к спектру. А наше сознание всегда протестует против того, чтобы быть привидением или спектром реальных процессов, физических процессов. Так вот, когда пришел этот мир значений, – значит, это ушло вбок, в вазы, а мы идем прямо, или нам кажется, что мы идем прямо, – то там даже пространство и время мы принимаем за физические объективные явления и становимся их жертвой. Скажем, Бальбек: там что-то произошло и записалось, и записанное потом непроизвольно – воспоминанием – вынырнет. Записалось в запахе и в виде цветка, называемого боярышником. И я, живя в мире значений или виртуальностей языка, – там есть слово «боярышник», слово «Бальбек» и пр., еду снова в Бальбек, так же, как я поехал бы в Шиндиси. Пруст – повидать боярышник, то есть снова пережить, восстановить прошлое, а я – в Шиндиси, повидать мельницу. Но дело в том, что нет на поверхности земли того, что я хочу возродить, оно не там. А почему Пруст поехал в Бальбек и убедился в том, что путешествиями нельзя восстановить, а нужна археология или нужны раскопки собственной души?! – да потому, что его толкала виртуальность языка. То есть пространство и время станут для нас физическими явлениями, которые, казалось бы, мы можем посетить и так решить нашу душевную проблему. Проблему возрождения прошлого, раскапывания смысла. Если я хочу понять смысл мельницы в Шиндиси, то мне не нужно ехать в Шиндиси. Там я его не найду. Но дело в том, что, согласно виртуальностям языка, именно этот путь предписан. И этим путем, я повторяю, я не могу – от себя, переживающего случившийся смысл в моем прошлом и пытающегося его раскрутить, осознать, от себя вот такого – дотянуться до этого смысла, обозначенного словом, нельзя, невозможно. Поэтому Пруст создает, как он выражается, искусственную память[380 - S.B. – p. 723.]. Вместо путешествия и вместо движения по диктату виртуальностей языка (чисто ментальные явления), он создает искусственную память, или ящик резонанса. И слово «ящик резонанса» Пруст применяет к памяти. Так вот, нужно, словами Пруста, создать новую материю. Не ту, песчаную в Бальбеке, не ту, которая была освещена солнцем в Ривбеле, а такую, которая соединяет и то и другое, просветляет одно другим, является совершенно новой материей. То есть последовательные переживания, последовательная перекличка воспоминаний о чем-то одном, выполненная каждый раз в разной материи или заключенная в разные вазы, – для нее, чтобы воссоздать смысл, нужно особую материю создать. Материю, конечно, созданную словами, слова ведь есть материя, – или жестами, как у Арто. Жестами на сцене.
И вот последняя тема, к которой я выхожу, тема так называемого экспериментального, или модерного искусства, которое принято ругать, и ругать при полном непонимании задач и адресата этого искусства. Особенно удобно разъяснять эту тему на театре Арто. В литературе очень трудно ухватить эту неизобразительную сторону: даже когда литературный текст не изображает, он все равно, поскольку содержит слова, вызывает в нас ожидания, разочаровываемые ожидания, но все-таки ожидания изображения, поскольку там словами лепится какой-то эксперимент. А в театре это нагляднее. Жест все-таки не есть слово. В каком смысле – экспериментальное искусство? Или – неизобразительное искусство? Ну, во-первых, неизобразительное – и я возвращаю вас к милой цитате, с которой сегодня начал: перед вами текст, в котором никогда не моют руки, никогда не открывают окон, никогда не надевают плащ, никогда не представляют друг другу людей, нет формул представления. То есть не описываются события, сюжеты. А мы реализмом называем как раз описание таких сцен. Набоков в свое время тоже был обеспокоен проблемой, которая здесь скрыта, – а здесь скрыта не только проблема реальности, но и проблема имманентно заложенной в описании бесконечности. Описание не содержит в себе критериев, которые диктовали бы, где это описание должно остановиться. Или – почему это, а не другое. Набоков спрашивал: хорошо, в романе пишут – Иванов вышел из дома и пошел, свернув направо по улице. Почему направо? Почему направо?! Почему не налево? Каков, собственно, внутренний критерий, который заставляет вносить эту вещь в описание? Само описание этого не содержит. Пруст ведь говорит: можно бесконечно описывать составляющие объекта, который перед вашими глазами, и никогда ни к чему не прийти. В том числе потому, что само описание, законы описания не содержат в себе критерия или указания, где остановиться. И не содержат указания на собственный смысл. На необходимость!
Значит, неизобразительность мы уже видели. Мы знаем, что в романе Пруста есть фразы, описания, сочетания фраз, которые не изображают. В каком смысле не изображают? Здесь мне немножко поможет Арто. Когда я говорю об Арто, я не считаю сам, что именно такой театр должен быть. Но просто там есть такие элементы, которые заставляют нас думать, искать другие театральные формы, и из этих элементов, собственно говоря, и была придумана утопия нового театра. Арто формулировал задачу так: интериоризировать игру актера. То есть само изображение действия на сцене должно было быть не изображением еще чего-то другого, а интериоризацией игры актеров. Актер должен был интериризовать свою игру – в смысле – изобразить событие «актер». Как происходит, что вообще возможен какой-то актерски выражаемый смысл? Сама сцена должна была быть машиной, которая своим действием: сочетанием жестов, криков, звуков, музыки, должна была рождать на сцене же актера, то есть человека как носителя определенного понимания чувств, состояний и т д. Обычно игра изображает состояние, а если ее интериоризировать, то мы говорим о том, чтобы в мире случались акты страсти, любви, понимания, акты какого-то чувства. Вот что такое для Арто интериоризация игры актера. И поэтому, когда мы приходим на такой спектакль, мы не видим в нем изображения каких-нибудь сцен; последовательность жестов и сами жесты, логика их сцепления не имитируют, не являются копией какого-нибудь другого известного предмета, который мы теперь по этим жестам и их сцеплению должны были бы узнавать или понимать. Почему Арто это делает? Да потому, что Арто больной человек – сейчас я не в клиническом смысле говорю, – он болен проблемой случайности и почти что невозможности того, что со мной случилась мысль. Он знает: для того, чтобы случилась мысль, должно случиться, как он выражается, сгущение – йpaississement[381 - См.: Artaud. Le thйвtre et son double, p. 75.]. То есть оплотнение, или – мы знаем, что должно случиться, – тело желания должно сложиться. У желаний есть тела, они могут быть удачными или неудачными. Скажем, пятка не очень удачное тело для всего реализованного ритуала желания. Есть другие, более удобные тела. Но так сложилось. Во всяком случае, всегда есть тела – удачные и неудачные. И у мысли тоже есть тело. Всего мышления, как говорил Гете, недостаточно для акта мысли. И вот Арто, как я говорил вам, на своем теле переживал, реально болел невозможностью мысли. Какая, собственно, гарантия – я двинулся в сторону мысли, и, чтобы она случилась со мной впереди, нет гарантий. Из мысли же нельзя родить мысль. Книги, как я говорил вам, не рождаются из книг. Они рождаются из какого-то невербального корня. И рождаются, то есть кристаллизуются, в виде мысли, если есть сцепление духа и материи. На языке Арто называемое «сгущениями». Уплотнение. Значит, мы знаем: сгущения, метафоры, метония – все это естественные явления; в нашем языке, правда, называемые вот этими тропами: метафора, метонимия. Но есть естественные метафоры и естественные метонимии. У нас есть тела, которые являются (и психоанализ это показывает) метонимией отсутствующих каких-то элементов или связей. Они представляют то, что отсутствует. Замещают один объект другим. Есть сгущения – тоже известный процесс в психоанализе. Есть смещения и т д. Смещения с одного объекта, которому оно должно было бы принадлежать, на другой объект. Скажем, все значения, которые упакованы в пирожное «мадлен» и через него только и всплывают и возрождаются, смещены с одних объектов на другие. Перенос совершился. Там можно найти и метафору, и метонимию, и все, что угодно. То есть все фигуры стиля. И для Арто именно это является проблемой. Сейчас я ее выражу немножко иначе.
Понимаете, в мире и в нашей голове есть события и явления разных категорий. Разного рода события и явления. Среди этих событий есть одна категория, которую нужно выделить, потому что она нам очень важна. Эта категория связана с различием между ментальным представлением чего-то и существованием того, что ментально представлено. Две совершенно разные вещи. И не в том смысле, что то, что представлено (материально, физически), можно потрогать, а вот существование его потрогать нельзя. В смысле реальности переживаний, реальности чувства и мысли. Скажем так: есть различие между истиной числа пять или просто числом пять и утверждением: это есть пять. «Это есть пять» – число выполненное и реализованное. Или, например, в учебнике по логике может быть написано: окно открыто. Субъектно-предикативная структура. И у нее есть значения, которые могут быть проанализированы. Но это – одно, а утверждение – окно открыто – это другое событие. Хотя сказано то же самое. В этом случае мысль выполнена, реализована. Или умозаключение, например. Умозаключением указывается на связь между посылками, где посылки определяют характер вывода. Но умозаключение нужно сделать. А это есть еще один акт ума. Ну, можно увидеть умозаключение, и вот это увидеть – хотя ты увидишь то, что в нем, не больше, – никакого содержания не прибавится; так же как утверждение – это есть пять – ничего к числу пять не добавляет. И вот те вещи, которые я называю выполнением или реализацией мысли, – имеют особое свойство: отличны от содержания этих же мыслей как виртуальных содержаний, или невыполненных, нереализованных содержаний. Вот есть пьеса, ее играют на сцене. И есть какие-то значения, смыслы, события, которые неповторимо и уникально существуют только в момент реализации этого на сцене. Кстати, ведь не случайно пьесы играются. Они играются в том числе потому, что есть что-то, что происходит только на сцене. Хотя на сцене не происходит ничего, кроме того, что написано в тексте пьесы. Вот о какой разнице я говорю. Значит, есть что-то, что существует только в момент реализации, выполнения того же. По содержанию там ничего не добавляется. Точно так же, как есть элемент исполнения в музыке, совершенно уникальный, в котором, только в нем, что-то происходит, хотя играется то, что написано в нотах. Вот что называется реализацией. Но дело в том, что в нашей духовной жизни именно новые мысли обладают свойством, таким, что они бывают только тогда, когда выполняются условия реализации. То есть когда есть сочетание, не контролируемое человеком, сочетание множества и множества элементов, такое, что эта мысль именно в момент ее реализации только и существует. Она неповторима, уникальна и является индивидом. И театр Арто брал из всех сторон театра только эту сторону. Меня, говорил Арто, интересует только то, что в момент реализации существует. Или, наоборот, – реализация (он здесь отличает один и тот же текст от него самого). Когда я говорю «реализация пьесы на сцене», то я ведь отличаю эту пьесу от нее самой. А отличие – где существует? Пьеса сыграна – сыграно ведь то, что было написано? Ну, если речь идет о диалогическом театре, о психологическом театре. Что же было? А мы знаем, что было (поэтому спектакль повторяется, и мы еще можем ходить на тот же самый спектакль), – что-то, что происходит в силу физического наличия многих элементов, которые в актуальной динамике именно данного момента держат то событие, которое есть смысл – уникальный и неповторимый – озарение, понимание, которые держатся в момент реализации.
Но дело в том, что сами наши изобретения мысли похожи на этот эффект. Мы приходим к новой мысли там и в той точке, где как бы вертикально к горизонтали нашего движения сцепилось множество элементов физической своей динамикой, и там родилась мысль, и там только и существует. Она случается однажды и впервые. И это есть особый модус существования, потому что та же мысль второй раз уже не есть та же самая, хотя – та же самая. Ведь вы поймете, что даже между научным открытием и его изложением существует фундаментальная разница, хотя излагается оно само. Но ведь мы в жизни живем – и вопрос встает так: как нам вообще в голову приходит новая мысль? И если мы не будем различать мысль – однажды и впервые и ее же – второй раз, в изложении, то мы никогда вообще не поймем проблемы нашего бытия как мыслящих людей, И потому вдруг у Арто фигурирует такое словосочетание: алхимический театр[382 - См.: Ibid. P. 71.]. Театр, в котором на сцене и только на ней рождается машиной самой сцены, сочетанием ее элементов: звуковых, видимых, жестовых, рождается то, что рождается, – он это называл алхимическим театром. В каком-то смысле роман Пруста тоже есть алхимический роман. Алхимики, вы знаете, не изучали химические элементы. Химические элементы фигурировали в алхимическом ритуале, в алхимическом действии как материальные знаки душевных состояний, соотношение которых должно было бы родить особое душевное состояние, называемое золотом, а оно есть символ души – полной и совершенной, – где должна была быть снята оппозиция между материей и духом, между конкретным и абстрактным и т д. Вот чем в действительности была алхимия. И такую же алхимию предлагал Арто: машина рождения людей на сцене в качестве что-то понявших, что-то почувствовавших, собой овладевших в полноте своих чувств, способностей и т д. Поэтому алхимический театр Арто одновременно можно назвать тотальным театром. В каком смысле? Не только в том простом смысле, что этот театр должен был сочетать моменты разных искусств – изобразительного, музыкального, актерского и т д., а еще в том смысле, что в театре, на сцене должен рождаться человек в полном составе своего существа. Тот, которого мы обнаружили в качестве носителя особого рода восприятий. Пруст! И момент или место этого полного человека или полного акта и локализовано нами в этой реальности. Этот срез или измерение реализации, то есть реальное выполнение мысли в сочетании с массой обстоятельств, которые не моим сознанием организованы, не моей волей организованы (не от нее зависят), а организованы путем каких-то подсказок, в том числе подсказок природы (то есть непроизвольных воспоминаний и т д.), – вот эта мысль в реализации и есть место рождения полного акта или полного человека. Значит, по отношению к детству мы допускаем, что в той мере, в какой что-то было, был и рай, но он потерян в самый момент самого этого рая. Человеческое существо сразу же рассыпано в тысяче ваз, из которых самого по себе перехода из одной в другую нет, – человеческое существо раздроблено по разным локализациям пространства и времени. (Мы ведь локализовали пространство и время.) И вот место собирания всего этого, или вынимание завязших ног и рук, и голов – я завяз в одном месте, завяз в другом – есть человек во всей полноте.
ЛЕКЦИЯ 18