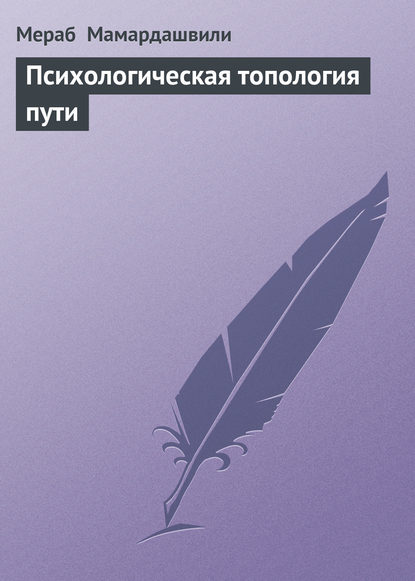По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Психологическая топология пути
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
17.11.1984
Мы завоевали один пункт, состоящий в том, что есть какая-то ситуация, построенная нами как на основе опыта чтения, так и на основе аналогии с нашим собственным опытом, в которой все, что мы можем почувствовать, и сами способности нашей чувствительности рассеяны в мире по каким-то телам, укрыты в них, и для того, чтобы мы что-то почувствовали или увидели, сначала срабатывают эти тела, а потом мы видим и чувствуем. Но, повторяю, мы пока имеем раздробление нашей чувствительности по множеству точек пространства и времени, – эти тела в разных местах локализованы, требуют, предполагают разную энергию, чтобы прийти в действие (чаще всего мы не имеем их всех вместе, хотя они все у нас есть). Но я ведь говорил вам, что вся беда с проблемой непрерывности нашего существования состоит в том, что в любой заданный момент мы не имеем тех наших сил и способностей, в том числе тех воспоминаний в памяти, которые мы, абстрактно говоря, имеем. Но почему-то именно тогда, когда они нам нужны, они отсутствуют. И в этой ситуации должно начаться движение синтеза. Мы знаем, что тела, упаковывающие нашу чувствительность, носители нашего разума и понимания, являются мирами. Вполне можно сказать о каждом из них, что они есть миры. Целые миры. Ну, просто потому, что – я приводил вам пример взгляда рыбы в аквариуме – этот взгляд неделим и поэтому простирается в бесконечность. Целый мир. Напомню вам одну античную ассоциацию. Вы, наверно, знакомы с текстами античной философии и некоторые отрывки, например, из Демокрита, могут показаться вам мистическими и даже наивными. Как говорил Энгельс, они были наивными материалистами, мыслили слишком наглядно, близко к непосредственному наблюдению природных явлений, растительного, животного мира, и слишком много у них метафор, заимствованных из этого мира. Демокрит говорил, что сами атомы (каждый из них) могут быть целым миром – со своими мирами, деревьями, животными, людьми и т д. Идеи такого рода, конечно, никакого отношения ни к наивности, ни к детской наглядности греческого взгляда не имеют. Я уже говорил в другой связи, что если мышление начинается, то оно начинается все целиком. Если совершился какой-либо акт мышления в произвольно взятой точке времени и точке пространства, то в нем было все, что потом когда-либо в нем будет. И могу добавить только одно – что, если очень потрудимся и если нам повезет, мы подумаем что-то, что думали уже давно и другие (если очень повезет и если очень постараемся и потрудимся).
Значит, даже атом может быть миром. Ну, конечно, ясно, что имеются в виду некоторые умозрительные выделенные единицы, являющиеся скорее атомами ума, чем физическими наглядными частицами. И эти атомы, являющиеся мирами, ставят перед нами проблему, что, очевидно, их синтез – возможность, что из одного атома что-то может быть сообщено в другой атом, что они могут как-то корреспондировать или перекликаться, – происходит по каким-то линиям, которые мы можем себе абстрактно вообразить. Мы должны это вообразить, потому что явно случаются коммуникации несоизмеримых вещей. Ну, хотя бы потому, что мы иногда можем подумать, как свою собственную, мысль, когда-то подуманную Платоном. В этом смысле в философии вообще ничего нового нет, так же как ничего нового нет в любви, в дружбе, в чести, в достоинстве. Мы ведь не изобретаем честь – если у нас она есть, нам удается оказаться внутри какой-то структуры сознания, которая называется честью, и в этой структуре пребывали уже миллионы людей. То же самое относится и к любви и т д. И, конечно, все эти атомы, все эти миры предстают нам как вещи, которые качественно одна от другой отличаются. Так же, как Рахиль отличается от Жильберты или Жильберта отличается от Альбертины. Они – миры по той простой причине, что предметы уходят, оставаясь внешней своей частью на наблюдаемой поверхности, внутренней своей частью, неконтролируемым и непрослеживаемым образом уходят в миры, в то, что называется мирами, и там движутся на какой-то параллели. Вот там расставлены вазы… И ясно, что, если мы ставим вопрос о том, подчиняются ли какой-нибудь закономерности, какой-нибудь связи эти миры, действительно ли они могут быть охвачены линиями, которые я теперь назову трансмировыми линиями, этот вопрос, конечно, заставляет подумать, что за этими качествами скрываются какие-то пропорции, какие-то соотношения. Одну из пропорций я называл – притяжения пропорциональны судьбам.
Значит, мы подозреваем существование пропорций за качествами и за несводимым разнообразием. Такое ощущение, кстати, было еще у одного мистика в XX веке, а таких было немало в русле того искусства, которое я называю экспериментальным искусством. Этим мистиком был Хлебников. Он говорил – видение того, о чем я вам рассказывал, он формулировал следующими словами: «игра количеств за сумерком качеств»[383 - Хлебников, Велимир. Творения. Свояси, М., 1987. С. 37.]. Ну, качества сумрачны, то есть они непроницаемы, они несводимы – одно качество не есть второе качество и т д. И наши чувства – как качественные чувства – есть сумрак в том смысле слова, что качество само собой никакой пропорции и никакого закона не показывает. Кстати, очень странное совпадение в истории мысли и литературы – я все это рассказываю на материале Пруста, привожу пример Хлебникова, а теперь дам еще материал для соответствий. Значит, – «игра количеств за сумерком качеств». Хлебников был помешан на вычислениях, у него даже созвездия выступали как символы, конфигурации человеческих судеб; и интересно, что, находясь именно в той проблеме, в которой находится Пруст, он говорит абсолютно те же самые вещи, или, вернее, у него появляются такие же сдвиги мысли, сдвиги в тех же направлениях, что и у Арто, и у Фурье. Если вы возьмете тексты Арто вокруг проблемы, которую я называл интериоризацией игры актера на сцене, то вы увидите те состояния мысли и понимания, и чувства, которые существуют на сцене только в момент реализации, то есть тогда, когда. Вот оно реализовалось, стало на ноги, кристаллизовалось! И в этот момент (обставленный неизобразительными шумами, неизобразительными позами, криками, неизобразительной музыкой и т д.) реализация должна просто быть как бы алхимическим тиглем, чтобы внутри этого тигля выпала, как золото выпадает в осадок, полнота человеческого акта мысли, полнота понимания самого себя или полнота человеческого существа. Или, на другом языке говоря, совершенство. А золото есть просто совершенный металл, поэтому оно и выступает символом всяких совершенствий. И в этом контексте у Арто вдруг появляются подсчеты, абсолютно похожие на хлебниковские (при том, что он ничего не знал о Хлебникове). Он выделяет энное число состояний актера, обозначает их определенным числом аффективных эмоций, рождаемых на сцене, составляет определенную таблицу и вдруг начинает вести почти что астрологические просчеты: составляет комбинации (из этих страстей), очень похожие на хлебниковские.
С другой стороны, тем же самым занимался и Фурье. У него тоже были таблицы страстей (исходя из двенадцати основных страстей), которые неразложимы и вступают между собой в определенную комбинацию, позволяющую максимально развертывать содержание каждой из них. Но для того, чтобы развернуть одну из них, нужна определенная комбинация из трех других. Как я говорил вам – фацеты. Дать тысячу фацетов как один взгляд. У нас глаза нефацетные, – а представьте себе существо с фацетными глазами, – и есть проблема, как синтезируется фацетная картина из каждого кусочка глаза или из каждого фацета, так, чтобы получился один видимый предмет. Эти просчеты у Фурье разворачиваются и на звезды, которые тоже оказываются символами, небесными символами земного состояния наших страстей. И в зависимости от личного помешательства и личной мании человек может идти максимально далеко в эту свою страсть и очень далеко отлететь от некоторых свойств нашей духовной, или душевной, и сознательной жизни. Вот в такой простой, невинной вещи сколько сплетено жилок, и сплетено накрепко. И так же, как геолог видит там, где наш невинный не геологический взгляд ничего не видит – просто видит камушек, а геолог видит совсем иначе, видит такие сплетения, которые нам недоступны, – так и в актах нашей душевной жизни и в литературных актах есть такие сплетения. И дай бог нам уметь это увидеть и соединить. Повторяю, что очень многие невинные вещи внутри себя содержат такие взрывчатые мины соответствий и перекличек. И, конечно, это есть единственно интересное, что может нас двигать, когда мы встречаемся с текстами. Действительно, это гораздо интереснее, чем описание розы или описание – «господин Иванов вышел из дома и пошел направо». И если есть такие сплетения, если нам удается их увидеть, то вопроса почему не возникает, потому что сами эти сплетения и факт, что я их увидел, несут на себе печать необходимости. Это как бы некоторые необходимые светоносные связи. И в мире Пруста на этих трансмировых линиях плетутся некоторые необходимые светоносные связи между тысячами и миллионами миров. Или, словами Пруста, между тысячами или миллионами зрачков и умов, которые просыпаются каждое утро. Каждое утро просыпается наш герой, и, проснувшись, он должен воссоздать и восстановить весь мир и вытянуть нить дней и часов и на нее нанизать мир. А ведь все мы находимся в таком же положении. И как бы мир в момент просыпания тысячи зрачков и умов дан тысячью мирами. Проснулась Альбертина, проснулась Жильберта, проснулась Рахиль, проснулся Шарлю… «Проснулся» – совокупность всего того, что они (Шарлю, или Альбертина, или Рахиль) могут увидеть, почувствовать, и какой путь они в своем почувствовании и в видении проходят. Мы ведь знаем, что для того, чтобы увидеть магнитофон, мы проходим путь, только в конце которого мы его видим. В данном случае весь этот путь скрыт и упакован, или, может быть, просто не содержит никаких особых проблем. Но в большинстве других случаев простейшее видение предмета содержит в себе, в упакованном виде, прохождение пути. А раз – путь, значит, могло быть другое. Можно было, во-первых, отклониться, и, во-вторых, раз есть путь, то можно было увидеть совсем не то, что я увидел (не магнитофон, а что-то другое). Ведь если бы не было путей, а были бы просто наши прямые связи с предметом, то факт отклонений (например, сексуальных отклонений) был бы просто мистически непонятен. А раз есть путь, значит, есть прохождение к чему-то другому, или отклонение.
Так вот, я возвращаюсь к «игре количеств» и прочитаю вам цитату, которую я уже упоминал в связи с проблемой метафоры. Но прежде хочу вас попросить, чтобы вы слушали меня, имея на фоне своего сознания определенный образ. Представьте себе некоторое живое существо, описываемое нами как существо, которое находится на какой-то кривой точке и должно на ней удержаться. А кривая мчится с большой скоростью, и существо может не удержаться на этой кривой. Теперь на этот образ наложите понятие, что сознание можно определить как изменение склонения. То есть есть какие-то силы, которые нас склоняют, а сознание есть блокировка, нейтрализация или изменение склонения. Наподобие той живой точки (или существа как живой точки), которая находится на кривой, – потому что нет ничего более склоняющегося, чем кривая. И в каждый данный момент эти искривления действуют на нас – например, простое рассеяние во времени происходит в пафосах наших чувств, нашей памяти. Я говорил вам неоднократно, что естественным образом мы мало что можем помнить. Мало что можем помнить, если бы это зависело только от природы. От раздражимости наших нервов, запечатленности в них или стирания следов и т д. Но мы ведь, будучи существами духовными, одновременно продолжаем быть существами материальными или биологическими, природными. И оттуда, из этой природы идут склонения. Идут, например, в наших желаниях. Какие-то сдвиги происходят. А сознание есть изменение сдвига. Или изменение склонения. И вот эту метафору держите – существа человеческого, как некоей живой точки, которой, чтобы остаться живой, нужно сохраниться в равновесии на движущейся с большой скоростью и петляющей кривой. И одновременно, конечно, это есть точка роста. Из нее что-то должно расти, что развертывается по законам, в отличие от того, что получалось бы в результате склонений. То есть, если бы это существо (или эта точка) предоставило бы себя хаосу и динамике склонений, там получилось бы другое. Одно дело – дать расти своему понимающему глазу внутри натюрморта Сезанна, и там действительный рост происходит (назовем это, условно, точкой роста), если мы удерживаемся внутри натюрморта Сезанна. И другое дело – наш спонтанный глаз, не имеющий этой приставки к себе. И вот – держим в головах эту метафору.
А теперь – цитата. «То что, мы называем реальностью, есть определенное отношение между нашими теперешними ощущениями (той реальностью, которую мы сейчас актуально воспринимаем, которая дана нам опытом, восприятием, а не является каким-либо привидением памяти; ведь воспоминание отличается от восприятия тем, что воспоминания не даны нам чувствами извне, а восприятия даются нам чувствами извне) и воспоминаниями, которые одновременно нас окружают, – отношение, которое элиминируется простым кинематографическим видением (кинематографический кадр видит или только кадры памяти, именно кадры, а не непрерывную развертку, или кадры воспринимаемого, и это кинематографическое видение отлетает или отделяется от реальности и тем самым – от истины), – тем более что оно претендует ограничиться именно видимым (или именно действительным, или именно фактическим)»[384 - T.R. – p. 889.]. То есть ровно в той мере, в какой оно настаивает на том, чтобы его претензия ограничивалась только тем, что я вижу, именно пропорционально этой претензии оно – видение – отлетает от реальности. И это есть «уникальное отношение» – здесь я хочу оговорить, что мы должны внимательно читать такого рода тексты, как прустовские. Там слова стоят не произвольные, не случайные, – там, где они стоят. Например, слово «уникальный» для нас может быть просто прилагательным. Ну, «уникальный» в смысле хорошей оценки чего-то. А здесь имеется в виду в точном терминологическом смысле этого слова, как в физике употребляют это слово. Скажем, под уникальностью события имеется в виду, что оно описано так, что это событие не может быть описано никаким другим словом. В физике есть термин «уникальность описания»; то описание соответствует правилам данной науки, которое имеет черту уникальности, Именно в этом смысле, в точном терминологическом смысле, конечно, не имея в виду никакой физики, Пруст употребляет прилагательное «уникальное отношение». Уникальное отношение – одно, единственное отношение. Единственное отношение, которое и называется реальностью. Это отношение должно быть установлено как каузальный закон, уникально связывающий две вещи. Каузальный, или причинный закон, связывающий две вещи. Так, отношение – чего?
Сейчас я это выражу немножко в других терминах, потому что в данном месте Прусту не нужно было, чтобы было видно (потому что то, что нужно, чтобы было видно, у него дано в десятках других мест; не он же сам себя интерпретирует, а это мы пользуемся и опытом, и интерпретируем, и поэтому у нас немножко другие задачи, чем у него самого). Так вот, это уникальное отношение, которое должно быть установлено наподобие каузального закона, есть отношение между тем, что я назову сейчас историческим объемом – все то, что я говорил, когда описывал все наши проделанные работой реальные эмоции, вложения в какие-то объекты. Все, что я говорил: упаковано, вложено, предметы, являющиеся знаками пути, а не просто предметы. Ну, так же как запомнившаяся колокольня есть не колокольня, а знак пути. В каком смысле? В нем уложены десятки и сотни и тысячи актов человеческого недоумения, поиска, попытки разобраться в самом себе, выбора того или этого, изменение этого выбора и т д. Человеческая работа. И работа как прошлое, как сделанное укрывается где-то, поскольку не на все сделанное у нас есть ответ, соответствующий смыслу сделанного. Мы же еще не знаем, но многое сделали. И вот то, что мы сделали, может уйти (и скрыться) во внешнюю вещественную оболочку, не соответствующую или инородную смыслу сделанного. Скажем, мечта не до конца продуманная, не в полноте своей развернутая по смыслу, по отношению к самой себе, – мечта или идеальное представление Сен-Лу о театре укрылось в божественном лице Рахиль. В данном случае лицо Рахиль есть кокон истории или пути маркиза Сен-Лу. И Сен-Лу уже имеет дело с этим, как с внешним ему самому предметом, совершенно не видя, что это продукт его собственного пути, а не просто извне, само по себе, на своих собственных основаниях существующее божественное лицо Рахиль. А таких оснований, мы знаем, нет. У Рахиль нет никакого самого по себе божественного лица, потому что другой человек видит не божественное лицо, а женщину из дома свиданий. Я сейчас подчеркиваю другое. Не эти пути и разноречия пониманий или факт наличия разных миров, в зеркальных осколках которого любое явление раздробленно отражено, – я хочу указать на материальную сторону этого дела. Сама вещь есть кокон пути, кокон истории. Вот то, что я называю теперь историческим объемом. Это, конечно, объем, а не какое-то двухмерное изображение, это не есть пирожное «мадлен», на которое я смотрю. Оно (пирожное) дано как бы двухмерно, оно дано как предмет в одном измерении, то есть в объективном, внешнем измерении, и во втором измерении – как ментальная копия, дубль в моей голове. И если мы так посмотрим, то, конечно, пирожное имеет объем. В нем есть, например, измерение, под знаком которого происходила укладка прошлых проработанных или прорабатываемых, нарабатываемых воспоминаний.
Значит, возвращаюсь к этой формулировке: отношение между историческим объемом и актуальными восприятиями (восприятием этого момента). Вы помните, что этот исторический объем имеет тенденцию отделяться от центральной точки истинного впечатления (того, что действительно было и вызвало впечатление) и идти по своей кривой. Именно этот термин «кривая» Пруст и употребляет. В такого рода случаях Пруст говорит о discours oblique[385 - См.: Ibid. P. 890.] – косвенный дискурс, или кривой дискурс. Дискурс страстного свидания с самим собой – наше впечатление в нашей проработке, уйдя в какие-то инородные для себя одеяния пирожного «мадлен» или лица Рахиль), там начинает пробегать свой кривой путь, все более отдаляющий его от того, что было на самом деле. То есть оно прорастает в миры, а они как раз этой отдаляющейся кривой выстраиваются. И наше существо, вместо того, чтобы удержаться и остаться живым на этой кривой, все время умирает в тех мирах, в которые эта кривая его заводит. Оно все время умирает перед самим собой, то есть перед истинным смыслом того впечатления, которое было. И, кстати, когда это существо захочет себя восстановить, – например, разлюбив Альбертину, забрать себе назад те части души, которые в Альбертину были уложены, – оно с удивлением обнаружит, что, как были тысячи смертей, так и должны быть тысячи возрождений. По той простой причине, что та любовь в рассеянном виде существовала в совершенно неожиданных вещах, где тысячу раз умирала в тысячах «я», потому что мы уже знаем, что у каждого такого мирового состояния есть свое «я», поскольку есть свои чувствилищные рамки. Априорные рамки чувствилища – формы этих рамок должно принять чувство, или формы этих рамок должен принять воздействующий на нас предмет, чтобы вызвать чувство. Скажем, я иду по Булонскому лесу, – и если воздействия этого леса (крик птиц, вид озера, шелест деревьев и т д.) не принимают формы, через которую я впервые действительно этот лес воспринимал как глубокое и полное событие своей жизни, а именно – формы, ассоциированной с прекрасной женщиной, то я не увижу этих листьев, не увижу этого озера. Я увижу лишь озеро вообще или листья вообще. Обратите внимание на терминологию, которой я пользуюсь, потому что здесь есть очень сложный и важный пункт, и уловить его нужно, немножко повернув глаза души, что равнозначно вывиху мозгов. Нужно вывихнуть мозги. Я ведь не имею в виду видеть то или иное дерево, я имею в виду видеть нечто, что является источником эмоций, источником душевных переживаний. Ведь дерево «вообще», похожее на другие деревья, не есть источник моих переживаний. Дерево «вообще» есть элемент в ботанической классификации, а не источник того, что происходит во мне, когда я вижу дерево. И вот глубокое ощущение Пруста состояло в том, что не существует источника в абсолютном смысле слова. Чтобы дерево стало источником опыта, это дерево должно наложиться на какую-то рамку нашей чувствительности, или, как в другом месте выражается Пруст, – улица, чтобы быть воспринятой, должна быть скользкой улицей прошлого. Вот наложившись на это – для вас это – улица. Улица – как место события, переживаний (не все мы видим, мы видим то, что является источником событий). Значит, – по этой кривой идет, уходит куда-то. И мы, не зная своей души, допустим, распаковали ушедшее из «мадлен», а потом встретились с каким-то другим предметом, и опять мы плачем от любви, потому что к этому тоже прикасалась рука Альбертины, и это прикосновение ушло и закрепилось там. Это есть миллион смертей. И Пруст прекрасной формулой выражался, что нет смерти острее и нет большей смерти, чем число и бесконечность[386 - S.B. – p. 127, 241.]. Самая большая смерть – число и бесконечность. Число мы уже видели – таких проходов «я» бесконечно много. А много – это число. И это есть самая большая смерть. Весь смысл теряется среди вещей, похожих одна на другую, повторяющих друг друга и численно лишь различающихся.
Вся проблема этих трансмировых линий по отношению к тому, что я сейчас описал цитатой из Пруста, есть проблема выпрямления (мы уже это знаем, я этот термин применял). Выпрямление кривой, так, чтобы вернуть впечатление в точку, из которой оно как бы по прямой уже идет, а не по этой кривой. В том числе не по кривой страстного свидания с самим собой. И вот эта уже прямая линия (она – прямая, очевидно, не в нашей нормальной геометрии, потому что то, что Пруст описывает как кривую, как раз и есть прямое в обычной, евклидовой геометрии), с евклидовой точки зрения, конечно, будет казаться кривой. То есть та прямая, которая есть продукт исправления кривой, будет казаться совсем не прямой. Помните, я говорил о том, что Данте стоит пред горой и, протянув руку, он может взойти на нее, но это, оказывается, не есть прямой путь, – если под прямой понимать самый короткий путь, то самым коротким путем является – пройти через круги ада. То есть расстаться с собой. Путь, когда ты берешь себя в дорогу, длиннее – когда ты скупо берешь себя в дорогу. А короткий путь есть тот, который кажется кривым. А в действительности – это прямой путь, идущий через преобразование себя в путешествии, символически описанном как путешествие в ад. Данте проходит этот путь и оказывается на вершине горы, до которой – до ныряния в туннель и прохождения ада – он как бы мог рукой дотянуться. Но нет, на дороге стояло нечто, символизированное волчицей, а именно – нашей жадностью или скупостью. И самые жадные мы – по отношению к самим себе. В других случаях – по отношению к разбиению в образах миров, когда Альбертина закрепилась в тысячах миров и должна умереть в тысячах миров; нет одной смерти Альбертины, которая меня избавила бы от воспоминаний о ней, она еще тысячу раз будет умирать, чтобы я освободился, – так вот, эта разбитая кривая, исправляемая теперь нами до какой-то линии, которую я назвал трансмировой, есть метафора. И одновременно – то, что Пруст называет стилем, и то, что Пруст называет человеком. В смысле простой фразы Бюффона, известной всем литературоведам: «Стиль – это человек»[387 - См.: S.B. – p. 128, 765.]. Мы очень часто чисто психологически читаем эту фразу, имея в виду, что стиль похож на человека в психологическом смысле слова. Бюффон имел в виду другое: то, что мы называем человеком, и есть то, что существует внутри и посредством стиля, – то есть чего-то, что есть изменение склонений. Не давать себе нырять по участкам кривой то в один мир, то в другой мир, а все время изменять склонения, – вот что, оказывается, у Пруста и метафорой называется, и кривой называется, и стилем называется. Напомню вам, что выпрямление кривой – вещь, как говорит Пруст, malaisйe – не простое дело, потому что оно бойкотируется ленью. Можно так перевести (французский глагол совсем другой – bouder) – мы как бы обижаемся и не делаем. Так вот, на необходимость этого выпрямления мы обычно обижаемся и не делаем его в силу механизмов лени, страха, надежды[388 - T.R. – p. 890.]. Ну, конечно, мы не выпрямляем наш кривой дискурс или косвенный oblique страстной встречи с самим собой, где мы выясняем отношения с Альбертиной, потому что мы ведь надеемся на то, что когда мы встретимся с Альбертиной и скажем те слова, которые мы произносим мысленно, разыгрывая сцену выяснения отношений, то, конечно, все недоразумения рассеются. Мы думаем, что они рассеются, потому что мы надеемся, что они рассеются. Эта кривая нас завела и в смерть, потому что, устав от неуспехов этого кривого дискурса, а он вечно нас носом с реальностью сталкивает, устав от этих вечных столкновений с реальностью, мы, как показывает Пруст, можем захотеть и своей собственной смерти[389 - См.: Fug. – p. 466; T.R. – p. 909.]. Просто от усталости. Но это тоже – фальшивая смерть, она – или наказание другим – моя смерть: я умру, и вот я посмотрю, что с вами будет! Или такого же рода проекция – вот я умру, мы встретимся в том мире, и я скажу: «Я знаю, что, когда я звонил и ты отвечала мне ласково, ты была в это время в постели с любовником». Представляете, вот так обыграть символ смерти?! Даже со смертью мы обращаемся таким образом. Конечно, в такого рода символе смерти полностью отсутствует сознание смерти. То, которое можно получить только философствуя. Это есть продолжение кривой и продолжение тысячи смертей. И вот это продолжение, как я вам показал сейчас, будируется (бойкотируется) страхом, ленью. Конечно, прежде всего в глубине этого лежит фундаментальный страх перед смертью. В основе – и надежды, и лени.
Так вот, я говорил, что реальность есть отношение между историческим объемом и актуальными, эмпирически данными событиями, восприятиями и т д. И это отношение уникально, оно – только одно, и его нужно открыть. Открывается оно – и заковываются две стороны цепи, как говорит Пруст, метафорой[390 - См.: T.R. – p. 889]. Или стилем. Или человеком, душой человека, которую я называл сильной классической душой. Которая может держать и на чудовищной скорости движущейся кривой оставаться живой, а не разбиваться в тысяче зеркал, в тысяче осколков зеркала, в тысячах смертей. То, что я сейчас называю стилем и человеком, есть одновременно и то, что у Пруста выступает как образ, не всегда явно выражаемый, но какой-то золотой тайной нитью пронизывающий все строение, все движение прустовского опыта, – образ соединения или воссоединения с самим собой. Воссоединение с самим собой. Значит, то, что было подлинным впечатлением, уходит по кривой, и исправление кривой есть воссоединение с самим собой в том смысле, что ты воссоединяешься с тем, что было в тебе. И только на себе ты можешь эту кривую исправить. Вы помните слова Гумилева: «О, как божественно соединение извечно созданного друг для друга!» Как раз то нечто, ушедшее по кривой, было создано для этого. Две разорванные половины одного и того же – они должны воссоединиться. В древности символ понимали так: символ есть дощечка узнавания, дощечка, разломанная пополам. Одна половина – у вас, а вторая половина – у меня. Прошли годы, а может быть, столетия, мы с вами встретились, и встретились мы с вами в той мере, в какой мы вдруг увидели, что ваша половина дощечки по излому прилегает к моей половине. Одно принадлежало другому, извечно было создано друг для друга. Так извечно созданы друг для друга два края, которые Пруст называет так: один край называется Раем, и всегда – потерянным Раем, а второе – то, что ушло по кривой. И оно должно воссоединиться с первым, потому что там как раз вторая половинка этого. Этот же символ в философии выступает как символ Эроса, который строится в предположении, что в принципе человеческое существо едино, оно как бы андрогинно по своей природе, но разделено. Будучи извечно предназначено для единства, оно разделено. Разделено тем, как устроен мир и т д., разделено событиями. Разделено на мужскую половину и на женскую половину. А любовь есть их воссоединение или стремление к воссоединению. То есть жизнь этих существ есть как бы состояние, запущенное на кривую воссоединения с самим собой. У нас все явления ведь даны плюсно и минусно. Для каждого плюсового явления есть его минусовая копия. Ну, так же как, скажем, есть истина, а есть похожая на нее ложь, неотличимая. Есть что-то, что существует в слове, и только в слове, а есть что-то, что существует и пользуется этим словом. И в слове между тем и другим нет различия. Есть для всего истинного, переживаемого нами, испытываемого, вербальная копия этого же самого. Там может стоять знак минус, а здесь можно ставить знак плюс. (Мы же математикой занимаемся. Поэтому для Пруста я и предлагаю термин… так же, как существует матезис математика – а в области Пруста мы имеем дело с пафосами, – и если в математике есть неделимые единицы, то в пафосах тоже есть свойство неделимости. И значит, когда я прибегаю к философским терминам, чтобы понять художественный опыт, – Пруст не прибегал к философствованию и к философским терминам, такое изучение можно назвать пате-матикой. От слова pathos, пафос. Это патематика, конечно.) Говоря об отрицательной стороне этого дела, Пруст прослеживал множество смертей. Множество смертей он считал оборотной стороной того, что на положительной стороне выступает как объединение частей, извечно созданных друг для друга. И вот, беря тот исторический объем, о котором я говорил, мы узнаем следующее: в этом историческом объеме закреплен – одевшись разными коконами: коконами лиц, коконами вещей, событий, дат, временных, коконами пространственных мест, – кокон реально случившегося. Это же реально случившееся дано в коконе калорифера, который – уже совсем в другом месте – ворчит и фыркает в Париже. Или: нечто данное в коконе впечатления плит площади св. Марка в Венеции имеет еще один кокон – плиты двора Германтов. И весь этот объем есть, конечно, продукт того, что я называл трудом жизни. Труд жизни туда ушел. Труд забот о том, что я называл высшим. Забот о высшем. Внутри какого-то впечатления мы задавались не просто вопросом о самом материальном содержании впечатления, а мы задавались фактически вопросом о своем собственном существовании, о своем собственном бытии, о своей собственной душе. Потому что – я снова повторяю тот пример, который приводил, – та тревога и вопрос, который есть у мальчика, решающего впервые для себя некоторые вопросы половой жизни, это не есть та тревога на которую получен потом ответ в реальной жизни, где выясняется разница между полами, механизм и структура полового желания, выясняется механизм рождения детей, – то, что он там узнает, не будет ответом на то, что беспокоило его. У него было бытийное беспокойство, другого рода беспокойство. Так же, как, – скажем, если маркиз Сен-Лу узнает, что Рахиль проститутка, это знание не будет ответом на тот вопрос, который его беспокоил, – вопрос о прекрасном мире, из-за которого он Рахиль и полюбил. И узнать, что она недостойна этой любви, не есть ответ на вопрос, что же с ним происходило, когда он полюбил Рахиль. Это не есть ответ на поиск души. Там происходило что-то другое и – понималось или не понималось. А понимание – ответом на него не являются последующие знания. Понимание (или непонимание) данного момента, не имея своим ответом последующее знание, не только теперешнее, но и последующее, продуктивно. Оно не ждет знаний, которые придут на место пустот, перед лицом которых оказалось понимание (или непонимание), – понимание само производит что-то. Я называл это трудом жизни.
Значит, сказав труд жизни, мы фактически тайно вносим или формулируем скрытое предположение, что внутри труда жизни, внутри впечатлений, внутри того, что сразу же или очень быстро уходит в тысячи миров, разобщенных между собой, – в этом что-то есть, что-то длится. Есть какая-то непрерывность. Ведь, смотрите, я говорю: труд жизни – и, когда я это говорю, я явно имею в виду какое-то неделимое движение, имеющее непрерывность, по отношению к которому все способы разрешения, практического или изживающего, есть то, что англичане называют act out. Психологи, наверно, знают, что это такое – разыгрывать вовне. Вынести вовне в проигрыше. Все практические разрешения есть прерванность движения по отношению к чему-то неделимому. Я поясню простым примером: я говорил вам, что в страдании, связанном со смертью любимого существа, происходит какое-то движение, внутри непрерывности которого нельзя поместить знание о том, что страдать бессмысленно, потому что того, что было, не сделаешь небывшим, или – того, что было, не вернешь. Или – что можно любить и другого. Точно так же – если у тебя убили друга в Афганистане, то структура философского и поэтического сознания – а мы знаем, что из философского и поэтического сознания только и складывается структура действительной человечности, – полностью исключает то, что можно тут же, сразу призывать к мести. То есть разрешать чувство горя практическим действием. Само практическое действие выступает как прерванное движение по отношению к тому, что должно было быть непрерывным движением. В непрерывном движении проясняется смысл. Вот, скажем, когда Маяковский кричит, что Войкова убили – или кого-то еще, я не помню точно фамилий, – и что мы за это десять белых убьем, то он произносит нечто невозможное в структуре поэтического сознания и в структуре человеческой души. Не дело поэта призывать к убийству – не по гуманитарным запретам, хотя и по ним тоже, конечно, – а потому что его дело прояснить, узнать, что происходит. И поэт по определению видит сразу с двух сторон. Поэтому он видит и то, что парень в Афганистане был загнан в угол, оказался там и трагично погиб, и видит того, кто в него стрелял, и он должен быть способным в состоянии горя, если этот парень его друг, состояние горя держать, а не разрешать. А что значит «держать»? Оставаться внутри неделимого, непрерывного движения, лишь в конце которого может кристаллизоваться реальный смысл того, что происходит. Реальность нашей судьбы. Ведь стоит поддаться разрешающим движениям, то есть делящим движениям, – а мы пока все время у Пруста имеем дело с делящимся миром, который дробит чувства, прерывает непрерывность неделимых движений и т д. – стоит поддаться, как разрушается душа. Пожалуйста, мы будем в афганской деревне стрелять и убивать детей, женщин и будем делать это в ослепительной ясности правоты. Вот с чем мы в действительности имеем дело. И эта ситуация – я беру ее в предельном виде – похожа и на обыденную ситуацию. Ведь я могу вам доказать, что вообще в истории не было сделано зла без абсолютно ясного сознания делаемого добра. Зло всегда делается для добра, так же как и лгут для истины. Все пафосы содержат истинный исходный пункт. И когда говорят, что страсти ослепляют, то не замечают, что в этой фразе всегда есть следующее: ослепительным для нас является ясность правоты страсти. Только этим можно ослепляться. Человек очень сложное создание, и в более простых случаях он не ослепился бы. А ослепляется – ясная правота страсти. Пруст в одном месте замечает (все, что я говорил сейчас, – вариации, не прустовский текст), в связи с садизмом и мазохизмом, что, собственно говоря, мы обычно завидуем иногда садисту, ценности, так сказать, его наслаждения мучениями другого. Но в действительности у садиста вовсе нет этой ценности радости, потому что садист в лице другого, который позволяет себя мучить, в действительности всегда наказывает зло[391 - См.: C.G. – p. 174; Sw. – p. 164.]. А наказание зла не такая уж радость. И поэтому нечего садистам приписывать какую-то единую незамутненную радость мучения другого.
Еще один дополнительный закон по отношению к коконам, то есть ко всей нашей реальной жизни, к тому, над чем мы потрудились, – конечно, мы не везде выдерживали неделимое движение страдания и мы разрешали его практическим действием. Вместо того, чтобы, так сказать, остановиться в наслаждении, мы повторяли акт наслаждения и тем самым теряли непрерывное или неделимое движение наслаждения. Например, одного исполнения сонаты достаточно, если ты углубился и оказался в непрерывности испытания, чтобы извлечь все, что там содержится. Точно так же, как одного пирожного достаточно, чтобы полностью вкусить, что тебе вообще может дать пирожное. И поэтому стоики и говорили, что нечего мчаться в погоне за удовольствиями. Что значит – в погоне за удовольствиями? – акт практического исполнения удовольствия ставить на место развиваемого удовольствия. Это разные вещи. Развиваемое удовольствие есть – нереализуемое практически. Так вот, достаточно одного, – потому что удовольствие само по себе в своей малой части содержит все бесконечные части или всю бесконечную сумму частей данного удовольствия. И можно не бежать. Потому что это будет настоящим бегом – одно удовольствие сегодня, завтра другое, потом еще смерть дышит в затылок, глядишь, и не успеешь. Все время с поднятой ногой в погоне за удовольствиями, а тут – смерть, конечно, обидно, она подкашивает – ты с поднятой ногой и… на тебе… умер, так и не вкусив. Это бег в дурную бесконечность. И он же называется у Пруста самой большой смертью. «Самая большая смерть – это число и бесконечность». Подставьте число удовольствий – это смерть, и бесконечность в погоне за ними – тоже смерть. И то и другое отлично от некоторого неделимого и непрерывного движения, по отношению в которому все остальное является – или превращенными, или прерванными движениями. Движение страдания прервалось, если я расстрелял детей, стариков в деревне. И прерывалось оно совершенно независимо от ясности моего добродетельного возмущения и чувства мести за несправедливо погубленного друга. Это фашистская боевая истерика. Но есть законы, – вот о чем я говорю, я говорю не о вещах, – которые могут нас бросать в такого рода состояния. Эти законы есть, и я частично их описываю.
Я вел это к формуле – пытаюсь привести все это в какую-то прустовскую формулу, и меня тоже, наверно, заносит по кривой. По той самой, которую я сам же и описываю. Пруст говорил (и этим законом можно поставить окончательный знак или точку на всей теме коконов нашей души, или – вещей, лиц, мест, времен, как коконов наших переживаний и впечатлений), – воспоминания (то есть элементы, объемы истории, которые я ввел) нельзя переливать в другой сосуд и нельзя делить[392 - T.R. – p. 857]. Очень интересный закон. Les souvenirs ne se transvasent pas – там сосуда нет (transvaser – глагол очень выразительный, можно просто только глагол употребить, и ясно, что – из сосуда в сосуд). Значит, воспоминания непереливаемы в другой сосуд и воспоминания неделимы. Если воспоминание – в сосуде Мезеглиз, то оно непереливаемо в другой сосуд. Не потому, что это – воспоминание о Мезеглиз. Пруст не это имеет в виду. Ну, конечно, воспоминания о Мезеглиз не есть воспоминание о Париже или Венеции. Нет, не в этом смысле. А в том смысле, что объем истории, объем задач, объем поиска, объем вопросов по отношению к самому себе, объем человеческой тревоги и забот, – если они разрешились и упаковались в Мезеглиз, то в другую вазу их перелить нельзя. Эти куски нашей жизни, сознательной, нельзя перевести на другие предметы в том виде, в каком они есть. Нельзя этого сделать. Они неделимы. Я сказал, что пафосы неделимы, потому что они всегда замкнуты на трансцендентальное, то есть на высокое, на дальнее. (Ну, как глаз рыбы свою воду проецирует в бесконечность – это ее среда и ее живая вода. А я говорил вам, что вода есть индивид. Не меняется вода, живет вечно.) То же самое относится и к нашим состояниям. В данном случае – к воспоминаниям. И закон их существования в коконах есть закон неделимости. Они непереливаемы в другие сосуды и неделимы. Простой пример, я говорю: пафосы неделимы. Вы не можете пафос, в том числе фашистской боевой истерики, расчленить. Вы можете только заменить путь или предложить человеку другой путь, посредством которого он вышел бы к чему-нибудь другому, а разделить – один кусочек убрать и вместо него поставить другой – невозможно. Поэтому особенно серьезны законы нашей нравственной и сознательной жизни, – что мы такими простыми операциями с ними справиться не можем. И поэтому существование таких законов и требует от нас совершенно особого внимания к ним.
Я хочу добавить еще одну такую вещь – к этой непрерывности, о которой я говорил, я приведу цитату из рукописей Пруста, накопившихся вокруг его занятий Джоном Рескиным и вокруг переводов Рескина (я говорил вам, что Пруст переводил «Амьенскую библию» и другие вещи Рескина). Уже в переводах Рескина намечается метод рекуррентных воспоминаний. Например, когда впечатления от одного места – в другом коконе, в другом месте: то, что было, скажем, в Мезеглиз в форме цветка, и оно же – в клокотании калорифера. Ну вот, мы уже имеем ученое словечко для этого явления. Рекурренция. И уже в связи с Рескиным – Пруста поразила нота бесконечности сознательной жизни или бесконечной длительности всего того, что жило. Читая Рескина, Пруст впервые открыл на себе (очень существенный потом для его романа) закон, который можно сформулировать так: все, что жило, будет жить. Но слово «жило» здесь очень нагружено, потому что «жил» – это не просто то, что мы видим живым. Многое из того, что мы видим живым, на самом деле мертвое. То, что на самом деле жило, будет жить. И будет жить только то, что жило. А на библейском языке было бы сказано так: только те, кто записан в Книге! – а вы знаете, что число, записанное в Книге, не совпадает с числом живших, формально живших людей (то есть из живших не все жили; в том числе не жили те, которым место отведено даже не в аду, а в преддверии ада, – те, которые не сделали ни добра, ни зла). Так вот, возвращаясь к рекурренции, – Пруст пишет так: «В замечаниях к тексту перевода Амьенской Библии я каждый раз помечал те случаи, когда воспоминание на одной странице выявляло, отдаленным образом, но все-таки путем какой-то ударяющей аналогии, сходство этой страницы с другой страницей Рескина, то есть постоянно»[393 - S.B. – p. 723.]. Здесь как раз та непрерывность, о которой я говорил, показывает себя рекурренцией или вложением одних состояний в другие состояния, казалось бы, ничего общего не имеющих. И для памяти то же самое. Ведь для того, чтобы я мог найти себя в качестве самого себя (например, проснувшись), нужно, чтобы то, что я нашел, длилось бы независимо от моих представлений. И вот некоторое дление, идущее в этом непрерывном измерении, в непрерывном действии, некая непрерывность, проявляющая себя фактом рекуррентности состояний, есть первое основание, на базе которого можно строить трансмировую линию, которая будет на себе собирать вещи, вынимая их из заключения в мирах, вынимая их из миров-тюрем. В каждом коконе, как в тюрьме, заключены какие-то вещи. И на что-то нужно опереться, чтобы вынуть их из раздробленных миллионов миров, из миллионов зрачков и умов, которые просыпаются каждое утро; и мир в каждый данный момент сразу же, как в тысячах осколков зеркал, отражен и воспроизведен, чтобы длиться дальше в этих мирах. Чаще всего в мирах параллельных, не пересекающихся один с другим. Пруст допускает, что, очевидно, что-то длится и проявляет себя, работает непрерывно, если есть – странным ударом – напоминание на одной странице того, что написано на другой странице, не вытекающей из первой. Так вот, – выделяя, постулируя такую непрерывность, потому что такая непрерывность не есть наблюдаемая непрерывность, это будет нечто, что в философии называют постулатом, то есть необходимым допущением, – допустив это, можно понять что-то другое, а не допустив, – все другое становится непонятным и разваливается, – Пруст говорит: «Тем самым я некоторым образом импровизировал для читателя своего рода ложную память, наполненную ощущениями, произведенными Рескиным»[394 - Ibid.]. То есть текстом Рескина, – это потом читается читателем, но читается в последовательности текста. А рекурренции идут поперек, по вертикали, вдоль и поперек этой последовательности. Они не следуют этой последовательности, так ведь? И вот он собирает их отдельно, и это собрание Пруст называет искусственной памятью, своего рода ящиком резонансов. Вот в каком месте фигурирует словосочетание «ящик резонанса», которое я вам уже приводил. Фактически ящик резонанса – это не просто ящик, в котором так расположены вынутые воспоминания, что можно их расположить в непрерывности какого-то неделимого движения, отличного от фрагментации, дробления в мирах. Речь идет об особой игре или о взаимодействии между этими впечатлениями, которые резонируют между собой в том смысле, что их резонанс есть нечто, что до конца, до полноты выявляет смысл случившегося, смысл, упакованный в каком-то одном впечатлении. Например, – то впечатление, которое упаковалось в пирожном «мадлен», если оно же потом упаковано в пыхтении калорифера, если оно же потом есть в ощущении ногой неровности плит дворца Германтов (ну, я сейчас путаю, там не такая серия – неважно, я могу строить любую серию). Так эта серия есть серия становления – наконец – смысла. Нечто стало, свершилось в бытии по своему истинному смыслу, чтобы ответить на вопрос, что было на самом деле, стало путем резонанса. А резонанс происходит внутри ящика резонанса, или, как Пруст говорит, внутри mйmoire factice, искусственной памяти. Внутри какой-то машины памяти. Не той способности нашей нервной и физиологической организации, которая состоит в способности запечатлеваться следами, хранить их или стирать, и мы хотели бы что-то объяснить запечатлением или стиранием, – памятью называется нечто артикулированно организованное, своего рода текст. Я условно называл его, в связи с другими вещами (но это то же самое), текстом сознания. И могу ввести закон, если я его не вводил: прочитать текст мы можем только текстом…
Так вот, этот ящик резонанса есть зеркало, которое поставлено перед жизненным путем, зеркало, по отражениям в котором этот путь исправляется. Или, что то же самое, из этого пути высвобождаются действительные смыслы, то, что было на самом деле. То, что я на самом деле чувствовал, что на самом деле я думал, – потому что то, что я думаю, не всегда совпадает с тем, что я на самом деле думаю. В какое место, по отношению к какому-то центру мира, я поставлен – факт, что я переживаю то, что переживаю, думаю то, что думаю, волнуюсь тому, чему волнуюсь, реагирую на то, на что реагирую. Или не реагирую на то, на что не реагирую, хотя мог бы или должен был бы реагировать. Не вижу, хотя должен был бы видеть, потому что это же есть моя собственная часть «извечно созданного друг для друга», – а я смотрю на нее и не вижу и т д. Такая метафора зеркала существует даже в применении к литературе, – вы знаете, что Стендаль определял литературу как зеркало, поставленное на большой дороге и в таком случае литература есть запись того, что на дороге зеркало увидело. Или что из того, что было на дороге, зеркало отразило, и нужно записать то, что отразилось в зеркале. Но то зеркало, которым я заменил термин «ящик резонансов», очевидно, устроено как-то совершенно иначе, – чтобы исправить кривую, пошедшую от центральной точки впечатления, как выражается Пруст, и заведшую меня в миллионы, тысячи раздробленных и непроницаемых и параллельных миров… Но прежде чем разобраться с этими свойствами, – то, что я называл синтезом, есть синтез происходящего в такого рода зеркальной конструкции, – прежде чем заняться свойствами этого зеркала и тем самым синтезом, мы кое-что должны предварительно закрепить. Я возвращаюсь к соотношению исторического объема и актуальности. Значит, с одной стороны – исторический объем, о свойствах которого я уже говорил, а с другой стороны – то, что актуально происходит. Обратим внимание на то, что для нашего движения, в котором мы устанавливаем уникальное соотношение, уникальную связь в качестве реальности – что есть на самом деле, уникальную связь в качестве реальности между историческим объемом, с одной стороны, и актуально происходящим – с другой, для этого у нас уже есть то, что я назову временной осью. Возьмем метафору зеркала. Зеркало поставлено по какой-то оси, оно ориентировано какой-то временной осью. В отличие от тех временных точек, которые уже упакованы в мирах, у нас сейчас есть временная ось, на которой мы должны синтезировать различные или многие миры. Фактически мы уже знаем, какими свойствами она обладает. Я выражу ее так: это как бы минимальное время. Или – минимально большое время. Сейчас я поясню – в одном случае Пруст говорит, что если роман достаточно длинный, то проявится то-то и то-то[395 - Pr. – p. 378.]. Например, будет пространство для игры соответствий, – а чтобы была игра соответствий, нужен хотя бы минимально большой роман. Минимально большой текст. Свойство этого времени мы видим и в тех примерах, которые уже приводились. Я говорил: что-то происходило в Мезеглиз, и это же происходит в Париже в пыхтении отопительного устройства и т д. Но чтобы прояснялся смысл, должно быть то время, достаточно большое, чтобы нечто случилось бы и в Мезеглиз, и в Париже. Минимально ограниченное время – чтобы смысл в этом невидимом непрерывном измерении разъяснял бы сам себя, – иначе у времени не было бы пространства для игры соответствий, которые только и устанавливают, что испытано на самом деле, что происходило, – говоря о себе через эти впечатления – одно в Мезеглиз, другое – в Париже, третье – в Венеции. Ну, это, так сказать, постулативное, предварительное требование, называемое нами временной осью для какой-то вселенной, состоящей из трансмировых линий. Трансмировых в том смысле, что на них синтезируются и объединяются кусочки из мировых линий, из миров. На это нужно минимально большое время. И можно сказать так: каждый раз уже достаточно есть времени. (Мимоходом упомяну, что – в качестве физического аксиоматического требования – такое достаточно большое время есть и в теории относительности. Там тоже мировые оси и временная ось устанавливаются с выполнением этого требования. Меньше этого времени не может быть.)
Так вот, эта ось, на которой мы должны располагать расшифрованные части прошлого, не зависит от эмпирически наблюдаемой последовательности. Или от движения вообще в последовательности: если есть достаточно большое время, то безразлично – произошло ли нечто сначала в Мезеглиз, а потом в Париже, или наоборот. Иначе говоря, наблюдаемая фактическая последовательность приводимых в резонанс состояний не имеет значения. Мы от нее не зависим. Мы как бы вынимаем себя из практических случайных реализаций смыслов самим свойством этой временной оси. Если достаточно большое время, – оно нам нужно, чтобы из фрагментарности вынимать впечатления и прийти к точке совершения полного акта. И если у нас это есть, то мы не зависим от фактически случившейся, наблюдавшейся последовательности, и мы строим такой текст для чтения другого текста, – текст искусственной памяти или текст романа для чтения текста впечатлений – такой текст, который не сводится к описанию последовательных, действительно эмпирически происшедших со мной событий. Я могу прыгать от одной временной эмпирической точки к другой и не быть скованным их последовательностью. Я могу взять сначала Париж, а потом Мезеглиз, – и не случайно роман Пруста построен с нарушением всей хронологии. Мы понимаем что-то – не следуя хронологической линии времени, а наоборот, мы считаем, что следование хронологии мешало бы нам понять. И мы должны найти что-то такое, что дало бы нам обоснованную возможность не соблюдать этой хронологии. И вот некоторые построения, называемые в данном случае ящиком резонансов – caisse de rйsonances, дают нам такую возможность, поскольку эта временная ось достаточно большая, чтобы стирались эти различия. И поэтому мы не прикованы к наблюдению: пошел ли он направо сначала, потом прямо, потом налево, или наоборот. То есть то, что нам казалось кадрами на разных полосках или на разных поверхностях, совершенно не сковывает нас своей последовательностью на этих полосках. Мы можем брать, во-первых, вне последовательности на ленте и, более того, мы можем двигаться с одной ленты на другую, не завися от того, что эти ленты – разные. А можем вдоль и поперек идти, – если мы организуем второй текст, который существует или создается для чтения первого текста. То есть текст книги, или – книги как искусственной памяти, организован для чтения текста впечатлений, потому что в данном случае и то и другое есть тексты. Я сказал, что текст мы читаем текстом. И вот чтением текста, имея уже временную ось, мы как бы начинаем заниматься возведением в квадрат того, что было. Или – изменением ранга мышления Я ведь уже сказал, что с нами может случиться что-то содержательное, осмысленное, достойное, только если уже случалось. То есть – мы есть, если мы были. В переводе на наш старый язык: если мы работали. Если мы вкладывались, если мы упаковывались в то, что мы переживали, а не просто тут же удовлетворяли удовольствие. Если у нас была хоть какая-то секунда остановки человеческого запроса, а не просто функционирования крысы, то есть если мы были не травой, а людьми, – там происходила упаковка, и это означает, что была работа. Была мысль! Но эта мысль застряла, упаковалась. И теперь мы снова ее высвобождаем мыслью же. Мы ее (условно возьмем эту, так сказать, математическую метафору) возводим в квадрат. Но для нас существенны здесь две вещи. Во-первых, мы понимаем: чтобы мысль была сейчас, нужно, чтобы она была. В прошлом. И, во-вторых, чтобы она была сейчас, нужно сделанное, прожитое возвести в квадрат. И тем самым мы спасаем прошлое. И для этого возведения в степень я предложу вам интересную метафору. В данном случае – не рассудочную, не аналогию, а высказывающую суть дела.
Значит, мы имеем исторический объем и актуальность, – и чтобы в актуальности случилась любовь, мысль, нужно, чтобы в историческом объеме уже была работа любви, работа мысли. Как устанавливается реальность, то есть мир на самом деле, как он есть? Реальность как соотношение, пропорция, рацио между историческим объемом и актуальностью, – что равнозначно установлению этого объема (как мы уже другой метафорой знаем), равнозначно воссоединению с самим собой. «О, как божественно воссоединение извечно созданного друг для друга!» Да? И вот это jointure с самим собой есть как бы пазовое соединение. Вот чтобы я пазово соединился с самим собой, паз уже в вывернутом виде есть пустота для того паза, который войдет именно в эту пустоту. Так ведь? Давайте зрительно, наглядно представим. У Пруста это поясняется все время циркулирующей – тайно, явно, то уходя в глубину, то на поверхность – метафорой колодца. Колодца страдания. В том, что с нами происходит, есть как бы ритм, состоящий, как минимум, из двух тактов. Я не говорю, что вообще из двух тактов он состоит. Очевидно, ритм не состоит из двух тактов, он состоит из большего числа тактов, и вообще вся наша вселенная, описываемая и воспроизводимая Прустом, есть ритмизированная вселенная. Или, по меньшей мере, состоящая из двух темпов или из двух тактов, из двух движений. Первый такт или первое движение – это импликация и компликация самого себя в чем-то. В месте или в пейзаже Мезеглиз. Второй такт – это воссоединение с тем, что было упаковано первым тактом, воссоединение с ним через еще одно случание этого переживания или восприятия, или мысли – случание его в другом коконе. И этот второй такт есть такт как бы туннельного ныряния по колодцу страдания. Туннель воссоединения с самим собой. А воссоединение с самим собой не происходит путем следования фактически случившейся последовательности (то есть что за чем происходило). В реальной жизни происходило так: сначала что-то было в Мезеглиз, а потом было там. Но – без опоры на эту фактическую последовательность и вообще саму случайность событий – в Париже этот калорифер мог и не запыхтеть, и не было бы этого второго такта. Нет, от случайности не зависит. Чтобы пояснить это, я построю теперь так: есть некоторая свертка меня самого первым тактом в каких-то телах. В телах чувствительности, – а телами чувствительности являются географические места, лица, события и т д. Моменты времени. И – свертка в теле. И мы сталкиваемся с этими телами, то есть с частями самих же себя, заключенными в предметы, которые извне приходят к нам. Извне я встретился с калорифером в Париже. Там я – в свернувшемся виде. То есть – мое переживание, мое впечатление, какой-то смысл, какое-то понимание, испытанное что-то. И вот в присутствии этого пыхтения калорифера я должен прийти в движение. И это движение есть развертка смысла. Значит, есть свертка, а есть второй такт: развертка. Путем развертки мы выходим на поверхность, на божий свет, из темноты выходим на божий свет смысла. Узнаем! Было то-то, смысл был такой-то. Например, в свертке танцевали, соприкасаясь грудью, а в развертке – вся моя драма лесбийских склонностей моей возлюбленной. Уже знаю. И формула здесь такая – теперь образы подземного: под землей труд, мы ведь упаковали трудом, и – подымания, – «почти что можно сказать, что произведения, как в артезианских колодцах, подымаются ровно настолько высоко, насколько глубоко наше сердце было прорыто страданием»[396 - T.R. – p. 908.]. Или, словами Гераклита, я сказал бы так: путь вниз равен пути вверх[397 - «Путь вверх-вниз один и тот же»(Фрагменты ранних греческих философов. С. 204).]. Итак, мы имеем путь, состоящий из двух отрезков; и вот ровно настолько, насколько мы ушли вниз, работали (страдание в данном случае называется работой, или работа называется страданием), ровно настолько мы можем подняться к смыслу наверху. Один отрезок равен другому. Ну, конечно, под страданием имеется в виду (у Пруста хронически встречается этот термин) тайный образ артезианского колодца. Он в разных случаях будет говорить о книгах: «…книга тем более содержательна, чем из большей глубины тени, владевшей пишущим, она выросла»[398 - T.R. – p. 898, 911, 880.]. Помните, я формулировал закон для нашей душевной жизни: чтобы понять, а понять можешь только сам, нужно очень утемниться по отношению к тому, что тебе следует понять. Если не утемнишься и, следовательно, не накопишь свой собственный труд в тени, или в корнях, которые, как я говорил вам, по определению уходят в землю и не видны, то не будет того растения, которое мы видим на поверхности.
Значит, в этой связи Пруст говорит: артезианский колодец. Под «страданием» не имеется в виду мучение несчастного. А я сказал бы так: в классическом мире или в мире Пруста действует аксиома (шокирующая, но нужно понять ее умозрительный смысл, а не прямой), гласящая, что несчастные не страдают. Несчастные не страдают. Это можно легко расшифровать, если вы воспользуетесь всеми теми терминами и примерами, которые употреблял Пруст. Скажем, страдание, в котором я – это же переживание – несчастен, потому что моя любимая мне изменяет, и жду, с волнением и страданием, с ней встречи, на которой я скажу решающие слова и т д. Это – страдание несчастного?! Я, конечно, несчастен, но несчастные не страдают, потому что здесь вся структура переживания есть структура, возникающая динамикой и силой избегания страдания. Структура страха и надежды. Неспособности (отсутствие мужества) поглядеть в лицо тому, что есть на самом деле. Да, в том числе и тому, что смерть – уникальная вещь, и ты умираешь в действительности каждую минуту, если живешь. И из этого нужно что-то извлекать для понимания мира, а не превращать смерть в какой-то идол, посредством которого ты по голове других ударяешь. Какая-то деревяшка, и ты ею мстишь другим: вот там, я ей скажу. Насколько часто то, что выглядит как мучение несчастного, то, что мы склонны называть страданием, насколько часто это бывает набито самодовольством, самоугождением. Мы буквально растекаемся в себялюбии, мы как штопор входим в процесс самолюбования и глупости. И вот в этом смысле, то есть в строгом смысле слова (когда мы говорим о законах нашей душевной жизни, мы говорим на языке философии и термины применяем в строгом смысле слова), – несчастные не страдают. Так вот, страдание есть опыт собственного зла и пафоса. Опыт зла мира, в котором не находят себе места неориентированные, незаконные эмоции, а пафосы находят место, потому что пафосы законны. Сейчас я поясню, что такое неориентированные эмоции. Под страданием имеются в виду страсти, заключенные в пафосах: собственный грех, пробуждающееся воображение, которое видит – единственно существенное и важное для себя – то, чего в мире как раз нет, или то, чего мир не признает. Эмпирически не принимает. Имеется в виду – под страданием – опыт, который греки называли опытом амехании. А амехания есть невозможность действия тогда, когда находишься в апории, то есть в непроходимом месте. Герои греческих трагедий всегда находятся в апориях, в непроходимых местах. Скажем, в одной из них есть неразрешимое столкновение между родовой памятью и привязанность к родовой памяти и гражданскими установлениями своего собственного города или полиса. Ценны и то и другое. В свое время Бердяев прекрасно сказал, что в действительности трагедией является неразрешимое столкновение двух вещей одинаково ценных и – исключающих друг друга. Мы очень часто это испытываем, я, во всяком случае, испытывал то, что называю невозможной любовью. Той любовью, скажем, какой я люблю Грузию. В ней содержится апория. Никто никогда (и я уж, во всяком случае) не сможет ее разрешить. Потому что есть вещи ценные, из-за которых я не должен любить Грузию, и есть вещи столь же ценные, из-за которых я ее люблю. Это есть невозможная любовь. В философии такие вещи называются метафизической невозможностью. Такая же метафизическая невозможность – между человеческой свободой и состраданием, и любовью к другим людям. Из-за свободы я должен нести горе людям, а горе нести нельзя по причинам не менее ценным, чем те, по которым я ищу свободу. Это – невозможность. В греческой традиции она инсценирована, и это называется страданием. Трагическое страдание. Но именно внутри такого страдания и рождается понимание и ясность. Понимание удела человеческого, наших возможностей, что мы есть на самом деле, и что есть мир, и что может мир, и что можем мы, – эти вещи выступают только в свете, который рождается в очагах такого рода страдания. Труд жизни есть страдание. Труд, уложенный в объемы истории или в исторические объемы. Наконец, я даже сознание фактически, незаметным для вас образом, определил как страдание. Ведь сознание есть изменение склонения, а действительное страдание есть то, чего стоит нам изменение склонения. Не боль, скажем, даже физическая, а то, чего стоит нам выдерживать ее, то есть изменять склонение, вызываемое болью.
Теперь сделаем еще один шаг в этом страдании. В том плане, в каком я говорил, можно говорить бесконечно, находя все новые и новые нити, и все они интересны. Говоря об этом страдании, я хочу обратить внимание на то, что все перечисленные вещи, которые я вводил в рубрику страдания, характеризуются, кроме всего прочего, одной чертой: они все есть такие состояния, которые не записаны (предварительно) в строении мира. То есть состояния, в которых мы переживаем, несем на себе и из-за них штопором входим в страдание, – бытийные состояния, которые не получили существования. В которых мы чувствуем, что в нас есть что-то избыточное и большое, или не умещающееся в том, что есть. Например, есть какое-то правило морали, принятое, – и не в том смысле, что я его оспариваю, – а во мне есть что-то, что им не покрывается и не разрешается. То есть во мне есть всегда запас эмоций и мыслей неориентированных, не имеющих направления. Ведь, как правило, мысль, если она имеет ориентацию, – одна из ступенек разрешения какой-то задачи, связки и правила которой заданы, уже существуют в мире. В мире такие задачи решались, и если моя мысль есть элемент такого рода задачки, то она имеет направление и тем самым – оправдание. Она законподобна. Скажем, от родителей моих я знаю какие-то правила жизни, правила общения с другими людьми, и в этих правилах есть мудрость и т д., но всегда есть моменты (в юности решающие), которые этими правилами неразрешимы, – не в том смысле, что я отрицаю их (это может быть потом итогом, печальным итогом, если я останусь идиотом), – мы через страдание чаще всего придем к тому, что как раз эти правила и примем. Но примем уже как продукт зрелый, невербальный продукт собственного труда. А пока для нас это просто схема, и мы полны какими-то неориентированными чувствами, эмоциями. Или, я выражусь так, – элементами анархии. Дело в том, что то, что я называл историческим объемом или историей, прошлым, сделанным, прожитым, есть прожитое, которое продуктивно настолько, насколько оно необходимо содержит в себе нами проходимый и проживаемый анархический элемент. Элемент хаоса и отсутствия готовых ответов на те вещи, которые в моем сознании возникают, которые я вижу и для которых нет никакого ответа, – кроме того ответа, к которому я могу прийти сам. Приведу простой пример. Поскольку Пруст – писатель элегантный, у него не было шокирующих описаний всяких анархических взрывов, всяких подпольных и незаконных, моралью не узаконенных чувств, расшатывающих существующие нравы и обычаи и пр. У Пруста это все – мягко, как-то по-французски (французы не любят качания мускулов, криков). Глубина фразы прозрачна, скромна, не экзальтирована, как у немцев. (Ну, под фразой я имею в виду не только литературную фразу. Наша душа тоже фраза, то есть текст. Так вот, прозрачные и скромные, внешне скромные фразы. Ну, скажем, я могу предпочесть некоторые кусочки, лапидарные, Дебюсси большим симфониям Вагнера. Могу предпочесть по той причине, о которой я сейчас говорю.) И вот у Пруста эта скромная нота вдруг проскакивает в каких-то вещах. Например, такой эпизод в романе: Марсель отдает мебель, унаследованную от любимой тети Леони, в дом свиданий[399 - J.F. – p. 578.]. (Кстати, этот эпизод в романе соответствует и реальному эпизоду прустовской биографии: уже во время войны некий Ле Кузье организовал дом свиданий для гомосексуалистов, и Пруст частично финансировал организацию этого дома свиданий.) И вот мебель, которая принадлежала семье, священные предметы отданы в бордель. Это – святотатство. Это не просто скрытое, тайное, лицемерное нарушение морали, это акт святотатства. Точно такой акт святотатства, когда мадемуазель Вентейль вместе со своей подругой не находит ничего лучшего, чем заставить фотографию своего отца быть свидетелем, во-первых, их любовных утех, что тоже является профанацией, и более того, как доказательство того, что они могут переходить эту черту, они, друг друга подначивая, – слабо тебе будет плюнуть в портрет любимого отца, – оплевывают эту фотографию[400 - Sw. – p. 163.]. Я условно назову это анархическим темпом. Значит, у ритма нашего становления, я же о ритмах говорил, есть какой-то анархический такт (в смысле – музыкальный). Вот этот анархический такт вводится Антоненом Арто прямо на сцену очень интересной метафорой чумы. У него даже название его книги о театре звучит так: Le thйвtre et son double – Театр и его двойник. А двойником театра является то метафизика, то чума. То есть анархическое, хаотическое выплескивание на поверхность игры самых примитивных элементов природных стихий, которые не знают ни нашей морали, ни нашего благополучия, и в игре с которыми только и становимся мы людьми, способными решать человеческие задачи и иметь честь, достоинство, мужество. Арто как бы предупреждал европейцев: если вы не проиграете в алхимическом театре все те вещи, которые таятся в темноте, в том числе и в вас самих, то, отказавшись – анархически, чумой – истреблять благие мысли и благие пожелания, благие нормы на сцене, вы будете реально, физически убивать миллионы людей. Вы не хотите алхимического театра, тогда вы получите реальные войны, реальное насилие. Короче говоря, то, что я называл трудом жизни, страданием, это не есть просто пассивное переживание чего-то. Это именно – труд жизни, работа, содержащая в том числе и риск самого себя в духовной анархии. Это какой-то промежуточный такт введения в хаос, внутри которого (этого такта) только труд может найти исходный или первоначальный, первичный человеческий образ – а он есть Божий образ в нашей душе, чтобы потом из этого образа рождались порядки, потому что порядки – только из порядков. И театр жестокости Арто есть в действительности ритуализация исполнения и нахождение правил, таких, чтобы сама душа потом не распалась, – можно впасть в анархию, а потом из нее и не выйти. Нахождение каких-то правил, – чтобы извлечь максимально продуктивную пользу для человеческой души. И Пруст, и Арто считали, что без анархического интермеццо не существует истины, не существует красоты, – не существует упорядоченных явлений (живущих по своим законам), которые мы называем истиной, красотой, благородством человеческим и т д. У Пруста это менее заметно, но если всмотреться, если вы прочитаете описание ночного Парижа военных лет, если вы проследите всю историю Шарлю (как я говорил вам: эпическая фигура, которая, конечно, не вмещается в простые определения или различения добра и зла), то вы увидите, с какой настойчивостью Пруст все время шел к этому такту (к этому элементу устройства машины труда, который есть элемент воображения) в эксперименте над самим собой проигрывания сил хаоса, дремлющих и в самом человеке, и вокруг него.
Я поверну вопрос иначе. Посмотрите на самих себя, совершите акт рефлексии, подумайте… вот в юности что-то западает в душу… Мы начинаем думать, волноваться, переживать. И вы обратите внимание на то, что уже существует и законно. Скажем, очень часто именно на неофициальных мыслях и состояниях нас «зацикливает». Не потому, что мы порочны, а потому, что мир – по тем законам, которые я вам уже формулировал и которые есть законы Пруста, но не только его, конечно, но и всех философов, – непрерывно, заново творит, творится в том месте, где есть метафизическое зло. Вот в некой пустоте – и через горнило этого мы должны проходить в той мере, в какой мы есть люди, имеющие человеческое достоинство. Для меня, например, юноша, который с самого начала живет в рамках официальной морали – комсомольской, или христианской, или любой другой (в той мере, в какой она официальна) и не проходит через раскручивание тех состояний, которые с самого начала не умещались ни во что это, никогда не будет человеком (то, что мы интуитивно называем человеком, живым человеком, хотя живые, казалось бы, все), в том числе и ничего не поймет. Не поймет того, что относится к бытию. Потому что по определению бытие ведь есть что-то, что никогда не умещается в существовании.
Я приведу вам простой пример. Не из наших, так сказать, непосредственных эмоций, а уже из книжной сферы, но взятой со стороны обыденной и простой. Ведь мы читаем книги и читаем их несколько раз. Одна книга читается много раз миллионами людей, у каждого из них своя интерпретация. Интерпретация книги есть способ жизни этой книги в головах этих людей. У всех великих книг есть какой-то звук, какой-то Klang, как говорят немцы, тон, звук, не совпадающий с текстуальным содержанием книги, не исчерпываемый им, и являющийся как раз причиной того, почему заново и заново эта книга читается и имеет бесконечные интерпретации, которые тоже не есть продукт произвола, а есть способ жизни самой этой книги. Каждый раз это – она. Так что это такое? Это есть то нечто, что звучит в самой же книге и не уместилось в ней. То есть то, что было у писателя его бытием, и оно по определению, если оно есть бытие, в том числе будет и нашим бытием, потому что бытие имеет бесконечную длительность, проявляющую себя рекурренцией. Ссылаясь на которую, Пруст создает свою искусственную память, называемую ящиком резонансов. Непрерывное и неделимое движение. Всякое неделимое движение каждый раз не есть то, что оно есть. Оно всегда – не уместилось. В зазоре фразы великой книги оно существует, не уместившись в книге, поэтому оно длится как бытие. Длится в читателях этой книги, растет и множится там – есть особые законы живого. И не знаю, как вам в этом можно было бы помочь… есть любовь эгоистическая, а есть любовь действительная. Любовь действительная – хочется делиться предметом любви с другими. То есть хочется, чтобы другие любили то, что любишь. Вот и я сознаю, что некоторые вещи запечатаны, от вас скрыты печатью, скажем, языка. Например, вы можете не знать французского языка. Я хотел бы, чтобы вы прочитали тексты Арто и добавили к пониманию того, что на самом деле происходило в Прусте и происходит в тексте романа, который есть текст, посредством которого читается текст души. А у душ наших есть текст. И эта нота есть нота трансценденции – выхождения за рамки, или есть нота бытия трансцендирующего усилия. Мы все время, если формируем себя, то формируем как результат какого-то непрерывного усилия, направленного за видимое существование, направленного на преодоление любых конкретных – ставших и законных – предметов. Без этого трансцендирующего усилия нет человеческого существа. И это усилие выполнено у Пруста, но выполнено со сдержанной французской нотой. И более резко сделано у Арто. Тот просто сошел с ума от этого. И у него есть фантастической красоты текст. (Он не входит в книгу «Театр и его двойник». Чума интересовала Арто как нечто несоизмеримое с нашими человеческими мерками. И он понимал, что рост и расширение наших человеческих мерок, то есть развитие самого человека, происходит только в соотношении с чем-то, что в принципе несоизмеримо человеку, что не считается с человеком. Как, например, чума. Вот чем она его интересовала.) Текст, написанный Арто в Родез[401 - См.: Artaud. Les Tarahumaras. Gallimard, 1971 (lettre a Henri Parizot).], – местечко, где был расположен сумасшедший дом, в котором он находился как раз в те времена, когда те, о которых Арто предупреждал, пришли в его любимый Париж. Он проигрываемой анархической чумой предупреждал против реальной чумы… ну, а люди обычно не слушают, и было так, как было. Пришли убийцы. В это время Арто уже был в сумасшедшем доме. И в этом тексте идут какие-то странные обрывки фраз, в которых все время мелькает внутренняя нить сравнения себя с Христом… явно текст сумасшедшего. Экзальтация, отождествление себя с образом Христа, но тем не менее у самого текста есть какая-то фантастическая магнетирующая красота, и хотя он местами искомкан, разорван, есть какая-то красота, как говорят французы, fulgurante, ослепляющая: ты видишь красоту текста и красоту состояния. Я привел этот пример – просто мне хотелось о нем рассказать, но и с задней мыслью, нужной мне для изложения. А именно – не случайно сумасшествие Арто выражалось отождествлением себя с Христом. Христос есть воплощение Бога. То есть это – и человек и не-человек. Бог во плоти. Вторая ипостась.
Дело в том, что проблема Арто, и театральная, и жизненная, была следующая. Частично я ее описывал как проблему, состоящую в том, что мир заново, непрерывным образом творится в каждой точке. Об этом я говорил в связи с аристократией. Аристократы – это несуществующие люди; они по наследству получают доблесть и достоинство, а поскольку все заново и целиком каждый раз разыгрывается, то, конечно, могут быть недостойные аристократы, потому что каждый раз участвовать в том, что заново и целиком разыгрывается, очень трудно, Значит, и у Пруста – мир, в котором каждый раз заново и целиком все разыгрывается в каком-то невидимом измерении. В видимом измерении мы видим, что аристократы друг другу по наследству передают что-то. На самом деле никакой передачи нет – доблесть не передается по наследству, она заново возникает. Хотя мы видим, что она передалась, – возникла заново. Другими словами, я называл это точкой, где существует такая проблема: возник предмет, но на каких основаниях он длится… Дление предмета (я вам излагал кусочки декартовой философии) есть не меньшая тайна, чем творение предмета. Как говорил Декарт: чтобы в следующий момент был предмет, нужна сила, не меньшая, чем на то, чтобы создать его в первый раз, в первый момент (воспроизводство предмета тоже тайна). Условно назовем это декартовой точкой. Второй момент есть всегда момент телесно подкрепленного воспроизводства первого момента. Первый условно назовем идеей, понятием. Но чтобы вещь, понятие которой есть, была, нужно, чтобы она коагулировала. И только так она может длиться. Поэтому, кстати, существует символ воплощения Божьего, то есть телесного бытия чего-то, что не является телесным. Но – телесного бытия. И вот это мучило Арто. У него была проблема: как вообще помыслить мысль. (Я чувствую, что я не способен мыслить, потому что, чтобы была мысль, нужно, чтобы случилась коагуляция, чтобы мысль «сгустилась».) Ведь мыслью мысль получить нельзя. Здесь опять возникает проблема творения. И вдруг Арто говорит: эта драма (та, которую нужно изображать) есть «драма второго момента»[402 - См.: Artaud. Le theatre et son double, p. 75.]. То есть драма как бы полумысли. (Замысел. Понятие). Но решающим, драматическим является второй такт, второй момент. Она же (драма), но реально длящаяся. Восточные мистики говорили, что у атрибута (скажем, мысль приписывают атрибуции, субстанции какой-то) нет второго момента. Мы должны верить в новое творение – мир должен твориться каждый раз заново. И твориться в теле или посредством тела. А вот то, как мысль получает плоть, это уже есть случайность. Этого из содержания мысли нельзя вывести. Нельзя – на содержании мысли или на желании, чтобы была мысль впереди меня, – получить ее таким образом. И вот эта драма второго шага и должна была Арто разыгрываться. А в действительности, если отвлечься от слов Арто, вся наша умственная жизнь, в той мере, в какой мы что-то можем понять, что-то длить, иметь полноту чувств, полноту мыслей, есть разыгранная драма второго момента или интервала между двумя моментами. Во втором моменте мы всегда – уже в пространстве понимания и смысла, всегда – в пространстве тел, примеры чувствительности которых я вам приводил. Вторым шагом мы всегда – уже в этом измерении, а не просто в измерении внешних объективированных вещей, которые мы видим отвлеченным глазом или при помощи голого рассудочного действия. Кстати, даже в религиозном опыте люди это понимали. Ведь не было такой религии, в которой допускалось бы, чтобы творение совершалось голым рассудочным актом, чтобы из голого рассудочного акта рождалась вещь. Даже в Завете сказано, что в начале было Слово, и слово было у Бога. А слово – это телесный текст. Он компонуется, и он является началом. А начало вы знаете, что значит. Не начало чего-то, а начало в чем-то происходящем. Начало – это элемент, стихия. Например, можно сказать: выполнить что-то в элементе мысли. В данном случае мысль есть стихия этого «нечто». И вот в этом смысле Слово было началом. «Начало» было для греков синонимом слова «элемент» или «стихия». Вода была элементом, огонь. Элементы, или особая материя – не реальный эмпирический огонь имелся в виду, а особая материя в самих предметах этой материи. Есть существа, которые в этом элементе живут. И вот предметы рождаются в элементе. И таким элементом было – о слове речь шла – слово ведь то же самое, что и дело. Нужно начать, нужно работать. И там происходят некоторые сцепления, получающие природу текста, в котором может что-то рождаться.
ЛЕКЦИЯ 19
24.11.1984
Я говорил об анархии как необходимом моменте нашего мышления и художественного воображения; эта тема и дальше будет мелькать и какими-то нитями я буду к ней возвращаться. А сейчас напомню вам об особом статусе произведения искусства у Пруста. Из того, что мы рассмотрели, мы поняли, что Пруст придает какую-то сверхчувственную реальность произведению искусства. И это придание произведению искусства сверхчувственной реальности стоит у него в контексте основной его проблемы, а именно – проблемы расширения души. Вот есть наша человеческая душа, которая, родившись, все больше сжимается, поскольку предметы, нормы, законы занимают все больше и больше места, а душа-то наша какая-то маленькая… И реализовать себя в простейших вещах, даже в том, чтобы понить, что я чувствую, что я в действительности испытываю, что люблю, – даже в этом простом смысле реализации человеком себя предполагается нечто, называемое распространением души, которое представляет собой такт или момент, или шаг развертки того, что было свернуто до этого шага. Свернуто в разных предметах, являющихся коконами или одеяниями нашей души. Места, события, имена – все это вбирает в себя, содержит в себе нашу душу, во всем этом мы свернуты, – но есть такт или шаг развертки. Между двумя шагами есть некоторый шаг, который можно назвать пустым шагом, пустым тактом, который и содержит то, что я называл анархическим элементом. Содержит в себе то, что на другом языке философы называли сомнением, абсолютным сомнением, отстранением, или абсолютным отстранением. (По-грузински это было бы гандгома.) И вы этот элемент ясно видели в том, что я описывал как неориентированные чувства. То есть – когда мы что-то делаем без цели, испытываем какие-то чувства, не имеющие явного ориентира. Например, когда мы решаем какую-то задачу, мы идем в каком-то определенном направлении: как бы решение этой задачи уже задано в мире, но мы просто не знаем этого решения; а одновременно с этим происходят очень важные движения, ненаправленные: мы движемся, не зная истинного направления. Эти абстрактные слова станут понятны, если я скажу такую парадоксальную вещь. Рождаясь в мире, мы всегда рождаемся в мире законов и правил. И дело в том, что, когда у нас пробудилось хоть какое-то сознание, это сознание всегда есть нечто такое, что не содержится в законе и не укладывается в этот закон. Назовем то, что я называю законом, официальной структурой жизни. Официальным строением жизни, – которое закреплено обычаями, правом, государственным устройством жизни, общественными, нравственными нормами и т д. Обратите внимание на следующий парадокс: в своем сознании мы наблюдаем или чувствуем какую-то несправедливость, насилие, горе, обиду, а по закону этого ничего не существует. Закон всегда прав. В прошлый раз я говорил вам, что, поскольку пафосы неделимы и всегда исходят из какой-то истинной точки (она, может быть, не видна, но она существует), их нельзя расколоть. И в силу такого устройства пафосов все зло, которое случалось в мире, случалось по мотивам добра. Так же, как садист ощущает себя справедливым в отношении того, кого он мучает, потому что в том, кого он мучает, он преследует источник зла (или того, что ему кажется злом). Поэтому стоит встать на точку зрения закона, как мы совершенно справедливо должны принять любое действие, законно приводящее к человеческим несчастьям, потому что закон всегда устанавливает истину. И тем не менее наше сознание на этом не может остановиться, и то, что я теперь называю сознанием (в прошлый раз я называл «бытием»), никогда не умещается в существующем. То есть мы сознаем что-то, чему нет еще места (а может быть, и в принципе нет, вообще нет) в законах или в том, как устроен мир. И если следовать тому, как устроен мир, то все правильно и справедливо, даже то, что мы видим как дисгармоническое, уродливое и ужасное, и нашему сознанию уродливого, дисгармонического, ужасного нет места в мире. А вся проблема человеческой жизни и реализации человеком себя, та проблема, которая лежит в основе философии, состоит в акте, которым мы можем найти себе место в мире с тем сознанием, какое имеем. В том числе с несомненным для нас сознанием несправедливости, хотя закон всегда справедлив, с несомненным для нас сознанием зла, хотя, если подумать, всякое зло имеет своим источником по-своему понятое добро и т д. И вся проблема понимания мира фактически состоит в совершении акта умещения себя в мир. Не просто в качестве его претерпевающего, пассивного, страдающего субъекта, а в качестве носителя своего сознания, которое мне как бы некуда деть. Я должен именно с этим сознанием уместиться в мире. С сознанием, которым я обостренно чувствую дисгармонию, обостренно чувствую несправедливость и т д. То есть всегда существует сознательная точка, через которую человек должен проходить, чтобы прийти к какому-то порядку, извлечь какой-то порядок из мира, и эта точка разрушительна, анархична, незаконна по отношению к существующему миру. Вот ее я называл анархическим моментом.
Более того, без этой точки анархического момента нельзя себе представить и просто даже не существует никакого потом возникновения порядка, – в том числе организованная мысль не может возникнуть без предварительного анархического разрушения строя мысли. Потому что предшествующий строй мысли всегда, как само собой разумеющееся, содержит в себе как раз то, против чего протестует наше непосредственное сознание. Поэтому Антонен Арто считал необходимым для расширения человеческой души совершение им на сцене эксперимента анархического разрушения мира. Не реального разрушения мира, а театрального разрушения. И тем более эффективного, чем менее это разрушение реально. Чем более оно театрально и понимает, что оно не мир разрушает, а приводит в движение элементы души на сцене, чтобы в них какой-то искрой родилось новое понимание, – а понимание, по определению, есть всегда упорядоченное явление. Пока я имею острое сознание, скажем, горя, несправедливости, я еще не имею понимания, я имею лишь, скажем условно, пляску электронов в своей душе. А понимание может только быть упорядоченным. И, оказывается, для этих анархических движений души, разыгранных, должны быть какие-то инструменты, – скажем, организация сценического пространства может быть таким элементом, вернее, инструментом, организация литературного текста может быть таким инструментом. Вот эту совокупность эмоций, движений души, переживаний, движения мысли я называл неориентированными эмоциями, – в которых нет заранее заданной задачи. Потому что, повторяю, то, что решает заранее заданную задачу, по определению уже находится в том мире, против которого мое сознание и протестовало перед этим. Организованный, предданный мне мир направлен, а то, что я уникально своим глазом вижу и должен вместить в себя вместе с этим видением в мир, пока никак не ориентировано (я должен идти куда-то, не имея правильного направления). Поэтому я вводил тему кристаллизаций и говорил, что то, что называется порядком, будет лишь выпадением в кристалл некоторого свободного движения, которое не имеет заранее заданной меры и направления. Что соответствует бесконечности человеческого существа; потому что человек есть такое существо, для которого нет никакой предданной меры. Меры человеческие устанавливаются в человеческом движении и т д. до бесконечности.
И, собственно говоря, поэтому у Пруста – с этой стороны прежде всего – возникла мысль о сверхчувственной реальности произведения искусства. Теперь добавим еще оттенок, и сразу все предшествующее станет на место и объяснит нам сверхчувственность реальности произведения искусства. Когда Пруст рассуждает о том, что искусство выше жизни, а он неоднократно это говорит, то он имеет в виду, что то, что есть в искусстве, выше жизни в том смысле, что это выше чего-то, что мы видим умом, произвольной памятью, чувствами и чем мы обмениваемся в беседах при нормированном приличном общении[403 - См.: S.B. – p. 224; Centenaire de Marcel Proust, p. 60 (lettre а Robert Dreyfus).]. То есть выше всего того, что уже нашло место в существующем мире. Ведь когда я сказал: видим умом, то имеется в виду, – скажем, у меня есть идея написать роман, я ищу сюжет. Помните, я вам рассказывал, что душа Пруста была полна сюжетов, но он, имея в голове определенный образ писателя-мыслителя, имея в голове определенное, чисто рассудочное, представление о том, что такое идея, что такое высокие идеалы, хотел писать о том, что не имело никакого отношения к реальности его переживаний. И там он, слава богу, не нашел сюжета. Или – произвольной памятью мы видим что-то. И то, что мы видим произвольной памятью, – например, моим усилием, как кинокадры, проходят сцены деревни Шиндиси – это пустое перебирание четок, якобы богатств, содержащихся в моей душе. Там все мертво и пусто, и не имеет смысла распалять себя, вспоминая, вот я бывал в Шиндиси, так же, как я сказал бы себе, что я бывал в Неаполе, если непроизвольно (я пока «непроизвольно» беру как слово, еще не разъясненное) во мне не возник сам Неаполь или само село Шиндиси. Вот эти чувства – как бы уже обобществленные, социальные чувства – ими можно обменяться с другими людьми. В разговоре я могу вам сказать, что в деревне Шиндиси есть мельница, а воссоздать, что в действительности я чувствовал, что в действительности было, и какое место эта мельница занимает в моей жизни, я могу только в одиночестве, то есть оставив вас как собеседников, заняв все точки моего места, моего мозга самим собой, – потому что, когда я беседую с вами, точки моего мозга не заняты мной, они заняты вашим присутствием. И только тогда, когда я займу все самим собой и начну строить текст, я и сам узнаю, каков был смысл моих переживаний там. Значит, это все происходит вне беседы. Теперь понятно, что если жизнь есть то, о чем мы беседуем, если жизнь есть то, что мы видим нашим умом, если жизнь есть то, что мы помним нашей произвольной памятью, то, конечно, это – нечто весьма скучное, посредственное, неинтересное, и в этом смысле произведение искусства или искусство выше жизни. И выше жизни потому, что оно реализует своими средствами какую-то реальность, которая средствами ума, произвольной памяти, приличных чувств, которыми обмениваются во время беседы, не реализуется. И второй момент: я говорил вам о том, что, в силу вплетенности человеческих существ – чувствующих, помнящих, сознающих – в некоторые экспериментальные взаимодействия с миром, в этих существах раскрываются какие-то глубины, в которые упаковываются впечатления, сращенные с предметами или с коконами, и между этими существами возникает параллельность миров. То есть они замыкаются в своих мирах, параллельных мирам, в которых замкнуты другие существа. И внешние предметы, которые, казалось бы, одни и те же для всех глаз, на самом деле одинаковы лишь выступающей на поверхность частью, а подземной своей частью, действительной своей частью, они ушли по разным параллелям в разные миры и мчатся там вдоль друг друга, не пересекаясь. Как мчится образ Рахиль в душе Марселя – не пересекаясь с образом Рахиль, параллельно развертывающимся в душе Сен-Лу.
И вот к идее особой реальности произведения – сверхчувственной – в том смысле слова, что эта реальность не есть та, которая видна умом и произвольной памятью, к этой идее Пруста толкает такой обобщающий, что ли, взгляд на все то, что я сказал перед этим, – раздробление мира в миллионах миров, в тысячах зрачков с параллельными лучами, непересекающимися. Здесь говорить об особой реальности произведения или об особой реальности, которая реализуется именно произведением искусства, означает считать, что вся пространственно-временная разделенность, фрагментация рассеяния движений, в том числе фрагментация и рассеяние тех движений души, которые не ориентированы… ведь мы в какой-то момент времени нашей жизни имеем груз острого сознания, который не можем уместить в мире; потом этот груз сознания «куда-то» умещается: он находит себе какие-то объяснения или слепливается с какими-то предметами, и мы его забываем. Что-то непонятное ушло в неровные плиты площади перед собором Сен-Марка, – то есть то движение, которому не нашлось места в мире, – я ведь не сразу им овладеваю, оно – пока я им не овладел, оно, такое именно, скрылось, укрылось в коконе. Так же, как души самоубийц укрываются в деревьях. И потом кора этих деревьев и ветви кровоточат, ветки протянуты к нам с мольбою – расколдуй меня, расколдуй! (Философы обычно – этап или момент, или такт анархии и абсолютного сомнения выполняют хронически в своей жизни, в этом состоит их профессия. Обычные люди, переживая этап сомнения или анархии, тем не менее потом устраиваются в мире так, что эти неориентированные движения анархических чувств рассеиваются и фрагментируются и застревают в каких-то шлюзах, в каких-то предметах.) Так вот, – прошу простить меня за такую длинную промежуточную фразу, – идея реальности, особой реальности, той, которая реализуется произведением искусства или, скажем упрощенно, – мыслью, означает утверждение, что пространственно-временная разделенность – миры параллельны, фрагментация и рассеяние движений, это все есть в мире как моем представлении. В мире – как моем представлении. И я здесь выявляю нерв, скрытый у Пруста, устойчивой и четкой философской традиции, очень древней, но в более близком к нам времени мы можем отнести ее к Канту, философию которого можно резюмировать так: мой мир есть представление. Но это очень сложный пункт, я сейчас впрямую не буду его разъяснять, а пока лишь поясню одним простым примером. На прошлых занятиях мы анализировали проблему впечатления и говорили о том, что само содержание восприятия или само содержание переживаемого неотделимо (в нем же самом) от нашего представления причины этого переживания. Вдумайтесь сами в себя… Все основные наши переживания и впечатления по своему психическому составу переживаются в единстве с представлением того, какая причина вызвала это переживание. Здесь есть какая-то категория – категория «причинности». Есть представление об объективном мире – раз я говорю причина, она вызвала мое переживание, – скажем, Альбертина красива, и я ее люблю, – мое переживание нежности по отношению к Альбертине неотъемлемо содержит в себе сознание причины самого этого переживания. Переживается вместе со своим собственным объяснением: люблю ее, потому что она красива. Вот это есть мир как представление. В отличие – от чего? От реальности. В реальности-то мы видели, что люблю я Альбертину не потому, что она красива, а слово «потому» содержится в самой любви, в самом представлении об Альбертине. Вот что я подчеркиваю. Она в мире положена мне так, что причина моей любви к ней, понимаемая мною, есть одновременно содержание моего впечатления, моего переживания. Не просто отдельно есть причина и есть переживание, а содержанием переживания всегда является понимание причины, вызвавшей это переживание. И разделить, расщепить их в простом сознании невозможно. А в реальности мы знаем, что не красота Альбертины или какие-то другие физические качества ее действовали как причина, а происходил процесс кристаллизации, – просто Альбертина оказалась как раз там, где мы были в особом состоянии потребности в любви, и она оказалась именно тем человеком, который «прокрутил с нами динамо» (простите меня за вульгаризм), – и все, спекся, влюбился! Влюбился не в того, кто красив, а в того, кто в определенный момент «прокрутил со мной динамо», и тем самым кристаллизовалась вся моя потребность в любви – на этом предмете.
Так вот, расширьте этот пример и вы поймете, что все то, как мы видим наш мир, есть представление, категориальное представление. Потому что наши образы мира содержат в себе и определенную интерпретацию причин этих образов. Нельзя сказать, что мир есть мое представление (этот тезис обычно считается идеалистическим). Нет, я говорю; мой мир есть представление. В том числе это относится и к пространству, и ко времени. Путь поиска особой реальности, той, которая реализуется только специальным текстом или произведением искусства, или просто мыслью, начинается с понимания того, что пространство и время есть только представления, химеры. Такой же химерой является и «я». Значит, на пороге другой реальности – реальности, реализуемой лишь искусством или мыслью, мы имеем химеры, сторожащие этот порог. Эти химеры – пространство и время, и «я». И реальность тогда выступает для нас – опять же в духе великого Канта – как неопределенное. Как некоторый X, который предстает нам в пространстве и во времени вместе с нашим «я», потому что мы так двинулись и произошел такой синтез. А раз это – происшедший синтез, то возможен и другой синтез. И именно потому, что возможен другой синтез, возможно расширение души. Если Сен-Лу, любящий Рахиль, не был бы химерой, то он никогда не мог бы расшириться. Ну, например, любил бы всегда только Рахиль, что невозможно. Если бы «я» не было бы химерой, например, то было бы непонятно, почему мы не ирокезы. Потому что если контакт с реальностью абсолютен, возможен только один, и он произошел в форме ирокезской культуры, то может быть только она одна, и она будет всегда. Немыслима и непредставима другая культура. А факт множественности культур есть эмпирический факт. Так же, как факт множественности точек зрения, воззрений и перспектив, в которых выступает та же самая Альбертина или та же самая Рахиль. Сам факт, что наш мир есть только представление, есть, во-первых, возможность или посылка факта множественности миров и, во-вторых, возможность моей способности ломать скорлупу одного мира и присоединять к себе другой какой-то мир – возможность расширения души. Естественно, конечно, если бы «я» было бы объективной вещью, или если бы пространство и время были вещью в себе, то я никогда не мог бы их изменить, а вот свои представления я могу менять, потому что я могу менять пути, на которых эти представления кристаллизуются. Я могу проделывать другую историю. А я вам говорил, что предметы есть завершающие моменты некоторых объемов истории, пути которого мы проходили. Чего-то, что мы проживали, – а проживали мы всегда в каком-то напряжении, под знаком какого-то трансцендентного стремления. Как Сен-Лу проживал увиденную им на сцене Рахиль под знаком высоких грез искусства, высоких идей благородства и красоты. И он в это время не бездельничал, он работал. И его душа наполнялась продуктами какого-то труда. Но раз есть один путь, то возможны – в прошлый раз я говорил вам, что раз есть путь, возможны и отклонения, а теперь скажу, что раз есть один путь, то возможны и другие пути, расширяющие душу и прибавляющие к ней какие-то другие возможности. Мы свободны именно потому, что наш мир есть только представление. Философы часто делали такие эксперименты, но поскольку они делают эксперименты в абстрактной форме, а форма абстракции всегда толкает к излишнему ригоризму, то эти эксперименты плохо воспринимались. Ну, скажем, Беркли, занимаясь в действительности проблемой свободы верующего человека, а это необходимая посылка христианской веры – свобода личности, – занимаясь именно этим, проделал эксперимент, где доказывал, что весь мир есть лишь представление, что мир существует лишь в той мере, в какой он воспринят и пр. и пр. Но если вдуматься в этот эксперимент, то мы увидим, что это как раз и есть эксперимент, относящийся к тем вещам, о которых я сейчас говорю. И вот, если вам будут говорить, что есть две линии в истории философии – линия материализма и идеализма, есть борьба идеализма и материализма, и эта борьба есть закон истории философии, будут называть вам под видом идеалистов разных лиц, вы все это пропускайте мимо ушей, этого не существовало никогда. Так же, как в литературе проблема реализма есть фиктивная проблема (реализма в смысле наличия какого-то антиреализма, модернизма и т д.). И в философии различение идеализма и материализма есть фиктивная проблема. Идеалистов – в том смысле слова, в каком вы встретите это в учебниках или в лекциях и изложениях, – вообще никогда и не существовало. Просто потому, что фикции-то можно выдумывать, а реальные люди никогда не могут быть фикциями. А в философии мы имеем дело с реальными философами, с реальными людьми. Поэтому не стоит тратить своей духовной энергии, и так в малом числе нам отпущенной, на эти схоластические споры.
И именно в контексте того, что я сейчас сказал, стоит проблема, которую я вводил как проблему описательности. Описательности, с которой всякое действительное искусство находится в скрытой или явной полемике. Почему? Я выражу это словами Арто, потому что слова Пруста я уже приводил. Арто говорил, что обычно пытаются изобразить, в том числе на сцене, посредством психологического диалога, где слова даны не в пространстве (или не пространственно), а чисто ментально, как элементы значений произносимых в диалоге фраз[404 - См.: Artaud. Le thйвtre et son double, p. 53.]. А Арто, как я вам говорил, был проповедником театра в пространстве в том же самом смысле, в каком Пруст проповедовал психологию в пространстве. Арто считал, что ничего нельзя получить в смысле знания и проникновения в реальность путем сопоставления внешних предметов, если мы не выявляем каждый раз участия нашей души в жизни этих предметов. И поэтому внешнему, описательному, поверхностному искусству или той жизни, которую мы видим лишь умом, произвольной памятью, чувствами, этому всему противопоставляется своего рода реализм души, эквивалентный сверхчувственной реальности произведения. То есть можно эквивалентно употреблять «сверхчувственную реальность произведения» в полемическом сопоставлении с теми вещами, о которых я говорил, или можно употреблять термин «реализм души». Представляя душу в некотором пространстве реализаций, – помните, я говорил вам: какая мысль, какое состояние в момент исполнения пьесы, – имея в виду некоторую неповторимую и непродлеваемую конфигурацию смысла, которая живет в момент и внутри исполнения произведения, а не в нотах. Живет не в тексте пьесы, а когда пьеса играется на сцене. И почему-то ведь она играется. Ведь зачем существует театр? Если есть текст, мы могли бы просто его читать. И если это кривляние актеров просто иллюстрация к написанным психологическим единицам, вербальным, то, ей-богу, не стоит ходить в театр. Лучше посидеть дома и прочитать книгу. Во время исполнения не происходит ничего. А именно там должно происходить. Вот так считали действительные художники. Так вот, в этом пространстве реализации, где реальность произведения или та реальность, которая осуществляется, дается лишь произведением, есть в качестве текста некоторое звено между двумя вещами. Звено между – неслучившимся и неиспытанным, с одной стороны, и, с другой стороны, – испытанным и случившимся. Эта фраза непонятна… но она должна быть понятна, если мы шли на той волне, которую я пытался создать, чтобы мы все время по ней двигались.
Я говорил вам, что, в силу того, что словами обозначаются одни и те же вещи, мы не замечаем, что есть память в двух смыслах: память в смысле извлеченной памяти, в смысле возможности сказать «я помню», а есть что-то, что обозначено этим же словом, а в действительности не извлечено, и поэтому определяет другую реальность. Во всех случаях я говорил вам словами Пруста: реальность есть нечто, что складывается в памяти. Я приводил вам пример: что мы имеем в виду, когда говорим «событие случилось в 1937 году»? Я говорил вам, что существуют какие-то сцепления наших душевных реализованных движений, – не просто полудвижений, получувств, полупониманий, а реализованных, которые не повторяются дурным образом, – тогда одна реальность, а если нет этого, то – другая реальность. У нас, например, другая реальность, мы не можем сказать, что 1937 год случился (было бы великим счастьем иметь такую возможность). Он не случился, потому что мы душевно, по уровню наших возможностей, по уровню наших нереализованных актов понимания, нереализованных актов доблести, актов чести и т д. находимся в том же сцеплении событий и движений, которые порождают и породили 1937 год. Я напоминаю различие между неслучившимся и случившимся, между неиспытанным и испытанным. Но различие это – очень тонкое, оно фактически относится прежде всего к нашему праву применять термины; это случилось. Или – я помню. Или – это я знаю. Слова могут быть одни и те же, – например, «я знаю», но – я могу не знать, а могу знать. Вот если мы задумаемся, в каком смысле мы действительно помним, что происходило в 1937 году, то мы разберем, поймем. Реальность складывается из сделанного и не сделанного. И если мы думаем, что мы помним, а в действительности не помним, то есть не извлекли самих себя, и раз не извлекли, то можем снова повторять все то же самое, все те же грехи, которые приводят к этому раскаянию, и так до бесконечности, то это – одна реальность; другая реальность – если мы извлекли из опыта опыт. И трудность этого различения состоит в том, что оно лежит на двух уровнях. Есть разница между содержанием и этим же содержанием как извлеченным. Понимаете, для марсианина, который наблюдал бы 1937 год, смысл событий, может быть, был бы извлеченным в его языке. Для внешнего наблюдателя случилось то-то и то-то; но мы не находимся в положении внешних наблюдателей, мы находимся в положении участников самих этих событий. И события – те, которые будут происходить впереди нас, определяются нитями, плетущимися из-за нашей спины, в которых мы извлекли действительный опыт или не извлекли. В аппарате философии такая позиция называется феноменологической: мы должны отвлечься от внешнего предмета, известного в какой-то марсианской перспективе, и не отождествлять его с тем, что на самом деле знает человек, испытывающий опыт, описываемый словами, которые тождественны тем, что употребляются во внешней перспективе описания. Ну, я сказал что-то громоздкое и сложное… Но тут другого выхода нет, потому что там, где нечто действительно испытано и случилось, там лежит вся проблема реальности. Я снова повторяю, но уже с другой стороны. Помните – Марсель видит танцующих девушек. Я заостряю вопрос на следующем: в каком смысле можно сказать, что он это увидел? Ведь увиденное вплетается в какие-то связи. Запоминается, сплетается с другими фактами или актами жизни – ткется какая-то ткань. Так вот, здесь два варианта. Он глядел на танцующих девушек и видел конвенциональный акт. И это, так увиденное, займет место, сплетется с определенного рода ассоциациями в его жизни, определенным путем прорастет в его душе, довольно незначительным, конечно, потому что этот акт весьма пустой. Конвенциональный акт ничего в себе не содержит. Или мы можем сказать, что он действительно увидел этот танец, в смысле – событие видения произошло, потому что он понял, что перед ним разыгрывается эротическая сцена двух лесбиянок. Этот факт сплетется с другими ассоциациями, с другими элементами его жизни и нарисует рисунок другой будущей судьбы. Вы понимаете, что я говорю? Это относится и к памяти – той, о которой я говорил в связи с вопросом о том, в каком смысле мы помним нечто как случившееся в 1937 году и можем поставить дату. И теперь вы понимаете, в каком смысле время есть наше представление. Ведь мы говорим «37-й год» – как будто это есть свойство самих событий вне нас. Метка – хронологическая, а в действительности время метится тем, как и что мы помним. И в этом смысле время не есть безразличный поток реальности, есть наше представление, и поэтому мы можем из времени выскакивать. Например, если мы извлечем опыт, мы можем выскочить из времени 1937 года. А если бы время задавалось бы понятием времени, то мы никогда не смогли бы этого сделать.
Накопив весь этот материал, я могу теперь сказать, что мы пришли в какой-то пункт, который отличается от чисто вербальных или ментальных существований, не имеющих пространственных и временных привязок, не имеющих движений или объемов, как я их называл, и не составленных ни из каких элементов стихии (я еще не разъяснял, что такое «составленность из элементов стихии», но первая часть пока нам понятна, и я ею теперь поверну тему). Понимаете, в нашей голове всегда есть понятия, идеи и представления. У нас есть даже идея произведения, у нас есть идея красоты, идея истины, идея пространства и т д. Это я называю вербальными существованиями. Идея прекрасного относится к этому. И наш опыт говорит о том, что дотянуться прямо – ментальным актом – до красоты или до истины, или до понятия невозможно. Мы должны наращивать тела, которые я называл органами, должны совершать какие-то движения, в которых мы овладеваем какими-то феноменами, а не просто восприятиями. Наш опыт говорит нам о том, что мы врастаем телом в мир, которым овладеваем. Не из головы сюжет придумываем, как хотел Марсель, а сюжет сам себя обнаруживает, если мы начинаем задумываться над тем, каково было действительное содержание поразившего нас впечатления. Если мы занимаемся не умственными размышлениями о законе, а пытаемся разобраться в том уникальном ощущении, которым мы ощутили какую-то несправедливость и не могли этого острого сознания беды и несправедливости уместить в линии, прочерченные законами, нормами, правилами официальной жизни. Вот там была какая-то реальность, которую мы должны были вытащить. Там был и сюжет нашей мысли. Сюжет – не в абстрактном представлении о законе, не в понятии закона, которым мы занимались бы и таким образом решили бы проблему, а сюжет в смысле реального впечатления, в котором мир, поразивший нас ударом впечатления, правдив на какой-то промежуток молнии. Потом это исчезает, и на это, как я вам показывал, наслаиваются другие слои. То, что я говорю, весьма серьезно для нашей душевной жизни, для наших жизненных судеб. Я приведу пока примитивный пример, а потом введу проблему, имеющую философскую окраску. Например, интуитивно вы знаете, что представляют собой истерические правдоискатели, которых вы встречаете в жизни. А это очень интересная структурная ситуация, которая может быть даже изображена, разыграна мифом греческой трагедии. Вот мы своей жизнью вогнали себя в ситуацию – сплетением мелких действий, микроскопических действий, когда то, чего наш разум и наша честь не приемлют, как раз и создано теми законами, какие есть. То есть фактически отсутствием правозаконного государственного устройства. Допустим, мы абстрактны (думаем об идеях, законах), тогда будем требовать, чтобы законы выполнялись. То есть мы будем приписывать все беды, которые мы наблюдаем, тому, что законы не выполняются. Например, в России очень часто требуют, – если человек дал десять копеек за нечто, что стоит 9 копеек, чтобы ему обязательно вернули копейку. Помножьте это на другие, более серьезные вещи и попытайтесь увидеть за этим структуру. Это есть выход из ситуации – ложный выход из ситуации, когда мы истерически пытаемся выпрыгнуть из какой-то проблемы, цепляясь за идею закона. За понятие! Здесь нет никакой возможности войти в область законов. И здесь сказываются следы нашей прежней жизни. Мы не сумели создать законопорядка, а теперь хотим исполнения фиктивных законов, чтобы реализовывать свои требования, свою жизнь, хотя в действительности нужно не права качать, а нужно, например, понять, что нас может спасти, как живых нравственных существ, только плохое исполнение плохих законов. Но за этими элементарными примерами есть структурные нити, связывающие эту весьма интересную картину. Ведь можно смотреть так, как сейчас я демонстрирую вам. И такое смотрение, конечно, имеет какие-то последствия для нас. Но дело в том, что я ведь на ваших глазах оперирую произведением. Только не художественным, а философским. Разницы нет. Я тоже строю текст и посредством текста организую самого себя в жизни. Мне, например, никогда не придет в голову обращаться к советскому закону для исправления чего-нибудь. Кроме, конечно, каких-то отдельных, совершенно уникальных случаев, на которые нас интуиция ориентирует, и это делается. Но мы интуитивно различаем, скажем, истерическое правокачание от нормальных требований человека. Здесь другого орудия, кроме как интуиции, то есть развитости души, не существует. Точно так же, как продуктом развитости души является утверждение, что если законы плохи, то жить можно только плохим исполнением плохих законов. Но дело в том, что здесь, как говорят англичане, есть один маленький hick или catch. Это, конечно, хорошо… плохо исполнять плохие законы. Но дело в том, что catch – цена, которую мы платим, состоит в том, что плохое исполнение плохих законов, являясь клапаном безопасности, клапаном, выпускающим излишние пары, делает систему плохих законов вечной. Потому что мы всегда будем реализовывать себя взаимопомощью, полулегальной или неофициальной, подмигивать друг другу, облегчать себе жизнь. Скажем, грузины это умеют делать лучше, чем русские, но русские тоже научились и весьма основательно – нет больших плутов, чем они, и беда в том, что это может длиться вечно. И с какой-то точки зрения, скажем, с точки зрения абстрактно-теоретической, что ли, можно предпочесть немцев, которые совершенно делают плохое. Если они делали какую-нибудь гадость, то они делали ее по-немецки, то есть честно, не воруя, трудолюбиво, четко. Но совершенное зло устремлено к гибели, поэтому они и погибли. А вот зло несовершенное рискует быть вечным. Так что есть и оборотная сторона того, о чем я говорил.
В философии были ученые слова, такие, что сначала нечто существует для меня абстрактно, в виде понятий. Например, для ребенка идея закона, идея красоты, идея мужества – это именно понятия, не имеющие плоти. Развитие, расширение человеческой души состоит в том, что все это обрастает плотью. Как выразился бы Гегель, из чего-то в себе – понятие – становится «для нас». Становится «чем-то» в действительности. И вот на этом пункте все и свихнулось у Гегеля. Я почему о нем упоминаю – тема, которую мы сейчас, наконец, имеем возможность рассматривать, а именно, тема расширения души и движения души, или воспитания чувств, может быть окаймлена или украшена эпиграфом. Я бы сказал (пользуясь перекличкой с названием одной из частей романа Пруста – «Под сенью девушек в цвету»), что вся эта тема идет «под сенью Декарта». И вот прустовскую тему, ту, которую я сейчас ввел, можно назвать «Под сенью Декарта» (а в скобках у меня три фигуры появляются: Гегель, Фурье и Пруст; Фурье я уже упоминал, о Прусте более, чем упоминал, а сейчас упоминаю Гегеля, и тем самым я одновременно поясню значение эпиграфа) – не только в том смысле, что для Пруста, как для всякого человека, носителя французского энтузиазма или furoro erуico во французском стиле, существовал, всегда один вопрос: ангажирование себя с риском и с реальным жизненным испытанием в мире один на один с миром. Это есть декартовский принцип «когито», который означает – все есть предмет сомнения. Не в том смысле, что после сомнения я нахожу какой-то предмет, на котором мои сомнения разрешаются, и я успокаиваюсь, а в том смысле, что сомнение упирается в самое себя, как в полноту некоторой воли, означающей: я могу. Нет никаких оснований и причин, почему бы я не мог. Всякое время есть время. Когитальный принцип означает, что не надо откладывать, нельзя сказать «среда заела», «среда не позволяет», или, как выражались марксисты, «нельзя жить в обществе и быть свободным от него». Когитальный принцип как раз прямо обратный – любое время есть подходящее время для действия, для поступка, ничего не наращивается; ждать, что к твоему усилию прибавятся какие-то усилия и совместной прогрессией что-то получится, не выйдет. Так же, как я вам объяснял в связи с проблемой смысла: если ты думаешь, что смысл лишь в коллективном взаимодобавлении одних акций к другим складывается, то простым математическим рассуждением можно показать, что тогда смысла нет ни в одном данном моменте. Потому что если единицу разделить на бесконечность, единицу смысла на бесконечность движения – движение бесконечно, вы получите нуль. Смысл предполагает полноту человеческой воли. Некоторое, как выражался Арто, «великое бодрствование». Сомнение не ведет к какому-нибудь предмету, на котором оно успокоится, – оно остается и должно быть великим бодрствованием. Вот это есть когитальный принцип. Но не только поэтому я говорю «под сенью Декарта», а еще и потому, что Декарт был первым философом, который ввел в мысль или в историю мысли тему «история моих мыслей». Он даже философские сочинения писал не как трактат, который строится академически, имея тезисы, доказательства и пр. Он писал известное «Рассуждение о методе» как историю своих мыслей. То есть как историю пути и того, что в этом пути может помочь тому, чтобы событие мысли, к которому я движусь, случилось, – оно впереди меня, оно маловероятно, почти что невозможно. И вот чудо и изумление есть основа философии – вы знаете, что философию часто определяют как удивление. А оно и состоит в остром сознании, абсолютном сознании маловероятности того, что мысль вообще может быть. Мысль – как упорядоченная структура – являющаяся ответом на что-то и устойчиво пребывающая. Время, случайность и т д. – все это работает против того, чтобы это случилось. И вот, каким образом проходится путь и чем мы на этом пути рискуем, – это называл Декарт историей своих мыслей. Понимая, что мысли не рождаются из мыслей. Я с самого начала подчеркивал, что книги не пишутся из книг, мысли не рождаются из мыслей… Хотя, родившись, мысли связаны с мыслями. Но есть некоторый промежуток – декартов промежуток, в котором подвешен человек без какой-либо гарантии, что в следующий момент вообще что-либо будет, в том числе он сам, поскольку он может умереть на половине мысли. Да и мир может исчезнуть, поскольку мир в следующий момент не вытекает из того, что он был в предшествующий. Это было для Декарта великой тайной. И поэтому у него появилась идея истории мыслей. Не просто содержание и система мыслей, а история мысли. Эту тему после Декарта подхватил в истории философии Гегель, и его юношеская работа «Феноменология духа» посвящена истории духа, или истории созревания духа. Как дух, сначала будучи понятием (голым понятием, или идеей, представлением), становится духом в действительности (ну, как для ребенка, сначала что-то было просто словом, а потом уже становится реальной плотью, реальной действительностью). Гегель по-своему тоже пытался описать процесс мысли как процесс прохождения пути, как историю мысли в этом смысле слова. Не в смысле эмпирической истории мыслей, а в смысле истории созревания мыслящего, его возмужания. Ну, так же, как флоберовскй роман «Воспитание чувств» описывает становление мужем человека. И у Фурье – та же самая тема. Только у всех она решается по-разному, и из того, как я буду рассматривать дальше, приводя соответствующие примеры, вы поймете, что мои симпатии лежат на стороне французов, на стороне Фурье и Пруста, против Гегеля, который эту тему по-немецки искалечил. Настолько, что однажды в одной из записей современника Гегеля появилась такая очень странная фраза, поразившая меня тонкостью наблюдения. Он сказал, записав впечатление после прослушивания лекций Гегеля: «У меня было страшное ощущение, что с кафедры в лице Гегеля со мной беседовала смерть». В таком эмоциональном виде он передал то, что случилось с Гегелем, а именно – попытку превращения истории в некоторое окончательное исполнение смысла, такое, что философ оказывается абсолютной монадой, вобравшей в себя все ступени духа и тем самым завершено пребывающей в мире. А мы увидим, что к теме созревания или возмужания, или истории, неприменим вообще термин «ступени», – все, что мы будем складывать теперь как возмужавшую душу или как расширившуюся душу, или как реализовавшуюся душу, будет идти в другом измерении – не по горизонтали, как представлял себе развертку Гегель, а по вертикали. (И сделав такой маленький зачин, я хочу, чтобы это было связано с нашими душевными проблемами, а не с абстракциями. Потому что, сказав «Гегель», я понимаю, что испугал вас ученостью и моей, и гегелевской, да еще ввел цитату из записок слушателя Гегеля, и я совсем не хотел бы, чтобы в моем лице с вами разговаривала бы смерть. Поэтому вернемся к душевной связке с теми вещами, которыми мы занимаемся.)
Значит, мы имеем дело с историей, с прохождением пути. Но теперь у нас есть не те маленькие пути, которые укрылись в разных мирах, теперь мы, если реализуемся, то реализуемся с другими людьми, у которых были свои пути в своих мирах. Но раз мы реализуемся вместе с ними, значит, у нас возникает вопрос коммуникации между этими мирами, которые до сих пор были у нас параллельными. Наша проблема есть проблема тока жизни, который не должен застревать в узлах, где миры непроходимы один для другого, и ток жизни не может перейти из одного мира в другой. Но мы имеем одну пометку: то, что Пруст называет произведением, и то, о реальности чего я начал говорить, это как раз для него есть нечто ценное именно потому, что произведение есть нечто, посредством чего мы только и можем проникать в другие миры, которые иначе были бы для нас навсегда неизвестными и непроницаемыми. А посредством произведения мы можем их как бы приставлять к самим себе, или можем расширять свою душу посредством других миров, в которые, повторяю, без произведения мы не могли бы проникнуть и даже не знали бы об их существовании. Для этих миров, в описании реальной истории души, у Пруста существует много разных терминов (не всегда «мир»): «аквариум», «павильон», «тропинка». Представьте себе лес с множеством тропинок, по которым мы расходимся. Расходятся наши души, наши истории, и эти тропинки не пересекаются. Более того, они вообще находятся в лесу, и не знаешь, где у них начало, где конец. Или, скажем, термин «ваза». Вместо этого термина – «graffiti», надписи на стенах. (Ну, в России – весьма известное явление, к сожалению, в Грузии тоже. Согласно известному анекдоту, – вы знаете, как строится забор? Сначала пишется слово из трех букв, а потом к нему прибиваются доски. Вот это есть graffiti). Так вот, graffiti – Шарлю пробегает свой жизненный путь, он движется по какой-то линии внутри своего мира. И он имеет свое представление о том, каков он в представлении других, как они его видят. И его представление о том, как они его видят, может ничего общего не иметь с тем, как его действительно видят. И это роковым образом сказывается на его судьбе, когда он терпит крах в салоне Вердюрен, когда у него в течение буквально одного часа рушится все его счастье, весь его мир, потому что у него отнимают, путем весьма легкой интриги, его любимого скрипача Мореля, заставляя Мореля поссориться с Шарлю. И вот Пруст говорит – я поясняю graffiti – представляю, что почувствовал или подумал Шарлю, если бы он действительно увидел, какие в голове других людей представления о нем. «Но ведь для каждого из нас наш pavillon двойной» – место, над которым водружен флаг, над каждым из нас водружен флаг нас самих, нашего представления о самом себе и о том, как другие представляют нас, pavillon с флагом или просто флаг; это синонимы в французском языке; pavillon – одновременно и флаг; так вот, мы – судно под флагом я. «Прямо напротив того, который нам кажется единственным, расположен симметрично другой, обычно для нас невидимый, но он действительный, но совершенно другой, иначе украшен, и мы ничего не узнали бы в нем о самих себе…» – которых мы знаем под нашим собственным pavillon-флагом. «…ничего не узнали бы от того, что ожидали бы узнать, и нас в ужас привели бы символы непонятной для нас и кажущейся нам незаслуженной враждебности. Как бы был удивлен господин Шарлю, если бы он проник в один из таких противоположных павильонов, иногда в такие павильоны мы проникаем посредством сплетни»[405 - S.G. – p. 1048 – 1049.]. И поэтому сплетня – очень полезная (go between) сводница между разными мирами. Она, как пчелка, переносит сведения, которые ты никак не ожидал бы и под своим собственным павильоном никогда не смог бы представить. Вот эта «сводня-сплетня», подобная тем лестницам для прислуги (то, что у нас называется «черный ход», которым пользуется обычно в почтенных домах прислуга), где обычно бывают написаны неприличные граффити в адрес хозяев, и что было бы, если бы хозяева прочитали, что о них пишут слуги[406 - Ibid.]. Значит, мы имеем уже отражение, данное через граффити. Мы имели, напоминаю, отражение рыбы в аквариуме и – рука человека, вынимающая рыбу. Вторжение граффити другого мира в мир павильона рыбы. И вот теперь я зацеплю вас на образе тропинок.
Мы знаем, что движения нашей души имеют своим источником желание (оборотная сторона желания – страдание), которое всегда совмещено с каким-то предметом, и любой предмет имеет интенцию и интендирован желанием, а не есть просто нейтральный предмет восприятия. Скажем, лицо Рахиль есть лицо (в зрительном восприятии), интендированное желанием. Я говорил вам о том, что предметы восприятия сначала раздуваются ветром нашего желания, а потом нами воспринимаются. Как бы античная теория симулякры: из наших лучей идут маленькие образы и выхватывают предметы, и мы их видим. То есть наш глаз не пуст, а содержит мириады маленьких образов. И поскольку всякое удовольствие является лишь реализацией предваряющего его желания, и хотя эти желания могли бы быть разными, и можно было бы пожелать встречи с каким-то другим человеком, с какой-то другой женщиной – «…я давно покинул большую дорогу общих желаний и углубился по более частной тропинке; и нужно было бы, чтобы пожелать другого свидания, издалека вернуться на эту большую дорогу и перейти с этой дороги на другую тропинку»[407 - C.G. – p. 383.]. Теперь попробуем пофилософствовать – здесь это необходимо, потому что слова гладко связаны друг с другом (не в моем, конечно, переводе, а в самом тексте). Смотрите, мы никогда не находимся на большой дороге желаний, всегда находимся на частной тропинке. Допустим, Марсель хочет встречи с Альбертиной, и свидание с Альбертиной вообще есть для него свидание как таковое. Идея свидания есть свидание с Альбертиной. И чтобы захотеть другого свидания, говорит Пруст, нужно было бы вернуться издалека на большую дорогу желания в общем смысле и потом – на тропинку частного желания. Эта великая и интересная вещь чисто обыденно освещает всю проблему миров: возможных коммуникаций между ними и существующих ограничений на наши возможные душевные движения, на наши желания. И, кстати, вырисовывается довольно страшная картина нашей жизни. Действительно, ведь часто мы видим, что человек любит женщину, и видим, что эта любовь несчастна или губительна для него. И мы думаем: ну, почему он уперся, ведь он может пожелать другое… Каким законам подчиняется то, чего он не может? Вот вы иногда видите действие государства, которое упорно делает что-то, чего явно не надо было бы делать, а нужно было сделать что-то другое. Почему не пожелать делать другого? А потому что есть расчерченная топология. Пока ты на тропинке, ты не можешь даже вообразить другой тропинки. Речь идет не о том, чтобы перейти на другую тропинку, а о том, чтобы вообще вернуться, – например, я говорил об анархии, о сомнении, о разрушении, – речь идет о том, что нужно вообще разрушить всю структуру или, как выражался Пруст, «вернуться на большую дорогу», и только потом, оттуда, мы сможем даже вообразить себе возможность другого свидания с другим человеком. То есть пока мы находимся на линии внутри какого-то мира, мы с этой линии не можем произвольным актом, актом желания, произвольного, актом мысли, актом воображения перейти на другую тропинку. Тут нет взаимозаменимости. Если мы находимся на линии, устремляющей нас в мир нежности Альбертины, где вообще нежность олицетворена Альбертиной, то нам даже в голову не придет, что можно захотеть свидания с другим человеком. Такими тропинками могут быть и социально-экономические выборы. Мы можем находиться, двигаться на линии внутри такого социально-экономического мира, что посторонний наблюдатель будет с удивлением говорить: – ну, слушай, чего тебе стоит, открой частный ресторан, ведь ничего не будет. Здесь законы есть, действуют, а не ум или злая воля, или глупость. (Законы, видите, какой общности, что я могу с одного примера, не противореча себе, органично прыгать на совершенно другой, казалось бы, пример). Потому что не так устроен мир, как нам кажется, – что мы можем хотеть или не хотеть, а если не хотим, значит, дураки, или, наоборот, мерзавцы – не так все это. Оказывается, здесь нужна совсем другая работа. Скажем, произвольная память, непроизвольная память. В данном случае я ведь не о памяти говорил. Я говорил о произвольных желаниях – мы желаем усилием желания. Но почему ты хочешь свидания с Машей, ну почему ты убиваешься, ты же видишь, что все не так складывается… пожелай свидания с Дашей. Нет, чтобы пожелать свидания с Дашей, нужно всю эту структуру разрушить, преобразоваться самому, и тогда, может быть, появится возможность даже вообразить себе свидание с Дашей. Я простые словечки проясняю, те, которые фигурируют в сочетаниях «произвольная память» – «непроизвольная память». Теперь я слово «память» выбросил, взял другие произвольные вещи. Там – та же самая проблема, та же самая структура. Следовательно, если вы читаете текст Пруста и видите, как он бьется над произвольной памятью, то вы должны понимать, во-первых, что он и в этом частном модусе натолкнулся на более общую проблему, и, во-вторых, должны суметь расшифровать, видеть, думать об этой общей проблеме, потому что она, действительно, – единственно интересная.
Значит, мы снова вернулись к тому, что если мы имеем много миров, то в начальной точке, в которой завязывается возможная коммуникация между мирами (в том числе моя возможность вообразить свидание не только с Машей, но и с Дашей), есть, конечно, расширение души. Ведь, посмотрите, как мы убийственны, как мы узки и ограниченны в своих душах, как мы сжаты, когда мы стремимся на свидание с Машей. Не сумев даже вообразить свидания с другой женщиной, хотя абстрактно, казалось бы, можно себе это вообразить и произвольно решить. Здесь мы имеем ту самую проблему, которую я все время веду: проблему узких и широких душ, сжимания и разжимания души. Так вот, точка, с которой может начинаться расширение души, обрастания, наращивания на себе каких-то других миров, предполагает промежуточный пустой такт или пустой шаг, или момент абсолютного сомнения, момент абсолютного отстранения (может быть, такого же плохого, не важно: Даша может оказаться не лучше Маши, но просто оскорбительно и стыдно быть ослом, который идет только по одной дороге). Повторяю: в точке, в которой может завязываться коммуникация миров, совершается пустой шаг или пустой такт. Такт, в котором ничего не производится. Там – сомнение, абсолютное отстранение и специальная анархия. Нарочитая анархия. Анархия, конечно, не как социальная утопия, не как проект социальной организации общества, а анархия как душевное состояние. Анархия как философская процедура. И теперь мы понимаем, что делает Пруст, когда он различает произвольную и непроизвольную память. Две вещи – обе связаны с проблемой реальности произведения. Значит, я сказал: свободный такт или пустой такт, или пустой шаг, то есть какая-то активность деяния, ничего не производящая. Например, такое страдание, внутри которого мы остаемся, не пытаясь его облегчить, разрешить и т д. Поэтому, собственно, страдание и образ смерти являются продуктивными для нашей души. Я приводил такие явления, как, скажем, сомнение, воля – эти явления в философии называются чистыми явлениями. И, кстати, у Пруста все время фигурирует термин «время в чистом виде»[408 - T.R. – p. 872.] – очень таинственный термин, не очень понятный, хотя чаще всего делают вид, что понимают, но в действительности этого понимания у комментаторов Пруста не обнаруживается. Чистые явления, требующие очень сложного напряжения, чтобы уловить их, но улавливаем мы абсолютно простую вещь. Например, я говорил о том, что верить можно лишь в то, что нуждается в моей вере в том смысле, что этого не было бы, если бы я в это не верил. Поэтому прав был Тертуллиан, когда говорил: верую, ибо абсурдно. Этой шокирующей фразой, совершено непонятой в истории, он указывал на природу этого феномена. Вера по определению может быть только чистой верой – не во что-нибудь, а в то, чего нет без этой веры (это – тавтология). Вера есть вера в веру. Или, скажем так: воля выделяется в чистом виде. Только. Это понятие означает только волю – в чистом виде. В других случаях понятие воли не имеет смысла, То есть чистые явления есть такие явления, при применении которых имеет смысл понятие. Скажем, понятие веры применимо только тогда, когда имеется в виду чистая вера. А чистая вера есть вера, не имеющая предмета, который можно было бы наблюдать иным путем, чем сама вера. Ну, понимаете, когда я говорю «часы», то помимо называния, их можно другими средствами наблюдать и задать как предмет. А это значит – не чистое называние не есть чистое явление. Так же и воля – есть какое-то сцепление событий, – вот я могу передвинуть зажигалку сюда, – в этом сцеплении, если оно и материальный его элемент так сцеплены, что они делают это, в этом сцеплении моя воля лишняя. Она не лишняя только тогда, когда нечто только силой моей воли существует. Вот это называется чистой волей. Или – полнота воли, которая равнозначна полноте бытия, потому что если что-то – только волей, то оно полно (половины воли не бывает). Поэтому это есть единственный случай, где бытие дано одноактно, одним разом во всей своей полноте, чего вообще не бывает с предметами, потому что предметы мы должны проходить в последовательности. (Математики вам скажут, что актуальной бесконечности нет, есть пересчитываемый ряд, и он бесконечен только потенциально, а не актуально. А здесь мы движемся в другой сфере.)
Эти чистые явления есть явления, которые освобождают или высвобождают нас. Я уже говорил вам, что когда в философии обсуждается свобода, то это слово употребляется, как означающее странную, парадоксальную вещь: свобода свободы. То есть свободой называется высвобождение свободы. Вот эти чистые явления только и высвобождают нас из того, в чем мы разными частями завязли – в разных временах и пространствах, в разных предметах. (Помните, пример Германта: часть его теперешнего действия завязла в его предками выполненном, наработанном ритуале поклонов. Там и время размечено, кстати, когда какие поклоны нужно делать. Время размечено, место, последовательность поклонов размечена. Германт ведь не присутствует целиком перед лицом человека, которому нужно сочувствовать. А потому что одной частью он – в одном месте, другой частью – в другом месте и т д.) Чистые явления, или воля как чистое явление, или вера как чистое явление вынимают из этих сцеплений наши части, и мы собираемся, чтобы быть в полном составе своего существа перед потенциальным восприятием. Оно только потенциально, если мы не соберемся, но актуализируется, если мы будем в полном составе своего существа. И вот в связи с произведением Пруста важно, что такого рода формы или чистые явления есть формы высвобождения. Свободные формы, которые есть свобода свободы. Если этого не происходит, и если мы не высвобождаемся, то тогда работают качества формы (или ее материальная оболочка, или свойство этой материальной оболочки), которые вбирают в себя наши наклонности. Чаще всего сенсуальность, почти что порочную сенсуальность нашего артистизма, пластичность, некоторое наше художественное гурманство. В этом смысле человек как бы всасывается в бесконечную пустоту материи. И формы превращаются в идолы, а мы становимся идолопоклонниками. И, кстати говоря, такой случай безыдейного артистизма, когда форма не высвобождает и поэтому нас заклинивает на свойствах формы, – скажем, как Свана заклинило на некоторых лицах, изображенных у Ботичелли, или как нашего отклоненца заклинивало на пятке. Совершенно аналогично заклиниванию на пятке нас заклинивает на качествах нашего голоса и нашей возможности играть или на наших материальных грезах, которыми мы, как гурманы, питаемся. Это есть так называемый артистизм. Телесные, почти что животные явления, хотя, казалось бы, у животных нет артистизма. Пруст был очень далек от этого и специально оговаривал, что артистизм этого рода слишком близок к жизни и случайными причинами питается, то есть случайными качествами формы, сладостными звуками, сладостными грезами, и тем самым заимствует все из случайности и ирреальности. Ирреальности, или contingence – в смысле констекстуальности жизни. Полного произвола жизни. И этот артистизм, «банальный артистизм, – говорит Пруст, – не может быть моей философией»[409 - См.: Centenaire de Marsel Proust, p. 60 (lettre в Robert Dreyfus).]. И вот, идя по нити реальности, мы видим, что Пруст самым неожиданным образом, для нас парадоксальным, фактически в этом обнаруживает хваленое искусство для искусства. Вот где – искусство для искусства. Оказывается, для Пруста искусство для искусства, является самым материальным, что только может быть в событиях нашей идейной или духовной жизни. Это вовсе не есть то, что обычно себе представляют, а есть искусство шутов, искусство попок. Искусство, еще, в более блатном виде могу вам сказать, искусство шестерок. Дело шутов, шестерок, попок, всегда очень артистично. Они всегда умеют изобразить Прусту такого рода искусство ненавистно. (Но он не знал его в тех вариантах, в каких нам суждено было узнать это искусство для искусства или искусство, которое самоисчерпывается в своем предполуживотном наслаждении изобразительностью, выразительностью и очень хорошо служит.) Вот этого чистого артистизма Пруст очень боялся. Он прошел его искус, потому что на его глазах были и привлекательные примеры, похожие на чистый артистизм, но, конечно, не являющиеся им. Искусство, представленное такими поэтами, как Рембо и Бодлер. Особенно Бодлер, у которого озарения чувственных инспираций всегда были связаны с гашишем и все это кристаллизиовалось вокруг идеи художника как носителя особых привилегированных и мгновенных состояний, каких-то необычных обстоятельств, которые мобилизуют именно чувственно данные ему способности и не оставляют даже времени думать. То есть человек настолько одарен, что одно одарение, сцепляясь с другим, приводит его как бы в состояние пляски святого Витта. А Пруст открыл другое. Он открыл труд. Труд в мельчайшем и в банальнейшем. И он был один из немногих, сам обладая абсолютным артистизмом, то есть тончайшей чувствительностью, которая, как лепесток, трепетала в ответ на любое дуновение, кто сумел направить свою чувственность на работу, потому что задавал вопрос: что это значит? что открывается? что отсюда видно? какое место в мире занимаю я, чувствуя так, как чувствую? Испытывая эти вещи, каким образом и как я помещаюсь в мире, и какое место в этом мире я занимаю?
А в мире решаются судьбоносные вопросы. Вопросы, связанные с истиной, со справедливостью и т д. Я напомню вам один весьма печальный эпизод, связанный с талантливым человеком, эпизод, который как раз с другой стороны иллюстрирует тему артистизма, в каком-то смысле инородного чувственной силе в душе поэта. Или в нас самих. Я имею в виду писателя Олешу и его повесть, которая называется «Зависть». В нашей культуре сплошных перемигиваний, тайных намеков, аллюзий, двойных смыслов и т д., которыми мы живем, читая с восторгом всякие левые или антинамеки и т д., это произведение получило совершенно непонятное для меня место в ранге оппозиционно-левых произведений. В действительности это совсем не так. В повести поэт описан как носитель, как бы помимо своей воли, метафор. Метафора запала ему в душу, и он ее такой пассивный и страдающий носитель. Почему страдающий? Да потому что, как показывал Олеша, – а это уже был продукт, очевидно, цинического распада его личности и глубоко укоренившегося страха, – метафора как таковая, по природе своей, искажает действительность. Сначала кажется, что автор устами своего героя издевается над бывшим героем гражданской войны и ныне работником какого-то коммунального хозяйства, который, как говорится в этой повести, даже в уборной поет бодрые и веселые песни. Поет, конечно, обливаясь водой (ну, вы знаете такой физический персонаж, он неоднократно обыгрывался в разных вариантах). Но каждый шаг самой повести показывает, что в стеклышке метафоры искажается действительность. Метафора заставляет видеть какое-то нелепое вульгарное создание, а в действительности – это сильный и большой человек. Метафора в душе поэта ведет его такими путями, что все реальные образы действительности совершенно искаженно представляются. И в итоге Олеша написал донос на самого себя и на всех поэтов, которые владеют или имеют метафоры: вот, смотрите, какая опасность существует в душе каждого поэта, и ее нужно вовремя искоренять!! Вот еще один печальный эпизод в истории литературы, связанный с проблемой артистизма.
Я возвращаюсь к проблеме коммуникаций. Фактически то, что я называл расширением души, есть распространение жизни по определенному пространству. И в этом пространстве есть узлы, застойники, в которых жизнь может застревать и не идти дальше. Есть какие-то узлы, где ни вперед нельзя пройти, ни назад. Есть вещи, которые нас убивают, ибо мы потратились на них, и они держат нас. Вот мы потратились на то, чтобы захотеть свидания с Альбертиной, а потратившись – уже Альбертина держит нас в себе, и Альбертина – это вещь, которая нас убивает. А философия, или литературный текст, если мы его строим, нас освобождает. Вот еще в каком смысле Пруст говорит о произведении искусства, как о чем-то, что имеет сверхчувственную реальность, более высокую, чем обыденная или текущая реальность. И поэтому эта тема расширения души есть тема, которую можно почти что лозунгом сформулировать: жить-изжить. Жить – постоянно перемещая центр, вытягивая свои ноги и руки из их застревания в этих мирах, вещах, которые нас убивают. Напомню вам очень древний образ, который когда-то применялся к определению Бога: сфера, центр которой – везде, а периферия – нигде. Я пользуюсь этим образом, чтобы сказать, что мы живем или расширяем жизнь (перемещая центр этой жизни), фактически выполняя закон, который гласит, что соприкосновение, контакт может произойти в любом месте. Не только на одной тропинке, но и на другой тропинке. Нужно вытягивать себя из вещей, которые нас убивают, перемещая центр так, чтобы та периферия, которая – нигде, действительно была нигде. То есть – везде. Так, чтобы везде возможно было касание случая, но случая – не такого, который прошел мимо нас, а случая, который пошел нам на пользу, оказался продуктивным. Ведь я говорил вам, что можно встретить Бога и не узнать Бога, можно не признать друга, встретив друга, можно умереть перед лицом самого себя. И вот перемещение центра, то есть иное проведение периферии, или касаний, есть расширение или продолжение жизни. Но дело в том, что поскольку объекты интендированы и видимы воображением, а не просто прямо, и воображение обязательно, как я говорил вам, включает метафорический элемент, то именно поэтому оно мешает нам вернуться на общую дорогу и волепроизвольно переходить на другие тропинки. И Пруст как бы говорит, что мы часто сами оказываемся метафорой, наша жизнь оказывается метафорой, и наши положения есть метафоры, – так уж лучше быть прожитой метафорой. То есть высвободиться путем осознания и извлечения того, что было. Если ты осознал, то тогда в твоей душе открывается пустое пространство для новых возможностей, для новых путей. Вот что значит у Пруста прожитая метафора. И вот постоянно прерывающаяся нить жизни должна все время завязываться в каких-то новых: точках роста. В каком-то смысле можно сказать, что там, где – крайняя опасность, там и спасение. Я говорил, что необходимо трудиться, вкладывать себя, делать что-то, – двигаться надо. В наше движение вплетена мысль, метафора, и когда мы освобождаемся, мы эту мысль, которая была, историю, которая была, – потому что если истории не было, то ничего не будет, если мысли не было, ее не будет впереди, – мы эту историю, эту уже бывшую мысль возводим в квадрат. То есть изменяем или повышаем ранг нашего мышления или наших чувств. Там, как я сказал, – крайняя опасность, там и спасение. Мы умираем, потому что жили, вложились в предметы. Если бы мы не жили, мы не вложились бы в предметы. Мы остались бы в преддверии ада и даже взгляда не заслужили бы, как говорил Данте. Но именно потому, что мы жили, мы и умираем. И вот там же, где есть опасность, там есть и спасение. В каком-то смысле для Пруста жив вечный гераклитовский пафос, который зафиксирован в афоризме, и его самым различным образом интерпретируют: смертью жить и жизнью умирать[410 - «Человек – свет в ночи: вспыхивает угром, угаснув вечером. Он вспыхивает в жизни, умерев, словно как вспыхивает к бодрствованию, уснув»(Фрагменты ранних греческих философов. С. 216).]. Пафос Пруста и его душа относятся как раз к типу таких душ, которые смертью живут и жизнью умирают.
Ведь я говорил вам, что мы не только застреваем в прошлых веках, так, что в сегодняшний момент всегда уже слишком поздно совершать то, к чему зовет нас наше призвание или предназначение. Слишком поздно теперь. Точно так же мы застреваем в тех вещах, которые делают уже невозможным для нас сейчас проявление благородства, сочувствия. И куда мы дели потенции наших душ, наши другие фацеты, которые мы, чтобы остаться живыми, погубили? Дело в том, что набор наших потенций гораздо шире тех, которые мы реализуем. Мы реализуем их в жизни согласно складывающимся ситуациям и связям в этих ситуациях. И очень часто в этих ситуациях – в силу закона непрерывности, которая там действует, которая постоянно меняет конфигурацию, – мы не можем реализовать возможностей своей души, потому что другие – не на той же волне (не синхронны с нами) и не готовы к этому. И настаивая на реализации своего желания, мы неминуемо кого-то должны обидеть, потому что мы совершаем действие в мгновение, и в это мгновение, может быть, другой человек вовсе не созрел для понимания того (или неправильно понял), чего мы хотим. Нам просто хочется, например, пойти свободно погулять и посмотреть на красивых женщин, а кто-то совсем не готов это понять. То есть поля реализаций наших возможностей сцеплены таким образом, что чем-то в себе, что в нас есть и что было бы нашей широкой частью души, мы это должны давить. Отказываться от этого. Скажем, отказываться от A, чтобы было хотя бы B. Есть десятки и сотни таких наших сторон, которые как бы безвозвратно нами погублены. И вопрос расширения души у Пруста, как и у Фурье, связан с тем, – а как быть? Не случайно и в том и в другом случае возникал вопрос, все время совпадающий с вопросом о новых или иных формах цивилизации. Я приводил вам пример Салтычихи – сначала я приводил его на уровне акта индивидуальной души, которая может осознать или не может осознать. Скажем, Салтычиха (в описании Фурье) истязает крепостную, потому что не осознает, что любит ее.
Не осознает она по той простой причине, что ее осознание на пороге принятия – что любовь может быть и лесбийской, останавливается. Поэтому она не может осознать, что в действительности она не ненавидит свою крепостную, а испытывает к ней влечение. И Фурье говорит, что если бы она это осознала, то немножко счастья, а не беды, прибавилось бы в мире. Ну, совершили бы они акт лесбийской любви, и никому от этого не было бы плохо. Но ведь здесь имеет место закупорка не только на уровне того акта, который может развитостью своего сознания совершить человек (в данном случае Салтычиха). Есть еще и закупорка социальных приличий и социальных норм, того, что допустимо или недопустимо в социальном пространстве. Не только собственная неразвитость Салтычихи исключает действительную, истинную канализацию ее наличного чувства (чувство любви к женщине канализируется через садизм, потому что оно непонятно), но еще и социальное пространство не дает места для развертки этого чувства, даже если ты его понял. Даже если ты его понял, канал открылся, – но закрыт социальный канал: социальные формы таковы, что они исключают возможность таких нравственных поступков в обществе.
Поставьте на место этого примера какой-либо другой пример возможной потенции нашей души или нашей чувственности, закрытой существующей системой отношений. И поэтому с темой расширения души, ее обогащения связана и тема социальных форм цивилизации, идея новых форм цивилизации. Точно так же, кстати говоря, у Антонена Арто возникает идея о непригодности существующих форм цивилизации и о необходимости изобретения других социальных форм для того, чтобы они были бы адекватны пространствам или просторам развертки возможностей, заданных в человеческих душах и возможностях. У Пруста социальная проблема или социальная закупорка представлена прежде всего нравами и законами света: светскими правилами, принятыми в кругу аристократии. Через это он рассматривает ту закупорку, то закрытие пространств, которые нужно было бы открывать, чтобы из прошлого, из возможностей человеческой души можно было бы развернуть – в качестве реально выполненного – какую-то потенцию. Какой-то фацет, как я говорил, или целый мир. Фактически и у Арто, и у Пруста, и у других авторов (в том числе, кстати, у Маркса) мелькает идея полного человека, который способен практиковать максимальное число разнообразных отношений. Вот что называется полным человеком или тотальным человеком. И только в пространстве практически осуществляемого максимума отношений разворачивается единица человеческой души. Полная единица человеческой души. И вот на страже у дверей такой развертки у Пруста стоит не столько существующая социальная форма, сколько другая, более глубокая вещь, в самом человеке заложенная, – мотив, структура, образ, страсть владения. Фактически весь роман Пруста («Девушки в цвету», «Пленница», «Беглянка») – это история преодоления и преобразования Марселем любви как владения, и выхода, очевидно, к совершенно другому пониманию любви или к другой структуре любви. Но пока мы не имеем данных для разговора об этом. Я хочу только такую мысль подчеркнуть: стоит только попытаться овладеть (а владение всегда есть насилие), как створки этих миров, посредством которых ты и сам себя мог бы расширить, – например, человек, любящий Альбертину, которая любит не одного его, как это ни парадоксально, расширился бы во вложении духовных богатств, если бы он принял это как факт и не стремился бы к тому, чтобы владеть Альбертиной как вещью, – так вот, створки миров закрываются, если на них наложить владеющую или желающую владеть руку. Мир захлопывается, как створки раковины захлопываются, и тем самым закрывается путь развертки твоей души. Ясно – если переходить к другим структурам любви, то есть к более серьезным духовным отношениям, – что мысль Пруста вращается вокруг очень старых символов. Ну, например, как вы понимаете, что можно накормить пятью хлебами пять тысяч человек? Как это – буквально понимать? А ведь сказано, что есть какие-то… как бы неделимые вещи – человек A находится в отношениях с человеком Б, а человек Б дружит с C, – так вот, ты – A в Б обогащаешься именно его недоступными тебе отношениями с C. И можно одной единицей, если не хотеть ее делить по правилам владения, прокормиться большему числу. Таким образом, ты можешь оказаться напитанным сытостью другого человека, то есть его богатством.
ЛЕКЦИЯ 20
31.11.1984
В прошлый раз я привел целый ряд живых примеров, которыми хотел показать, что некоторые абстрактные философские и художественные построения, знаем мы об этом или не знаем, глубоко затрагивают чисто жизненные переживания в наших душах. И цель этих примеров: предупредить вас о том, что есть какие-то перипетии наших душ – раздирание души, распад ее, или, наоборот, собирание, – в зависимости от того, понимаем ли мы, как устроен мир, или, на философском языке, понимаем ли мы онтологию. Хотя я говорил вам, что проблема реализма в художественной литературе, как и проблема идеализма в философии – суть надуманные проблемы, – в случае Пруста мы имеем дело с тем, что я назвал бы реализмом души. И тем самым приведенные примеры свидетельствуют о том, что весьма плодотворно заниматься реализмом души, – не реализмом описаний, не реализмом мира, а реализмом души, – в том смысле, что есть какие-то реальности того, как мы вообще можем что-либо сознавать, того, как мы вообще что-либо можем переживать и чувствовать, того, как мы вообще что-либо можем помнить, и на эти реальности наталкивается наша душа совершенно независимо от того, хотим мы этого или не хотим, начитаны мы или не начитаны, занимаемся ли мы философией или не занимаемся, читаем ли мы Пруста или не читаем, и вообще читаем ли что-нибудь. Фактически все, что я говорил, было указанием на то, что существуют некоторые тексты, или онтология сознательной жизни, сознательного бытия, – совершенно объективная, нами не отменяемая есть какая-то структура души и структура истории. Они не меняются. Они различным образом символизируются, различным образом проясняются, но все время повторяются, как бы по каким-то кругам, некоторые структурные сцепления. Скажем, жизнь Христа и образ Христа есть текст сознательной жизни, он – символ того, что и какие возможности есть у нас в душе. Можно взять и литературные тексты: они тоже воспроизводят в себе текст сознательного бытия, в котором есть какой-то синтаксис, и этот синтаксис написан какими-то буквами. Иногда эти буквы проведены кровавым следом в нашей душе, и у нас есть шанс эти буквы расшифровать. Но иногда они и не проведены, у нас не было такого опыта, или, если проведены, то у нас нет сил на то, чтобы их расшифровать. Пруст печально замечал, что никогда не хватает по-настоящему сил расшифровать подлинные впечатления или то впечатление, которое есть в душе[411 - T.R. – p. 932.]. (Напоминаю, что под впечатлениями я имею в виду не просто восприятия, а какую-то совершенно особую категорию вещей, называемую впечатлениями.) И если есть такие тексты, то те примеры, которые я вам приводил, говорят о том, что задача наша, как людей, состоит в том, чтобы в собственной жизни медитировать на такого рода текстах. Медитировать – так, чтобы что-то от этих текстов проскочило в нашу душу и проявилось в ней организацией или собиранием этой жизни, упорядочением этой жизни, потому что естественным образом, как вы знаете, мы живем весьма неупорядоченно: наше сознание, наша жизнь неупорядочены и рассеяны. А медитацией на текстах мы можем достигать того, чтобы давать некоторым свойствам этих текстов, тому, что записано в них, проявиться в организациях наших собственных мыслей, чувств и, в целом, в собирании нашей жизни. Все рассуждения предшествующей лекции о мире как представлении служили мне для закрепления проблемы того, что вообще всегда стоит вне наших связей. Именно эта проблема является проблемой реальности у Пруста. Реальности – как произведения, так и самого мира и души. Напомню вам, что называет Пруст важными вопросами: вопрос реальности искусства, вопрос реальности (имеется в виду реальность мира) и вопрос вечности души или реальности души (или бессмертия души – это одно и то же). Довольно интересно, что в одну строку стоят три реальности как одна реальность: реальность мира или действительности, реальность произведения и реальность души в смысле вечного ее существования. Я говорил вам, что есть что-то реальное, в том числе реальность души, что и реализуется в произведениях.
Так вот, тема миропредставления, повторяю, была для того, чтобы закрепить следующую вещь: все, что называется реальностью у Пруста и эта тройственная реальность, – это все есть реальность в смысле чего-то, что есть вне наших связей, то есть вне наших привычных сцеплений мысли, вне наших культурных стереотипов, вне наших привычек, вне категорий нашего знания, – не в том смысле, что это недоступно категориям нашего знания или недоступно нашим культурам, а в том смысле, что, когда это есть, это работает вне и помимо тех связей, которые мы нашими представлениями налагаем на мир. Или, иными словами, реальность не зависит от наших представлений, в том числе реальность души, которая, казалось бы, только и есть представление, – не зависит от наших представлений, стоит вне связи. Почему, собственно, метафора оказывается такой проблемой у Пруста, да и вообще во всем искусстве? Да по одной простой причине – метафора ведь есть соединение того, что без метафоры не связано, разнородно, и вообще одно – в одном месте, другое – совсем в другом. А метафора соединяет их помимо наших связей, то есть помимо того, как мы могли бы – нашими стереотипами – это связать. Ведь по стереотипу элементы метафоры не связаны одна с другой, как раз метафорой называется нечто, что всегда противоречит стереотипу, что привычным образом настолько разнородно и бессвязно, что никакой разумной, рациональной связи между этими элементами установить нельзя. Помните, я говорил вам: анархические моменты или анархические ритмы в нашей жизни, – когда мы путем остранения, и, следовательно, разрушая установившийся культурный порядок, отступаем в сторону. Я в этой связи указал вам на важность накопления в наших душах каких-то особых состояний, и теперь хочу обратить внимание на одно свойство этих состояний, для того, чтобы использовать пример этих состояний в качестве иллюстрации к проблеме нахождения вне наших связей (есть что-то, что находится вне наших связей). Я говорил о том, что мы в отрицании, в святотатстве, в опробовании мира почему-то все время тяготеем к такого рода состояниям, которые не имеют заранее заданного объекта – направленность которых не существует в готовом мире культуры. Ведь то, что принято, или то, что дозволено, то, что этично, то, что законно, есть та связка, которая дана или преддана в культуре нашему любому движению, – мы делаем что-то для чего-то. В этом смысле такого рода состояния имеют будущее, они все целенаправленны. А я уже в другой связи показывал вам, что – в силу того, что всякое наше действие проецировано вперед, в силу этого оно стирает большие куски прошлого или большие куски нынешнего впечатления: какие-то куски нынешнего впечатления не могут быть использованы в качестве элементов достижения цели, которая является логической возможностью наших представлений. Я знаю, что если я подниму книгу и опущу руку, то книга упадет: падение книги есть возможность, в терминах которой я вижу само это событие – «книга в мире». Но помните – я все время рассказывал вам, как коварны вообще возможности, что, оказывается, реальность стоит вне возможностей, в этом смысле слова она каждый раз ничего общего с ними не имеет, – помните знаменитый пример с ножом, который «вонзается в сердце» в момент разглядывания облаков? Чаще всего реальность именно в таком виде и оказывается нам доступной, то есть вне какого-либо опутывания ее цепочкой наших возможностей, – вот мы просчитываем облака, а в это время, совершенно вне связи с этим, нас ударяет нож в сердце, или слова Одетт: да брось ты, не помню я, может быть, два или три раза… Вот сама эта возможность, что человек даже может забыть, что она спала с женщинами, и так воспринимать это в своей собственной душе, – это совершенно не соответствовало тому, как проецировал Сван Одетт в мире своих объектов, которой (Одетт) приписывается возможное, допустимое поведение. Ведь я знаю, что книга упадет на стол, если я подниму ее и руку опущу. Но так же, как я знаю, что вы и я поймем лишь часть того, что я сам говорю. Но это не обязательно реальность. И реальность, я подчеркиваю, невыводима из возможностей.
Приводя примеры таких состояний в качестве ценных, накапливаемых трудом страдания, трудом недеяния: мы придерживаем действия, есть какой-то труд жизни, который не производит никаких видимых продуктов в этом труде жизни, в том числе есть и нарушение норм, святотатство, осквернение, – оказывается, я брал состояния, не имеющие будущего, не содержащие будущего как элемента своей собственной проекции. И эти же состояния могут быть никогда не бывшими настоящими. Значит, я говорю: состояния, не имеющие будущего, безнаправленные, неориентированные состояния, и они же есть состояния, не имевшие никогда прошлого, никогда в прошлом не бывшие настоящими – не вышедшие на уровень совершившегося события. Например, то, чего я не понял об Альбертине, ушло в образ моря. Скажем, у Пруста любовь к прекрасным девушкам в цвету есть чаще всего любовь не к ним самим, а к чему-то, что ищется через них[412 - J.F. – p. 833.]. Он бежит за девушкой, а в действительности он бежит, чтобы увидеть море. Он-то думает, что он бежит за девушкой (я имею в виду эмоциональный бег). Так вот, этот образ моря – я спрашиваю – был ли он когда-нибудь настоящим? Вот в прошлом – был ли он настоящим, то есть пережитым или случившимся? Нет. Он относится к категории несвершившихся состояний. И память у Пруста чаще всего имеет дело не с воспоминанием (потому что ведь нельзя вспомнить то, чего не было), а с созданием какой-то структуры или конструкции, посредством которой случилось бы то, что в прошлом было, но не случилось как прошлое или как настоящее в прошлом. Это означает, что то, что имеется в виду у Пруста под памятью как нашей умственной функцией (но в действительности – непсихологической функцией как элементом онтологии сознания), есть тоже нечто, что стоит вне наших связей, в том числе вне связей, которые память выстраивает путем своих сознательно контролируемых актов, работает вне этих связей, и поэтому есть реальность. Это понятно? Попробуем дальше пояснять это. Напомню вам, что, когда я вводил категорию, называемую «впечатлениями», я характеризовал впечатления как нечто не вполне знаемое. Не вполне знаемое в одном очень простом и глубоком смысле: музыкальный мотив – он нас преследует и привязчив именно потому, что не вполне ясно, что он говорит, так ведь? В этом состоит его и притягательность, и повторяемость – не вполне ясно, что он говорит. Если бы мы вполне знали, наверное, он никогда не звучал бы повторно в нашей душе. Впечатление есть нечто не вполне знаемое и поэтому повторяющееся. Его повторение есть как бы способ бытия этого впечатления, состоящий в том, чтобы разобраться в самом себе, – как идут вариации мотива музыки. И вариации существуют только потому, что сам мотив есть нечто не вполне знаемое. И, кстати, то, что происходит в пространстве его вариаций, уже независимо от источника звука или от источника мотива, гораздо важнее, чем содержание причины, – содержания самого звука, который произвел в нас это впечатление. Теперь вы можете увязать то, что я сейчас говорю, с тем, что я говорил, казалось бы, в другой связи, о памяти как искусственной памяти, выполняющей роль ящика резонанса. Ну, а резонанс тоже ведь есть вариация: что-то уточняется, варьируясь или резонируя многократно, в разных видах, но, оставаясь не вполне известным, не вполне ясным, не вполне понятным, не вполне знаемым впечатлением, повторяет себя и повторением уточняется и остается все время новым или живым. А это парадоксально, – мы ведь длением жизни стареем, так ведь? Все стареет длением: потому, что длится, потому и стареет, а тут я вам привожу примеры чего-то, что длением не стареет, а наоборот, дление оказывается условием вечной молодости.
Или, выйдя на следующую нить, скажу так: в такого рода переживаниях, которые взялся описывать Пруст, поставив на карту свою жизнь, душевное благополучие, – все эти описания имеют дело как бы с миром, который я назвал бы миром сплошной аномалии, сплошной большой сингулярности, как говорят физики. Почему это – аномалия? Потому что это такой мир, который все время склоняется в бездну хаоса, распада, потерю упорядоченности. И это склонение проходит по мне, во мне мир склоняется, и я должен ответить на это развитием сознания или сознательной жизни, поскольку, если вы помните, по определению сознание есть изменение склонения, или – блокировка спонтанных сдвигов, хаотических движений в нашей душе. Изменение склонения, в которое вводит нас, скажем, инстинкт, желание. Ведь вы знаете, что сознание есть сознание изменения состояния. Если я сознаю ощущение, значит, я уже не совпадаю с ощущением, я не есть это ощущение. Это аномалия, просекающая как бы весь мир своим склонением, проходит через меня, и можно даже сказать, если воспользоваться метафорой, а Пруст нас склоняет к тому, чтобы мы тоже пользовались метафорами, можно было бы сказать, что мы, люди, суть существа наклонных поверхностей. Я уже говорил вам, что мы как раз на кривых должны удерживаться усилием. Мы – существа наклонных поверхностей, и естественным образом на наклонной поверхности устоять было бы невозможно, мы скатились бы в инстинкт, в хаос, в прямое и в слепое удовлетворение желания с его неисчислимыми последствиями. Так вот, эта аномалия выражается еще и вариативностью, такой, что, вместо того, чтобы длением стареть, вещи как раз длением остаются новыми. Во-вторых, фрагментарность, – а это принципиальный шаг Пруста, и, пожалуй, всего развитого искусства XX века, – описываемых состояний. Состояния вынуты из наших уже проложенных связей, и предполагается, что эти состояния, будучи вынуты из уже существующих культурных сцеплений, должны пойти по другим сцеплениям: по сцеплениям реальности, то есть того, что есть само по себе, на самом деле, независимо от категорий нашего жалкого человеческого психологического ума. И завершаются они, входят в реальность – не по линии непрерывно завершаемого сюжета романа или художественного текста XX века и не только, кстати, романа, это и в живописи наблюдается, и в музыке тем более не идут по линии непрерывного или линейного развития или экспликации содержания (что привычно для прозы и вообще искусства XVIII и XIX веков)… Нечто вынуто как раз из этого непрерывного развития, являющегося, повторяю, тоже нашей категорией, – это умозрительное развитие, которое мы даем сюжету. Нечто вынуто – и поэтому оказывается фрагментом. И более того, в качестве фрагмента оно вообще оказывается, включаясь в ту реальность, которая вне наших связей, – оно в этой реальности не завершается. Есть принципиальная незавершенность самых интересных произведений XX века. Нельзя приписать случайности, что роман Пруста не окончен. Можно сказать, что Пруст умер раньше, – нет, роман принципиально не окончен. И я уже говорил вам, что в конце романа мы увидим человека, прошедшего путь, и прошедшего путь так, что он может теперь писать роман и т д. – бесконечно. Не окончен роман Музиля, не окончены романы Джойса. Разные романы есть просто фрагменты одного какого-то незавершаемого произведения, они не существуют сами по себе, отдельно. В отличие от прошлого искусства, в котором всегда была установка на создание некоторого завершенного и законченного шедевра. (Этимологический смысл слова «шедевр» – ремесленник в конце своего обучения делает некое цельное произведение, которое завершенно содержит все, чему он научился, чем он овладел; всю сумму своего искусства и ремесла он должен вложить в это произведение, – а художник в XX веке уже почему-то этого делать не пытается.) Я пока суммарно назвал некоторые черты аномалии: длительность, не ведущая к старению, фрагментарность, незавершенность, вариативность. Но я это оставлю в стороне и скажу так: нечто, что находится вне наших связей. И вот – это нечто, о котором можно лишь сказать: это «есть», и возможность этого «есть» нельзя ниоткуда вывести, нельзя получить. То есть это «есть» может быть только само, или не быть, а возможность того, что это «есть» может быть, нельзя ниоткуда получить. Тем самым я напоминаю вам некое само, которое аналитически не содержится ни в чем другом, так, чтобы мы могли обосновать его возможность, но, так сказать, уже post factum. Как говорил Бергсон: если бы я знал мир Гамлета, то я, конечно, смог бы написать Гамлета[413 - Bergson, Henri. Kuvres. La possible et le rйel. Paris, 1970. P. 1341.]. Он имел в виду следующее: мы обычно считаем, что Гамлет есть типичный представитель какого-то мира или его отражение, и, значит, мы предполагаем, что мы знаем какой-то мир, и теперь говорим: Гамлет есть типичный представитель этого мира. Но дело в том, что то, что мы называем миром Гамлета, то, что мы понимаем через типизацию, данную в Гамлете, родилось после того, как Гамлет написан или этот образ написан. Мир Гамлета есть продукт написания Гамлета. То есть мир, в котором Гамлет может существовать, мир, который нам понятен через гамлетовский тип, – он сам есть нечто, родившееся именно потому, что кто-то написал Гамлета, образ Гамлета (я имею в виду не произведение в целом, а образ Гамлета). Следовательно, пока нет самого Гамлета, мы ниоткуда не могли получить «возможность» Гамлета.
Значит, – я немножко перебил самого себя, – я связываю ту тему, которую сейчас ввел, с тем, что говорил раньше, а именно: «нечто само» может быть только невозможным. Вообще парадокс, что существует в реальности только невозможное. А в том, что мы называем реальностью, на самом деле все обстоит не так, как кажется. У Еврипида есть хорошая очень строка: «Не сбывается то, что ты верным считал, и к нежданному боги находят пути»[414 - Еврипид. Трагедии. Т. I. Алкеста. М., 1969 (пер. И.Анненского).]. Так вот, то, что я теперь называю «само», то, что само есть, – оно и работает само, вне наших связей. Вот это «само» есть то, что я раньше называл «невозможное». Помните, я говорил о мужестве невозможного. Частично это связано с самим определением того, что я называл «чистыми явлениями», такими, как воля, вера. Вера ведь по определению есть вера в то, чего не существует помимо веры и в этом смысле не нуждается (для того, чтобы существовать) в моей вере, – к этому вообще термин «вера» бессмысленно применять. Опять случай онтологии нашего сознания, которое диктует то, как вообще осмысленно мы можем оперировать терминами, относящимися к нашей сознательной жизни. Например, писатель пишет – и по смыслу того, что я говорил в связи с Прустом, приводя разные проблемы, в том числе и несколько раз обыграв капризность Пруста, который все время говорит о своей лени, что ему лень было бы, не было бы живой искорки, чтобы двигать рукой (это труд все-таки физический) по бумаге; если бы не те вопросы жизни или смерти, которые действительно возникают в акте писания… но, когда я приводил эти примеры, я не сказал, что акт письма бессмысленен, если то, о чем пишешь, не зависит от того, что ты об этом пишешь. То есть писать можно и имеет смысл только о том, что существует только в силу этого акта писания и нуждается в этом акте писания. Я ведь говорил вам о произведениях, которые внутри себя рождают какие-то эффекты нашего сознания. Сейчас можно более широко сказать, что сам акт письма имеет смысл, лишь если то, о чем пишется, рождается и держится на самом акте письма, и чего не было бы без выполнения письменного текста или просто текста (вообще-то всякий акт – письменный, хотя «письменья» могут быть не обязательно буквами). Я возвращаюсь к тому, о чем говорил в связи с возможностью и невозможностью. Невозможное есть то, что никогда не фигурирует в реестре логических возможностей наших представлений, которые всегда проецированы в будущее. Например, по воде ходить нельзя – это мы знаем. И, наоборот, следовательно, символ хождения по воде, а он, конечно, есть символ, – однажды Будда своему ученику, который не понимал символического характера некоторых описаний нашей жизни и хотел научиться йогическим упражнениям и ходить по воде просто так, сказал, мол, слушай, не выпендривайся, ради бога, – вот этот символ говорит нам о том, что реально существующее или происходящее и есть то, что мы назвали бы, во-первых, невозможным, и, во-вторых, именно невозможное требует веры, – и тогда осмысленно верить, потому что вера есть творение того, во что веришь, – то есть то, во что веришь, не случилось бы, если бы ты не верил. А то, что случается без веры, не нуждается в нашей вере, и там бессмысленно вообще этот термин применять. Эту веру Пруст называет экспериментальной верой. Значит, сначала есть – помните, я говорил вам – детская вера, где ребенок верит в уникальную индивидуальность того, что он видит, воспринимает, чувствует. Потому, как говорит Пруст, что реальность памяти складывается, или потому, что иссякает юношеская сила веры, все вещи становятся похожими друг на друга и теряют индивидуальность, и вот в качестве замены того, что потеряно, – юношеская вера потеряна, рай потерян, – Пруст свою процедуру называет экспериментальной верой. Вера – в смысле – экспериментировать на каких-то своих особых, невозможных условиях истину, чувство и т д., а не получать все это в готовом виде извне, – это очень важный пункт. И неполучание в готовом виде извне и есть самая серьезная нить, которая пронизывает всю тему реальности у Пруста, – как реальности самой действительности, как реальности произведения, так и реальности нашей души. И вот то, что я называю невозможным, есть, во-первых, нечто само, во-вторых, лишь после того, как оно есть само, мы можем говорить о возможностях, о причинах, о мирах (например, о мире Гамлета, связывать Гамлета с его миром и т д.), и в-третьих, это «само» я теперь назову другим словом – разум.