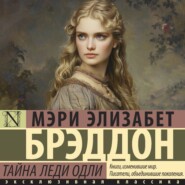По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тайна леди Одли
Автор
Серия
Год написания книги
1862
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– О нет, я привыкла к запаху табака. Мистер Доусон, врач, каждый вечер курил, когда я жила в его доме.
– Доусон – неплохой человек, не так ли? – небрежно спросил Роберт.
Госпожа залилась смехом.
– Самый лучший на свете, – подтвердила она. – Он платил мне двадцать пять фунтов в год – только представьте. Я хорошо помню, как получала деньги – шесть старых тусклых соверенов и маленькую кучку неопрятного, грязного серебра, только что полученного от пациентов! Но тогда я была так рада получить их, в то время как сейчас – не могу не смеяться, вспомнив об этом – эти краски стоят по гинее каждая, кармин и ультрамарин по тридцать шиллингов. Вчера я отдала миссис Доусон одно из моих шелковых платьев, бедняжка расцеловала меня, и врач нес узелок домой, спрятав его под плащом.
Госпожа долго и весело смеялась. Краски были смешаны, она срисовывала акварельный этюд, изображающий до невозможности красивого итальянского крестьянина в манере Тернера. Рисунок был почти закончен, ей оставалось только добавить несколько легких штрихов самой тонкой из своих кисточек. Она изящно подняла кисть, вглядываясь в картину.
Глаза Роберта Одли не отрывались от ее хорошенького лица.
– Это действительно перемена, – промолвил он после большой паузы, во время которой госпожа могла забыть, о чем говорила. – И большая перемена! Некоторые женщины пошли бы на что угодно, чтобы совершить такую перемену.
Ясные голубые глаза леди Одли расширились, она не отрываясь смотрела на молодого адвоката.
Зимнее солнце, осветив ее лицо из бокового окошка, озарило лазурью ее прекрасные глаза, пока не начало казаться, что они мерцают, становясь то голубыми, то зелеными, как опаловые оттенки моря изменяются в летний день. Маленькая кисточка выпала из ее руки, и алое пятно закрыло лицо крестьянина.
Роберт Одли нежно разглаживал скомканный лист табака своими осторожными пальцами.
– Мой друг на углу Ченсери-Лейн дал мне не такой хороший табак, как обычно, – бормотал он. – Если вы когда-нибудь закурите, моя дорогая тетушка, будьте очень осторожны, выбирая сигары.
Госпожа глубоко вздохнула, подняла кисточку и громко засмеялась, услышав совет Роберта:
– Как вы эксцентричны, мистер Одли! Знаете, иногда вы озадачиваете меня…
– Не больше, чем озадачиваете меня вы, моя дорогая тетушка.
Госпожа отложила краски и альбом и, перейдя к другому окну, на значительное расстояние от Роберта Одли, уселась в его глубокой нише и занялась вышиванием.
Теперь Роберт сидел далеко от госпожи, в другом конце комнаты, и только временами видел ее прекрасное лицо, окруженное ярким ореолом золотистых волос.
Уже с неделю находился он в Корте, но ни разу ни он, ни госпожа не упоминали имени Джорджа Толбойса.
Этим же утром, исчерпав все темы для разговора, Люси Одли осведомилась о друге своего племянника.
– Этот мистер Джордж… Джордж… – начала она, запинаясь.
– Толбойс, – подсказал Роберт.
– Да, точно – мистер Джордж Толбойс. Кстати, довольно необычное имя и, без сомнения, странная личность. Вы видели его в последнее время?
– Я не видел его с седьмого сентября, с того самого дня, когда он оставил меня спящим на лугу, недалеко от деревни.
– Бог мой! – удивилась госпожа. – Какой, должно быть, чудак этот мистер Джордж Толбойс! Расскажите мне о нем.
Вкратце Роберт рассказал ей о своих поездках в Саутгемптон и Ливерпуль с прямо противоположными результатами; госпожа слушала его очень внимательно.
Чтобы лучше рассказывать, молодой человек оставил свое место, прошел в другой конец комнаты и сел напротив леди Одли в амбразуре окна.
– И какие вы делаете выводы из всего этого? – помолчав, спросила она.
– Это такая загадка для меня, – ответил он, – я даже не знаю, что и думать; но во мраке неизвестности я могу нащупать путь к двум предположениям, которые кажутся мне почти несомненными фактами.
– И это…
– Во-первых, Джордж Толбойс никогда не уезжал дальше Саутгемптона. А во-вторых, не надо забывать, что он вообще не ездил в Саутгемптон.
– Но вы проследили его там. Его тесть видел его.
– У меня есть причины сомневаться в честности его тестя.
– Великий боже! – с сожалением воскликнула госпожа. – Что вы имеете в виду?
– Леди Одли, – мрачно промолвил молодой человек, – я никогда не практиковал в качестве адвоката. Я вступил в ряды профессии, на членов которой возложена большая ответственность и священные обязанности; я уклонялся от этой ответственности и обязанностей так же, как от всех тягот этой суетной жизни: но иногда мы оказываемся вовлеченными в то, чего более всего избегали, и в последнее время я обнаружил, что вынужден думать об этих вещах. Леди Одли, вы когда-нибудь изучали теорию косвенных улик?
– Как вы можете спрашивать бедную женщину о таких ужасных вещах? – возмутилась она.
– Косвенные улики, – продолжал молодой человек, как будто не слыша ее восклицания, – это удивительное полотно, сотканное из нитей, протянутых из каждой точки окружности, и достаточно крепкое, чтобы повесить человека. За какими незначительными, казалось бы, пустяками кроется порой разгадка какой-нибудь ужасной тайны, которую до сих пор не могли раскрыть умнейшие из умных! Кусочек бумаги, лоскут порванной одежды, пуговица от пальто, слово, неосторожно сорвавшееся с виновных губ, отрывок из письма, закрытая или открытая дверь, тень в окне, точность момента, тысяча незначительных обстоятельств, забытых преступником, но все это – стальные звенья удивительной цепи, которая куется знанием детектива, и в итоге – виселица построена, в мрачном тумане серого утра звонит колокол, помост скрипит под ногами осужденного, и преступление наказывается.
Легкие тени зеленого и алого упали на госпожу из окна с разноцветным стеклом, у которого она сидела; все естественные краски сошли с ее лица, оно стало пепельно-серым.
Откинув голову на подушки и безвольно уронив на колени руки, леди Одли потеряла сознание.
– С каждым днем круг сужается, – медленно произнес Роберт Одли. – Джордж Толбойс никогда не ездил в Саутгемптон.
Глава 16. Роберту указали на дверь
Рождественская неделя закончилась, и гости, один за другим, разъезжались из Одли-Корта. Толстый сквайр и его жена покинули серую комнату с гобеленами, оставив чернобровых воинов хмуриться со своей стены и угрожать новым гостям или же мстительно окидывать свирепым взглядом пустые апартаменты. Веселые девушки-хохотушки на втором этаже упаковывали в сундуки смятые бальные платья из тончайшей прозрачной материи. Старинные семейные дребезжащие экипажи, запряженные лошадьми, которым приходилось выполнять более тяжелую работу, чем кататься по ровным дорогам графства, были поданы во двор к сурового вида дубовой двери и нагружены всевозможным дамским багажом. Хорошенькие румяные лица выглядывали из окошек, чтобы улыбнуться на прощанье стоявшим у двери хозяевам, пока экипажи с грохотом проезжали под увитой плющом аркой. Сэр Майкл был всеобщим любимцем. Он пожимал руки юным спортсменам, целовался с румяными девушками, иногда даже обнимал солидных матрон, которые хотели выразить ему благодарность за приятно проведенное время; радушный, гостеприимный, щедрый, счастливый и любимый всеми баронет спешил из комнаты в комнату, из холла в конюшни, из конюшен во двор, оттуда к воротам, чтобы успеть проводить своих гостей. В эти прощальные дни золотистые локоны госпожи мелькали тут и там, словно блуждающие солнечные блики. Ее огромные голубые глаза были печальны и очаровательно гармонировали с мягким пожатием ее маленькой руки и дружескими, возможно, немного стереотипными словами о том, что ей так жаль терять своих гостей, и что она места себе не найдет, пока они не приедут снова, чтобы оживить Корт своим обществом.
Но как ни жаль было госпоже расставаться со своими гостями, был по крайней мере один, чьего общества она не лишалась. Роберт Одли не выказывал намерения покинуть дом своего дяди. У него не было никаких обязанностей, говорил он, и потом, если в жаркую погоду Фигтри-Корт была тениста и прохладна, то в зимние месяцы там задували резкие ветра, неся с собой ревматизм и простуду. И все были так добры к нему в Корте, что он совсем не был склонен уезжать отсюда.
У сэра Майкла на это был один ответ: «Оставайся, мой дорогой мальчик, оставайся, мой дорогой Боб, сколько пожелаешь. Ты мне как сын. Подружись с Люси, и пусть Корт на всю жизнь будет твоим домом».
В ответ Роберт только с чувством пожимал руку дяди, бормоча что-то о «славном старом князе».
Следует заметить, что иногда в голосе молодого человека появлялась смутная печаль, когда он называл сэра Майкла «славным старым князем»; неясная тень нежного сожаления затуманивала глаза Роберта, когда он, сидя в углу комнаты, смотрел на убеленного сединой баронета.
Прежде чем отбыл последний из молодых спортсменов, сэр Гарри Тауэрс потребовал и получил аудиенцию у мисс Алисии Одли в библиотеке; при свидании он выразил так много чувств, и столь неподдельно искренних, что Алисия разрыдалась, отвечая ему, что будет вечно почитать и уважать его за честное и благородное сердце, но он никогда, никогда, никогда не должен (если не желал причинить ей страдание) просить у нее более, чем это почитание и уважение.
Сэр Гарри вышел из библиотеки через стеклянную дверь в сад. Он побрел по той самой липовой аллее, так похожей на кладбище, и под деревьями, с которых давно облетела листва, повел сражение со своим юным храбрым сердцем.
– И что я за дурак, что так переживаю! – кричал он, топая ногой о замерзшую землю. – Я всегда знал, что так и будет, я всегда знал, что она слишком хороша для меня. Благослови ее Боже! Как благородно и нежно она говорила со мной, как прекрасна она была с этим пылающим румянцем на смуглой коже и слезами в огромных серых глазах – почти так же прекрасна, как в тот день, когда одолела тот поваленный забор и позволила мне приколоть лисий хвост к ее шляпе, когда мы ехали домой! Благослови ее Боже! Я мог бы вынести что угодно, но только не ее привязанность к этому трусливому законнику. Этого я снести не в силах.
Под «этим трусливым законником» сэр Гарри подразумевал мистера Роберта Одли, который стоял в холле и внимательно изучал карту центральных графств, когда Алисия вышла из библиотеки с заплаканными глазами после разговора с охотником за лисами.
Роберт, который был близорук, почти касался карты носом, когда юная леди приблизилась к нему.
– Да, – произнес он, – Норвич действительно находится в Норфолке, а этот дурак, молодой Винсент, говорил, что он в Хертфордшире. О, Алисия, вы ли это?
– Доусон – неплохой человек, не так ли? – небрежно спросил Роберт.
Госпожа залилась смехом.
– Самый лучший на свете, – подтвердила она. – Он платил мне двадцать пять фунтов в год – только представьте. Я хорошо помню, как получала деньги – шесть старых тусклых соверенов и маленькую кучку неопрятного, грязного серебра, только что полученного от пациентов! Но тогда я была так рада получить их, в то время как сейчас – не могу не смеяться, вспомнив об этом – эти краски стоят по гинее каждая, кармин и ультрамарин по тридцать шиллингов. Вчера я отдала миссис Доусон одно из моих шелковых платьев, бедняжка расцеловала меня, и врач нес узелок домой, спрятав его под плащом.
Госпожа долго и весело смеялась. Краски были смешаны, она срисовывала акварельный этюд, изображающий до невозможности красивого итальянского крестьянина в манере Тернера. Рисунок был почти закончен, ей оставалось только добавить несколько легких штрихов самой тонкой из своих кисточек. Она изящно подняла кисть, вглядываясь в картину.
Глаза Роберта Одли не отрывались от ее хорошенького лица.
– Это действительно перемена, – промолвил он после большой паузы, во время которой госпожа могла забыть, о чем говорила. – И большая перемена! Некоторые женщины пошли бы на что угодно, чтобы совершить такую перемену.
Ясные голубые глаза леди Одли расширились, она не отрываясь смотрела на молодого адвоката.
Зимнее солнце, осветив ее лицо из бокового окошка, озарило лазурью ее прекрасные глаза, пока не начало казаться, что они мерцают, становясь то голубыми, то зелеными, как опаловые оттенки моря изменяются в летний день. Маленькая кисточка выпала из ее руки, и алое пятно закрыло лицо крестьянина.
Роберт Одли нежно разглаживал скомканный лист табака своими осторожными пальцами.
– Мой друг на углу Ченсери-Лейн дал мне не такой хороший табак, как обычно, – бормотал он. – Если вы когда-нибудь закурите, моя дорогая тетушка, будьте очень осторожны, выбирая сигары.
Госпожа глубоко вздохнула, подняла кисточку и громко засмеялась, услышав совет Роберта:
– Как вы эксцентричны, мистер Одли! Знаете, иногда вы озадачиваете меня…
– Не больше, чем озадачиваете меня вы, моя дорогая тетушка.
Госпожа отложила краски и альбом и, перейдя к другому окну, на значительное расстояние от Роберта Одли, уселась в его глубокой нише и занялась вышиванием.
Теперь Роберт сидел далеко от госпожи, в другом конце комнаты, и только временами видел ее прекрасное лицо, окруженное ярким ореолом золотистых волос.
Уже с неделю находился он в Корте, но ни разу ни он, ни госпожа не упоминали имени Джорджа Толбойса.
Этим же утром, исчерпав все темы для разговора, Люси Одли осведомилась о друге своего племянника.
– Этот мистер Джордж… Джордж… – начала она, запинаясь.
– Толбойс, – подсказал Роберт.
– Да, точно – мистер Джордж Толбойс. Кстати, довольно необычное имя и, без сомнения, странная личность. Вы видели его в последнее время?
– Я не видел его с седьмого сентября, с того самого дня, когда он оставил меня спящим на лугу, недалеко от деревни.
– Бог мой! – удивилась госпожа. – Какой, должно быть, чудак этот мистер Джордж Толбойс! Расскажите мне о нем.
Вкратце Роберт рассказал ей о своих поездках в Саутгемптон и Ливерпуль с прямо противоположными результатами; госпожа слушала его очень внимательно.
Чтобы лучше рассказывать, молодой человек оставил свое место, прошел в другой конец комнаты и сел напротив леди Одли в амбразуре окна.
– И какие вы делаете выводы из всего этого? – помолчав, спросила она.
– Это такая загадка для меня, – ответил он, – я даже не знаю, что и думать; но во мраке неизвестности я могу нащупать путь к двум предположениям, которые кажутся мне почти несомненными фактами.
– И это…
– Во-первых, Джордж Толбойс никогда не уезжал дальше Саутгемптона. А во-вторых, не надо забывать, что он вообще не ездил в Саутгемптон.
– Но вы проследили его там. Его тесть видел его.
– У меня есть причины сомневаться в честности его тестя.
– Великий боже! – с сожалением воскликнула госпожа. – Что вы имеете в виду?
– Леди Одли, – мрачно промолвил молодой человек, – я никогда не практиковал в качестве адвоката. Я вступил в ряды профессии, на членов которой возложена большая ответственность и священные обязанности; я уклонялся от этой ответственности и обязанностей так же, как от всех тягот этой суетной жизни: но иногда мы оказываемся вовлеченными в то, чего более всего избегали, и в последнее время я обнаружил, что вынужден думать об этих вещах. Леди Одли, вы когда-нибудь изучали теорию косвенных улик?
– Как вы можете спрашивать бедную женщину о таких ужасных вещах? – возмутилась она.
– Косвенные улики, – продолжал молодой человек, как будто не слыша ее восклицания, – это удивительное полотно, сотканное из нитей, протянутых из каждой точки окружности, и достаточно крепкое, чтобы повесить человека. За какими незначительными, казалось бы, пустяками кроется порой разгадка какой-нибудь ужасной тайны, которую до сих пор не могли раскрыть умнейшие из умных! Кусочек бумаги, лоскут порванной одежды, пуговица от пальто, слово, неосторожно сорвавшееся с виновных губ, отрывок из письма, закрытая или открытая дверь, тень в окне, точность момента, тысяча незначительных обстоятельств, забытых преступником, но все это – стальные звенья удивительной цепи, которая куется знанием детектива, и в итоге – виселица построена, в мрачном тумане серого утра звонит колокол, помост скрипит под ногами осужденного, и преступление наказывается.
Легкие тени зеленого и алого упали на госпожу из окна с разноцветным стеклом, у которого она сидела; все естественные краски сошли с ее лица, оно стало пепельно-серым.
Откинув голову на подушки и безвольно уронив на колени руки, леди Одли потеряла сознание.
– С каждым днем круг сужается, – медленно произнес Роберт Одли. – Джордж Толбойс никогда не ездил в Саутгемптон.
Глава 16. Роберту указали на дверь
Рождественская неделя закончилась, и гости, один за другим, разъезжались из Одли-Корта. Толстый сквайр и его жена покинули серую комнату с гобеленами, оставив чернобровых воинов хмуриться со своей стены и угрожать новым гостям или же мстительно окидывать свирепым взглядом пустые апартаменты. Веселые девушки-хохотушки на втором этаже упаковывали в сундуки смятые бальные платья из тончайшей прозрачной материи. Старинные семейные дребезжащие экипажи, запряженные лошадьми, которым приходилось выполнять более тяжелую работу, чем кататься по ровным дорогам графства, были поданы во двор к сурового вида дубовой двери и нагружены всевозможным дамским багажом. Хорошенькие румяные лица выглядывали из окошек, чтобы улыбнуться на прощанье стоявшим у двери хозяевам, пока экипажи с грохотом проезжали под увитой плющом аркой. Сэр Майкл был всеобщим любимцем. Он пожимал руки юным спортсменам, целовался с румяными девушками, иногда даже обнимал солидных матрон, которые хотели выразить ему благодарность за приятно проведенное время; радушный, гостеприимный, щедрый, счастливый и любимый всеми баронет спешил из комнаты в комнату, из холла в конюшни, из конюшен во двор, оттуда к воротам, чтобы успеть проводить своих гостей. В эти прощальные дни золотистые локоны госпожи мелькали тут и там, словно блуждающие солнечные блики. Ее огромные голубые глаза были печальны и очаровательно гармонировали с мягким пожатием ее маленькой руки и дружескими, возможно, немного стереотипными словами о том, что ей так жаль терять своих гостей, и что она места себе не найдет, пока они не приедут снова, чтобы оживить Корт своим обществом.
Но как ни жаль было госпоже расставаться со своими гостями, был по крайней мере один, чьего общества она не лишалась. Роберт Одли не выказывал намерения покинуть дом своего дяди. У него не было никаких обязанностей, говорил он, и потом, если в жаркую погоду Фигтри-Корт была тениста и прохладна, то в зимние месяцы там задували резкие ветра, неся с собой ревматизм и простуду. И все были так добры к нему в Корте, что он совсем не был склонен уезжать отсюда.
У сэра Майкла на это был один ответ: «Оставайся, мой дорогой мальчик, оставайся, мой дорогой Боб, сколько пожелаешь. Ты мне как сын. Подружись с Люси, и пусть Корт на всю жизнь будет твоим домом».
В ответ Роберт только с чувством пожимал руку дяди, бормоча что-то о «славном старом князе».
Следует заметить, что иногда в голосе молодого человека появлялась смутная печаль, когда он называл сэра Майкла «славным старым князем»; неясная тень нежного сожаления затуманивала глаза Роберта, когда он, сидя в углу комнаты, смотрел на убеленного сединой баронета.
Прежде чем отбыл последний из молодых спортсменов, сэр Гарри Тауэрс потребовал и получил аудиенцию у мисс Алисии Одли в библиотеке; при свидании он выразил так много чувств, и столь неподдельно искренних, что Алисия разрыдалась, отвечая ему, что будет вечно почитать и уважать его за честное и благородное сердце, но он никогда, никогда, никогда не должен (если не желал причинить ей страдание) просить у нее более, чем это почитание и уважение.
Сэр Гарри вышел из библиотеки через стеклянную дверь в сад. Он побрел по той самой липовой аллее, так похожей на кладбище, и под деревьями, с которых давно облетела листва, повел сражение со своим юным храбрым сердцем.
– И что я за дурак, что так переживаю! – кричал он, топая ногой о замерзшую землю. – Я всегда знал, что так и будет, я всегда знал, что она слишком хороша для меня. Благослови ее Боже! Как благородно и нежно она говорила со мной, как прекрасна она была с этим пылающим румянцем на смуглой коже и слезами в огромных серых глазах – почти так же прекрасна, как в тот день, когда одолела тот поваленный забор и позволила мне приколоть лисий хвост к ее шляпе, когда мы ехали домой! Благослови ее Боже! Я мог бы вынести что угодно, но только не ее привязанность к этому трусливому законнику. Этого я снести не в силах.
Под «этим трусливым законником» сэр Гарри подразумевал мистера Роберта Одли, который стоял в холле и внимательно изучал карту центральных графств, когда Алисия вышла из библиотеки с заплаканными глазами после разговора с охотником за лисами.
Роберт, который был близорук, почти касался карты носом, когда юная леди приблизилась к нему.
– Да, – произнес он, – Норвич действительно находится в Норфолке, а этот дурак, молодой Винсент, говорил, что он в Хертфордшире. О, Алисия, вы ли это?