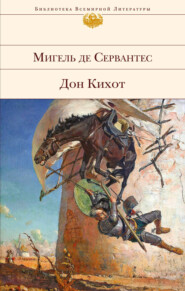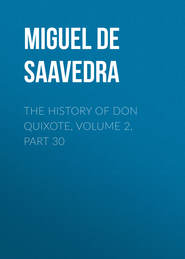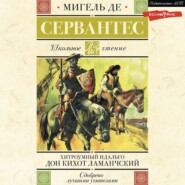По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дон Кихот Ламанчский. Том I. Перевод Алексея Козлова
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Блаженны те и блажен тот век, коий древние назвали золотым! И не потому, что в те времена золото, которое в наш железный век так высоко ценится, в ту пору просто валялось на дороге, но потому, что тогда те, кто жил в нём, игнорировали и не знали эти два слова: «Твоё» и «Моё»: в тот священный век всё у них было общим. Никто ни в чём не нуждался, чтобы насытиться и иметь любую вещь, не надо было ничего делать, кроме как поднять руку и протянуть её к большому дубу, ветви с которого ласково протягивали и угощали всех сладким, уже приправленным плодом. Разнообразные прозрачные и чистые источники и реки в великолепном изобилии предлагали вкусные, целительные и прозрачные воды. В скалах и на деревьях образовалась дружные колонии добрых, трудолюбивых и сдержанных пчел, предлагая любой руке, без какого-либо шкурного интереса, сладкий итог его неунывной работы!
Храбрецы лесов, пробковые дубы, с радостью прощались с корой своей, без всякой другой надобности, кроме их прекрасного воспитания и вежливости, предоставляя свою лёгкую и прочную кору крышам домов, дабы они покрылись этим сокровищем, и кора эта была так уместна на деревенских кольях, поддерживающих кровлю, всего лишь ради того, чтобы защитить себя от ненастного и безжалостного неба. Тогда везде царили мир, дружба и согласие. Тяжелый лемех кривого плуга еще не осмелился отверзать и отваливать благочестивые внутренности нашей первой Земли-Праматери, которые она, свободно и естественно, предлагала всему окружающему, только ради того, чтобы умилостивить, поддерживать и радовать малых детей своих, которые тогда владели ею. Тогда да, по долинам и по взгорьям бродили простоволосые и прелестные пастушки, из долины в долину и едва-едва прикрывая мизерными своими одеждами лишь то, что воистину необходимо прикрыть, прикрывая лишь стыд, с цветущими венками на неприкрытых головах, без всяких новоявленных прибамбасов, какие теперь вошли в моду у столичных модниц и отделка коих представлена тирским пурпуром и китайским шёлком, ношение которых является сущей пыткой и наказанием, хотя в этих нарядах они были так же прекрасны и изумительны, как наши светские дамы и куртизанки, увлекающиеся выдумыванием всяких безумных финтифлюшек и затей, которые продиктованы жестой и хищной модой, а также и постоянной праздностью, превращающей жизнь человека в скучный, усыпительный ритуал!
В то время порывы любящих сердец выражались просто и сердечно, в той форме, в какой они выплеснулись из сердца и не были преукрашены чрезмерной искусственностью!
Не было ни обмана, ни лицемерия, ни злобы, смешанной с истиной и добротой. Справедливость и Законность оставались нетронутыми коррупцией, их не оскорбляли и не унижали пристрастием или предвзятостью, которые и доныне рушат их и наносят ущерб, преследуя и разрушая основы общества. Закон произвола ещё не обосновался в мантии судьи, потому что тогда не было ни того, что судить, ни того, кого судить. Чистые Девы, как я уже говорил, бродили везде без охраны и присмотра, не испытывая страха перед неизвестностью, не опасаясь что чужая дерзкая и непримиримая похоть может оскорбить их, и лишались невинности только по собственной инициативе. И только сейчас, в эти ужасные века, им ни в чём нельзя быть уверенным, нигде и ни от кого у них нет защиты, даже если они начнут прятать свою девственность в какой-нибудь еще один новый лабиринт, похожий на Критский лабиринт Мидаса, потому что и туда, по пролескам или по воздуху, по каналам светского общения к ним проникает любовная зараза и лихорадка, заполняя всё пространство и влезая через все поры во все щели и растляя всё на своём пути.
Со временем зло и произвол заполнили весь мир, и чем больше проходило времени, тем больше было в мире зла, и вот для того, чтобы вернуть в мир осмысленность и безопасность, и был учрежден орден Бродячих Рыцарей, учреждён как инструмент защиты девушек-служанок, бедных вдов, как орган вспоможествования сиротам и потворства нуждающимся. Так вот, я, братья козлопасы, принадлежа к нему всецело, благодарю вас за вашу немалую доброту и гостеприимство, которые вы оказали мне, равно как и моему оруженосцу, что отмечено мной на скрижалях мировой истории и, хотя по естественному закону всё, что живёт и движется под Солнцем, обязано благоволить к Бродячим рыцарям и оказывать им приют и гостеприимство, то, что вы, не зная ничего этого, приняли меня воздали мне почести, это причина, по которой я своей волей, по возможности, благодарю вас за вашу неизреченную доброту!
Все эти длинные словесные лохмотья, которые можно было бы вовсе не произносить, а если уж начал говорить – сказать покороче, но наш джентльмен вывалил на своих слушателей всё до последнего слова, потому что жёлуди, которые ему дали, заставили его вспомнить золотой век человечества, и он хотел донести эту бесполезную тарабарщину до бедных козлопасов, которые, с изумлёнными вытянувшимися физиономиями, не отвечая ни слова на его разглагольствования, сопровождали его речь только вздохами и негромким сопением. Санчо дипломатично помалкивал, грыз жёлуди и очень часто прикладывался ко второму бурдючку, который, чтобы не слишком нагревался, был подвешен козопасами на дубовый сук. Теперь дон Кихот говорил медленнее, чем до ужина, к концу его излияний один из козлопасов сказал:
– Для того, чтобы с большей истинностью вы, господин странствующий рыцарь, могли сказать, что мы приняли вас со всем вниманием и доброй волей, мы хотим дать вам утешение и удовлетворить вас пением нашего товарища, оно не займёт много времени, он скоро прибудет сюда, человек он талантливый, чувствительный, и прежде всего умеет читать и писать, а уж как на рабеле играет – просто заслушаешься!
Едва козопас кончил свои речения, как издали донеслись звуки рабеля, и вскоре пришел тот, кто на нём наигрывал, юноша лет двадцати – двадцати двух, очень приятный в общении и притом довольно красивой наружности. Козопасы спросили, ужинал ли он, и он ответил, что да, ужинал, тогда тот, кто рассказал о его пении, обратился к парню:
– Раз так, Антонио, ты бы не мог доставить нам удовольствие и немного спеть, чтобы господин-гость, постоянно блуждающий в горах и джунглях, убедился, что мы не увальни какие-то, и иногда кое-чего соображаем в музыке? Наш гость уже знает о твоих способностях, и мы хотим, чтобы ты показал себя как можно лучше, и я молюсь, чтобы ты спел нам романс о своих чувствах, тот, который сочинил тебе твой дядя-священник, который в народе – очень уважаемый человек!
– Да, с превеликим удовольствием! – ответил парень.
И, не тратя времени впустую, он сел на ствол дуба, и, закашлявшись, медленно, приятным голосом, начал петь:
АНТОНИО
Обожай меня, Олалла!
Не сказала мне об этом
Ты своим влюблённым взором,
Языком любви безгласым!
Ты мудра! Ты знаешь это!
И я знаю, что ты любишь!
И скрывать любовь не надо,
Если всем о ней известно!
Это правда, что порою
Олалла, ты уверяла
Что душа твоя из бронзы,
Белы мраморные перси.
Даже средь твоих упрёков
И уклончивости хладной,
Огоньком горит надежда
Край одежды твоей видеть!
Для меня она, как знамя,
Моя вера, хоть не знаю,
В торжестве ли быть, что избран,
Или плакать, что отвергнут!
Коль в любви важна учтивость,
Как взаимности примета,
То во мне живёт надежда,
Что всё сбудется во благо.
Говорят, что коль награда
Причитается за верность,
У меня есть основанье
Попросить о ней у милой.
Ты уже могла отметить,
Если не слепа, конечно,
Что уже хожу по будням
Я в воскресных одеяньях.
Что любовь без облаченья?
Потому я одеваюсь
В свои лучшие одежды,
Что с тобой желаю встречи!
Помнишь яростные танцы,
Помнишь сладостное пенье,
Коим тешил я с заката
И до утреннего Солнца?
О твоей красе нездешней
Отовсюду пел я миру,
И нажил врагов немало
Этой песней откровенной.
Мне в ответ одна подруга
Вдруг сказала в Баркароле:
«Есть такие, что в макаке
Могут ангела увидеть!
Мудрено ль водить Амура
Вокруг трёх обманных сосен
И дурить его наивность
Накладными волосами?»
Я взорвался! Та – в рыданье!
Брат двоюродный во гневе
Стал со мною разбираться.
Что ты думаешь, я сделал?
За тобой приударяю
Не затем, чтоб наслажденьям
Мне с тобой пришлось предаться!
Нет, чисты мои позывы!
Я хочу, чтоб наша церковь
Нас в клубок один скрутила
Только не сопротивляйся,
Угодив в силок любовный!
Не по-моему коль станет,
Я клянусь тебе, Олайя,
То придётся мне, Олайя
Кануть в дебрях монастырских!
На этом пастушья песнь завершилась.
И хотя Дон Кихот умолял пастушка спеть ещё что-нибудь, Санчо ни в какую не соглашался с ним, потому ему больше хотелось спать, чем слушать песни, и он сказал своему хозяину:
– Ваша милость, уже пора укладываться спать, почти всю ночь мы тут куролесим, эти люди не для того работают целыми днями, чтобы распевать по ночам!
– Я понимаю тебя, Санчо, – ответил дон Кихот, – и вижу, что постоянные визиты к винному бурдючку удовлетворяются в большей степени сном, чем музыкой!
Храбрецы лесов, пробковые дубы, с радостью прощались с корой своей, без всякой другой надобности, кроме их прекрасного воспитания и вежливости, предоставляя свою лёгкую и прочную кору крышам домов, дабы они покрылись этим сокровищем, и кора эта была так уместна на деревенских кольях, поддерживающих кровлю, всего лишь ради того, чтобы защитить себя от ненастного и безжалостного неба. Тогда везде царили мир, дружба и согласие. Тяжелый лемех кривого плуга еще не осмелился отверзать и отваливать благочестивые внутренности нашей первой Земли-Праматери, которые она, свободно и естественно, предлагала всему окружающему, только ради того, чтобы умилостивить, поддерживать и радовать малых детей своих, которые тогда владели ею. Тогда да, по долинам и по взгорьям бродили простоволосые и прелестные пастушки, из долины в долину и едва-едва прикрывая мизерными своими одеждами лишь то, что воистину необходимо прикрыть, прикрывая лишь стыд, с цветущими венками на неприкрытых головах, без всяких новоявленных прибамбасов, какие теперь вошли в моду у столичных модниц и отделка коих представлена тирским пурпуром и китайским шёлком, ношение которых является сущей пыткой и наказанием, хотя в этих нарядах они были так же прекрасны и изумительны, как наши светские дамы и куртизанки, увлекающиеся выдумыванием всяких безумных финтифлюшек и затей, которые продиктованы жестой и хищной модой, а также и постоянной праздностью, превращающей жизнь человека в скучный, усыпительный ритуал!
В то время порывы любящих сердец выражались просто и сердечно, в той форме, в какой они выплеснулись из сердца и не были преукрашены чрезмерной искусственностью!
Не было ни обмана, ни лицемерия, ни злобы, смешанной с истиной и добротой. Справедливость и Законность оставались нетронутыми коррупцией, их не оскорбляли и не унижали пристрастием или предвзятостью, которые и доныне рушат их и наносят ущерб, преследуя и разрушая основы общества. Закон произвола ещё не обосновался в мантии судьи, потому что тогда не было ни того, что судить, ни того, кого судить. Чистые Девы, как я уже говорил, бродили везде без охраны и присмотра, не испытывая страха перед неизвестностью, не опасаясь что чужая дерзкая и непримиримая похоть может оскорбить их, и лишались невинности только по собственной инициативе. И только сейчас, в эти ужасные века, им ни в чём нельзя быть уверенным, нигде и ни от кого у них нет защиты, даже если они начнут прятать свою девственность в какой-нибудь еще один новый лабиринт, похожий на Критский лабиринт Мидаса, потому что и туда, по пролескам или по воздуху, по каналам светского общения к ним проникает любовная зараза и лихорадка, заполняя всё пространство и влезая через все поры во все щели и растляя всё на своём пути.
Со временем зло и произвол заполнили весь мир, и чем больше проходило времени, тем больше было в мире зла, и вот для того, чтобы вернуть в мир осмысленность и безопасность, и был учрежден орден Бродячих Рыцарей, учреждён как инструмент защиты девушек-служанок, бедных вдов, как орган вспоможествования сиротам и потворства нуждающимся. Так вот, я, братья козлопасы, принадлежа к нему всецело, благодарю вас за вашу немалую доброту и гостеприимство, которые вы оказали мне, равно как и моему оруженосцу, что отмечено мной на скрижалях мировой истории и, хотя по естественному закону всё, что живёт и движется под Солнцем, обязано благоволить к Бродячим рыцарям и оказывать им приют и гостеприимство, то, что вы, не зная ничего этого, приняли меня воздали мне почести, это причина, по которой я своей волей, по возможности, благодарю вас за вашу неизреченную доброту!
Все эти длинные словесные лохмотья, которые можно было бы вовсе не произносить, а если уж начал говорить – сказать покороче, но наш джентльмен вывалил на своих слушателей всё до последнего слова, потому что жёлуди, которые ему дали, заставили его вспомнить золотой век человечества, и он хотел донести эту бесполезную тарабарщину до бедных козлопасов, которые, с изумлёнными вытянувшимися физиономиями, не отвечая ни слова на его разглагольствования, сопровождали его речь только вздохами и негромким сопением. Санчо дипломатично помалкивал, грыз жёлуди и очень часто прикладывался ко второму бурдючку, который, чтобы не слишком нагревался, был подвешен козопасами на дубовый сук. Теперь дон Кихот говорил медленнее, чем до ужина, к концу его излияний один из козлопасов сказал:
– Для того, чтобы с большей истинностью вы, господин странствующий рыцарь, могли сказать, что мы приняли вас со всем вниманием и доброй волей, мы хотим дать вам утешение и удовлетворить вас пением нашего товарища, оно не займёт много времени, он скоро прибудет сюда, человек он талантливый, чувствительный, и прежде всего умеет читать и писать, а уж как на рабеле играет – просто заслушаешься!
Едва козопас кончил свои речения, как издали донеслись звуки рабеля, и вскоре пришел тот, кто на нём наигрывал, юноша лет двадцати – двадцати двух, очень приятный в общении и притом довольно красивой наружности. Козопасы спросили, ужинал ли он, и он ответил, что да, ужинал, тогда тот, кто рассказал о его пении, обратился к парню:
– Раз так, Антонио, ты бы не мог доставить нам удовольствие и немного спеть, чтобы господин-гость, постоянно блуждающий в горах и джунглях, убедился, что мы не увальни какие-то, и иногда кое-чего соображаем в музыке? Наш гость уже знает о твоих способностях, и мы хотим, чтобы ты показал себя как можно лучше, и я молюсь, чтобы ты спел нам романс о своих чувствах, тот, который сочинил тебе твой дядя-священник, который в народе – очень уважаемый человек!
– Да, с превеликим удовольствием! – ответил парень.
И, не тратя времени впустую, он сел на ствол дуба, и, закашлявшись, медленно, приятным голосом, начал петь:
АНТОНИО
Обожай меня, Олалла!
Не сказала мне об этом
Ты своим влюблённым взором,
Языком любви безгласым!
Ты мудра! Ты знаешь это!
И я знаю, что ты любишь!
И скрывать любовь не надо,
Если всем о ней известно!
Это правда, что порою
Олалла, ты уверяла
Что душа твоя из бронзы,
Белы мраморные перси.
Даже средь твоих упрёков
И уклончивости хладной,
Огоньком горит надежда
Край одежды твоей видеть!
Для меня она, как знамя,
Моя вера, хоть не знаю,
В торжестве ли быть, что избран,
Или плакать, что отвергнут!
Коль в любви важна учтивость,
Как взаимности примета,
То во мне живёт надежда,
Что всё сбудется во благо.
Говорят, что коль награда
Причитается за верность,
У меня есть основанье
Попросить о ней у милой.
Ты уже могла отметить,
Если не слепа, конечно,
Что уже хожу по будням
Я в воскресных одеяньях.
Что любовь без облаченья?
Потому я одеваюсь
В свои лучшие одежды,
Что с тобой желаю встречи!
Помнишь яростные танцы,
Помнишь сладостное пенье,
Коим тешил я с заката
И до утреннего Солнца?
О твоей красе нездешней
Отовсюду пел я миру,
И нажил врагов немало
Этой песней откровенной.
Мне в ответ одна подруга
Вдруг сказала в Баркароле:
«Есть такие, что в макаке
Могут ангела увидеть!
Мудрено ль водить Амура
Вокруг трёх обманных сосен
И дурить его наивность
Накладными волосами?»
Я взорвался! Та – в рыданье!
Брат двоюродный во гневе
Стал со мною разбираться.
Что ты думаешь, я сделал?
За тобой приударяю
Не затем, чтоб наслажденьям
Мне с тобой пришлось предаться!
Нет, чисты мои позывы!
Я хочу, чтоб наша церковь
Нас в клубок один скрутила
Только не сопротивляйся,
Угодив в силок любовный!
Не по-моему коль станет,
Я клянусь тебе, Олайя,
То придётся мне, Олайя
Кануть в дебрях монастырских!
На этом пастушья песнь завершилась.
И хотя Дон Кихот умолял пастушка спеть ещё что-нибудь, Санчо ни в какую не соглашался с ним, потому ему больше хотелось спать, чем слушать песни, и он сказал своему хозяину:
– Ваша милость, уже пора укладываться спать, почти всю ночь мы тут куролесим, эти люди не для того работают целыми днями, чтобы распевать по ночам!
– Я понимаю тебя, Санчо, – ответил дон Кихот, – и вижу, что постоянные визиты к винному бурдючку удовлетворяются в большей степени сном, чем музыкой!