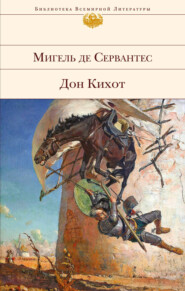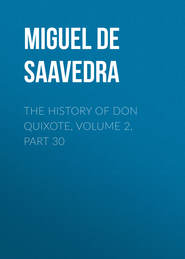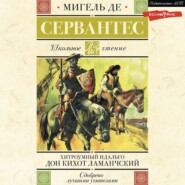По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дон Кихот Ламанчский. Том I. Перевод Алексея Козлова
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что касается примечаний, которые придадут вашей писанине вид серьёзных сочинений, то вы можете сделать это по такой схеме: если в вашей книге поселится какой-нибудь несусветный гигант, с места в карьер назовите гиганта Голиафом, и только так, это проще пареной репы, а пользы – воз и маленькая тележка, ведь у вас сразу появляется возможность для развёрнутого примечания, что де гигант этот тот самый Голиас, или Голиаф, как хотите, филистимлянин, коего пастушок Давид убил большим булыжником, выпущённым из пращи, в долине Требинто, как говорится в Книге Царей, в главе, которую вы найдете там, где ей надлежит быть. После этого, коль вам приспичит отличиться и в светских науках, а быть может и прослыть космографом, сделайте так, чтобы в вашей истории, как и во всех остальных невесть откуда выкатилась чудная река Тахо, а затем можете развернуться потрясной, цветистой картиной, типа:
«Река Та-Хо была так сказать, названа в честь неизвестного испанского короля, своим истоком имеет такое-то дремучее местечко и умирает в Море-Окияне, целуя стены знаменитого города Лиссабона, и, по мнению некоторых знатоков, несёт в себе преобильные золотые пески, которые…» ну… и так далее и тому подобное.
Если речь зайдёт о разбойниках, а как уж тут без них, родимых, я подскажу вам вот что – вставьте в свой роман историю Злого Како, я знаю его, как облупленного; а ежели вам вынь да положь блудниц, пожалуйста, вот вам епископ Мондоньедо, который одолжит вам и Ламию, и Лайду и Флору, а ссылка на него сделает вас в глазах окружающих философом с большой буквы; если вам по вкусу всякое зверство и жестокость, тут Овидий мгновенно отдаст вас Медее; нужны чародеи колдуны, пожалуйста, их есть у нас, у Гомера – его Калипсо, а у Вергилия – Цирцея; если же вы записной храбрец, Юлий Цезарь весь от макушки до пят отдастся вам в своих комментариях, а Плутарх выплеснет на вас сразу тысячу Александров. Зайди речь о любви, и знай вы даже всего лишь пару Тосканских словечек, вы сразу столкнетесь с Иудеем-Львом, который в этой кухне толк знает, только держитесь от его придумок. Если вы домосед и вас не тянет скитаться по чужим странам с ломаным медяком в кармане, у вас в доме точно отыщется затёртый Фонсека, его «Любовь Божья», которая удовлетворит все потребности и более потрясающего знатока, чем вы. Итак, вам остаётся только побряцать в волю именами, которые я вам тут накидал, и через слово всё время кивать на их произведения; сноски же и примечания оставьте мне на закуску, и я вам головой ручаюсь, что поля вашей повести не будут иметь живого места от моих несносных сносок, а примечания займут множество страниц в конце текста!
Давайте теперь вернёмся к списку авторов, которые есть в других книгах, и которых в вашей не хватает. Средство, которое у вас есть, очень легкодоступное, потому что вам не нужно ничего делать, кроме как найти книгу, которая содержит их все, от А до Я, как вам и нужно. Ну, тот же список вставьте в свою книгу; и неважно, что всё это – обман, потому что из-за той малой необходимости, которую вы имели к использованию этих авторов, это небудет иметь никакого значения, и, возможно, найдётся простаки, которые поверят, что вы только и делали, что воспользовались в своей простой и бесхитростной книге чужой мудростью. И даже если это не послужит истине, по крайней мере, этот длинный список авторов придаст вашей книге невиданный авторитет. И более того, не будет никого, кто станет выяснять, следовали ли вы за этими авторами или не следовали за ними, разница не велика; тем более, что, хотя я обращаю ваше внимание, что эта книга не нуждается ни в ком из тех, о ком вы говорите, они ей совершенно не нужны, ибо в ней всё от первой до последней буквы направлено против рыцарских романов, о которых даже в самом страшном сне не вспоминал Аристотель, ничего не говорил святой Василий, и не думал Цицерон. Ни дотошность философии, ни ни тончайшие наблюдения астрологии не имеют значения, геометрические измерения здесь совершенно излишни, не важны ни путаные доводы риторики, здесь не найдётся места религиозной проповеди, мешающей человеческое с божественным, чего следует стыдится и избегать любому уважающему себя автору. Вам просто нужно позаботиться о подражании Природе в том, что вы пишете, и чем более совершенным зеркалом Природы вы будете, тем лучше будет то, что будет написано. И только потому, что это ваше Писание является ничем иным, как попыткой уничтожить власть рыцарских романов в обществе, а посмотрите сами, как они популярны и в высшем свете и у простолюдинов, то вовсе ей не пристало попрошайничать мнений философов, клянчить советы Божественного Писания, тащить в каморку басни поэтов, записывать молитвы риториков, подтверждать чудеса святых, но следует лишь стремиться к тому, чтобы всё написанное было понятно, фразы были честными и слова вывереннчми, а текст ваш был звучен и праздничен; Ваши намеренья – прозрачны, понятия не замутнены, и ни в чём не было нималейшей утайки или лжи. Побеспокойтесь также о том, чтобы читая вашу книгу, меланхолик захохотал, смешливый упал на пол от смеха, простолюдин не испытал злости, сдержанный пришёл в восторг от вашей изобретательности, серьёзный не впал в презрение и благоразумный не перестал хвалить прочитанное. Действительно, наведите свои прицелы, чтобы поразить шаткую конструкцию этих нелепых рыцарских книг, ненавидимых многими и хвалимыми несмотря на это толпами других, что, и знайте, что если вы хоть в малой степени достигли этого, вы свершили немало.
В глубоком молчании я выслушал то, что говорил мне мой друг, и так отпечатались в моём мозгу его божественные доводы, что я, не вступая в бессмысленный спор, одобрил их и почёл за благо вставить в своё предисловие. Итак, ты видишь, мой милый читатель, как благоразумие моего друга, а также милость Провидения и пособничество Фортуны, которые послали в нужный момент такого великолепного советчика, виновного в том, что история знаменитого Дон Кихота из Ла Манчи, о котором говорят все жители района Кампо-де-Монти, легко и ненавязчиво попадёт в твои руки, и ты узнаешь всё о человеке, который был самым целомудренным влюбленным из всех влюблённых и самым храбрым рыцарем из всех рыцарей, каких когда-либо видели в наших краях. Но я не буду преувеличивать своих заслуг, расхваливая себя за знакомство со столь благородным и столь почетным рыцарем, но я хочу, чтобы ты всё-таки возблагодарил меня за то, что получил в лучшие друзья и знаменитого Санчо Пансу, его оруженосца, в котором, по моему мнению, я показал самые лучшие качества всех верных оруженосцев мира, которые бездарно и широко разбросаны в бескрайних библиотеках на страницах пустых книжонок, посвящённых рыцарству. И с этим дай бог тебе всяческого здоровья, а меня не забывай!
Глава Первая
В коей рассказывается о происхождении Дон Кихота Ламанчского и поясняется, кто он вообще-то такой.
В некоем богом забытом селеньи Ла-Манчи, которое мне противно даже припоминать, не так давно влачил свою долгую жизнь один довольно примечательный идальго по имени не то дон Кехана, не то – дон Кихудра, не то ещё как, обладатель древнего фамильного гнилого и довольно-таки тупого копья, потёртого деревянного щита с наполовину облезшей краскою, худющей кобылёнки с торчащими во все стороны как гвозди рёбрами и старой борзой собаки. Горшок с чем-то вроде овощей, чаще с вареной говядиной, реже – с бараниной, винегрет на ужин ближе к ночи, пост по пятницам, чреватый только миской вареной чечевицы, всегдашняя яичница с салом в субботу, жареный голубь в виде весомой добавки по воскресеньям – вот всё, на что уходило три четверти его скромного дохода.
Всё остальное тратилось на выходное полукафтанье довольно тонкого сукна, широкие бархатные штаны и остроносые туфли из того же бархата, в которых он щеголял по праздникам, в будни довольствуясь домотканым костюмом из грубого, но весьма добротного сукна и такими же штанами.
У него в доме проживала экономка, которой перевалило уже далеко за сорок лет и племянница, не достигшая и двадцати, да ещё слуга более чем преклонного возраста, гораздый и камни ворочать в огороде, и орудовать в саду секатором, когда потребует нужда.
Сойдёмся на том, что возраст нашего Идальго был примерно около пятидесяти лет. Он был худ, как ссохшаяся в головешку мумия, про таких говорят – «кожа да кости», с морщинистым лицом, это был неисправимый любитель вскочить с постели с утра пораньше и к тому же человек неимоверно азартный до всякого рода охоты и приключений. Как его звали, никто точно не знает до сих пор. Одни утверждают, что у него было прозвище Кехада, другие говорят, что его звали Кесада, так что пусть это останется на совести иных авторов, а мы можем только надеяться, что они не врут в своих россказнях, хотя по нашим достоверным догадкам имя его было всё же Кехада, и хотя это не сможет ничего изменить в нашем повествовании, я всё же считаю, что в данном случае даже в мелочах следует придерживаться как можно более строгой истины.
Между тем, нам не мешало бы знать, что этому вышеупомянутому джентльмену, в то время, когда он сидел дома в полном бездействии и бездельи, а это продолжалось львиную часть года, выпало несчастье приобщиться к чтению рыцарских инкунабул, которые так пришлись ему по вкусу и столь полюбились, что он забыл и забросил почти всё, что касалось охоты и развлечений, запустил управление своим немудрёным хозяйством, и настолько погрузился в это глупое занятие, что продал добрый кусок своей изрядно запущенной земли, дабы только иметь возможность покупать рыцарские книги. Таким образом, в конце концов он стащил в свой дом все книги, какие только можно было сыскать в округе. И, надо сказать, никакие книги не казались ему столь изысканными, как те, что были написаны знаменитым Фелисиано де Сильвой, потому что ясность его слога и витиеватость его замороченных рассуждений показались нашему чтецу истинным жемчугом, и более того, он просто сходил с ума от тех мест, где были вызовы на поединки или трогательные любовные послания, где можно было обнаружить тирады, подобные этой:
«Мадам! Благорасположение вашего таинственного неразумия, отвергающее моё утончённое здравомыслие, позволяет мне сетовать на ваше всемогущественнейшее цветущее великолепие».
Или что-то в подобном роде:
«… О, высоколобые небеса и божественность вашей обожествлённости вкупе со звездами укрепляют вашу исключительность и делают вас достойным заслуг, которых заслуживает ваше великолепное величие».
Вот такие это были книги! По этим причинам, бедный наш кабальеро, тщась проникнуть в их тайный смысл и разгадать их истинное значение, над чем сломал бы голову дажде премудрый Сократ и чего не достиг бы и сам Аристотель, внезапно воскреснув и попади в такой переплёт, наконец сломал бы себе голову и полностью лишился бы здравого рассудка.
Не лучше обстояло дело и с ранами, которые Дон Бельянис наносил своим врагам и получал от своих врагов, потому что он думал, что какими бы великими мастерами ни были лекари, исцелявшие его, он всё равно должен был являть лицо и всё тело, испещрённое шрамами и ссадинами. Но, тем не менее, он возносил этого автора за то, что тот закончил свою книгу обещанием продолжить эти бесконечные приключения, и посему ему часто приходило в голову желание самому взяться за перо и закончить эту несравненную историю так, как было обещано, и он, без всякого сомнения, сделал бы это и даже, пожалуй, лучше, чем автор, если бы другие более высокие и неотвязные мысли не помешали ему в этом. У него много раз были жаркие споры с местным священником, человеком весьма начитанным и даже, как говорят, выпускником Сигвензы, о том, кто был лучшим из рыцарей и потому – предпочтительнее: Пальмерин Английский или Амадис Галльский. Однако маэстро Николаус, местный цирюльник из того же местечка, утверждал, что никто из них и в подмётки не годится потрясающему любое воображение рыцарю Феба, и что если кто-то может кое-как сравниться с ним, то только Дон Галуар, брат Амадиса Галльского, ибо он тут вне конкуренции, потому что не фитюлька какая-нибудь и не такая плакса, как его брат, и что в храбрости с ним никто рядом уж точно не стоял.
Так вот, он так погрузился в своё чтение, что посвящал все ночи и просиживал над чтением с глубокой ночи до раннего утра, что в конце концов от короткого сна и долгого чтения, совсем иссох умом и потерял здравый рассудок.
Его фантазия переполнилась всем, что он вычитывал в книгах: чудесами и подвигами, сражениями и страданиями, ранами и кознями, любовью и бурями, в общем, всевозможным бредом, который столь прочно засел в его воображении, что стал казаться ему истинной правдой, да такой, с какой не сравнится ничто в мире. Он утверждал, что Руй Диас был очень хорошим рыцарем, но ему никак не сравнится с Рыцарем Огненного Меча, который шутя, одним ударом мог разрубить двух огромных великанов. Он превозносил Бернардо дель Каприо, только оттого, что тот, подобно Геркулесу, задушившему сына Земли Антея, задавил в Россевальском ущельи зачарованного Роланда. Он очень хорошо отзывался о великане Морганте, только потому, что тот, будучи настоящим гигантом, оставался при этом невероятно добр и отменно воспитан. Но никто не стоял у него превыше Царя Монтальбанского, и особенно после того, как тот выехал из своего замка и немилосердно грабил всех, кто только попадался ему под руку, и в своём заморском вояже выкрал идола Мухаммеда, целиком отлитого из золота, как утверждает автор повествования. А получи он на растерзание предателя Галалона, он бы не моргнув глазом, любому отдал бы за это чудо не только свою экономку, но в придачу к ней и любимую племянницу.
В итоге, окончательно свихнувшись мозгами, он пришел к самому своему ужасному решению, к какому едва ли кто склонялся из безумцев, и он счел нужным и необходимым, дабы возвеличить свою честь и послужить как должно своей республике, стать блуждающим рыцарем и пойти по миру с оружием, и лошадью, ища на свою голову приключений и упражняясь во всём, о чём начитался в книгах, полагая благом совершенствоваться во всём, что бродячие рыцари употребляют для упрочения своего имени и славы. Представьте себе беднягу, уже увенчанного в своём больном воображении трудами его дланей, по крайней мере, короной Трапезундского Королевства! И с такими приятными, такими сладостными мыслями, в которых был, поверьте мне, весьма зловещий привкус, он поспешил поскорее реализовать то, что столь стремительно задумал.
И первое, что он сделал – стал приводить в надлежащий порядок своё оружие, которое принадлежало ещё его прадедам и дедам, весь этот хлам, пропахший мочой и покрытый вековой плесенью, который до этого лежал всеми забытый в пыльном углу. Очистив и отремонтировав всё это как можно более тщательным образом, он, однако, увидел, что среди этого добра кой-чего не хватает, и хотя у него есть старый шишак, шлема с забралом у него нет и в помине. Как ни странно, тут ему на выручку явилась его крайне истошная, и в итоге, из картонных коробок он сделал полукруглое подобие шлема с забралом, который, что в сочетании с шишаком, придало всему этому весьма цельный вид. Не будем скрывать от благодарных потомков, что, когда он, дабы проверить свою силу и стойкость своего шлема, вытащил свой меч и нанес ему два удара, то первым же из них он в один момент истребил то, что он сотворил в течение недели, и при этом ему была невыносима та лёгкость, с какой его амуниция разлетелась на куски, однако, убедившись в шаткости и ущербности своего шлема, он сотворил его ещё раз, воткнув для надёжности изнутри несколько гнутых железных прутьев, да так, что в результате остался вполне доволен его крепостью, и, не желая повторять плачевные эксперименты, убедился и признал, что это шлем изумительно тонкой и изящной работы.
Затем сделал смотр своей тощей кляче, и хотя она была хрома на все четыре копыта, и была ущербна много более, чем знаменитая, кобыла Гонелы, и по сути tantum pellis et ossa fuit («Была только кожа да кости» (лат), он счёл, что ни Буцефал Александра, ни Бабьека Сида с ним, как ни крути, не сравнятся. Четыре дня он провёл в досужих размышлениях, какое бы звонкое имя дать своей кобыле, ибо, как он твердил постоянно про себя, не было никаких оснований для того, чтобы такой хороший, знаменитый, как он сам, конь, оказался без звучного имени. Он рассуждал таким образом, что если уж судьбе было угодно устроить всё таким образом, что в его жизни произошли такие серьёзные изменения, то такие же изменения должны произойти и в жизни его коня, хотя бы это было просто изменение имени, и следовательно, его коню подобает новое, громкое и потрясающее имя, подобающее его новому статусу и приличествующее сану хозяина и одновременно напоминающее о прежнем коне, каким ему пришлось быть до того, как его хозяин стал странствующим рыцарем. Всё это время он рылся в своей памяти, и напрягал всё своё воображение, пытаясь выудить оттуда разные имена, изыскивал их, обсмакивал, ощупывал со всех сторон, находя то подходящими, то отбрасывая сходу, переделывал уже имевшиеся и потом брезгливо отметал, снова принимаясь потом составлять из слогов и обрывков слов, и всё это с тем, чтобы наконец остановиться на Росинанте, имени, без всякого сомнения, звучном и благородном, но тонко намекающем на то, что некогда этот конь был обычной сельской клячей, а теперь, обскакав всех скакунов мира, явился самой продвинутой клячей в мире.
Найдя столь удачное имя для своего коня и пытаясь присобачить своё имя к имени своей лошади, он стал тщательно подбирать имена и для себя, и эта титаническая мыслительная деятельность безостановочно кипела ещё восемь дней, пока в её итоге не появился во всём своём блеске Дон Кихот, от, как уже было сказано, дотошные авторы этой подлинной истории выяснили впоследствие, что, без сомнения, его подлинным именем было имя Кихада, а вовсе не Кесада, как считали все прочие. Но вовремя воспомнив, что мужественный Амадис вовсе не удовлетворился тем, что называл себя Амадисом, что было бы слишком сухо и официозно, но добавил к своему имени название своего королевства и страны, чтобы и его сделать знаменитым и прославить в веках, в результате чего и был назван Амадисом Галльским, он счёл, что приличному джентльмену подобает приличествующая добавка к имени, обозначающая место его пребывания, и потому отные его зовут и будут вечно звать Дон Кихот из Ла Манчи, или Дон Кихот Ламанческий, чтобы его род и страна запомнились и были почтены тем, кто первым взял подобное прозвище.
Затем он завершил гомерическую чистку своих лат, гордясь тем, что умудрился сделать из голого шишака полноценный шлем, и держда в уме, что он имеет в своей конюшне гордого рысака с потрясающим именем. Достигнув почти пределов своих желаний, он осознал, что ему нечем заняться, кроме как искать даму, в которую можно влюбиться по уши, потому что странствующий рыцарь без любви всё равно, что пень без листьев и груша без плодов, а тело его лишено души.
Он сказал:
– О, если в назидание за мои грехи или в результате счастливого случая, я окажусь рядом с каким-то великаном, как это обычно бывает со странствующими рыцарями, видит бог, я неминуемо сокрушу его, или рассеку напополам, или, наконец, если я свергну и пленю его, то схомутаю, как раба, и это будет прекрасно, если я смогу привести его к моей милой даме, чтобы он мог встать пред ней на колени и промолвить ей смиренным и дрожащим голоском:
«Я, мадам – великан Каракулиамбр, Владыка Швабер-Малиндруанского Архипелага, который был побеждён в честном бою один на один неизвестным рыцарем, и только потому что ему никогда не приходилось раньше сражаться с такими блестящими рыцарями, как Дон Кихот из Ла Манчи, и он повелел мне предстать перед вами в надежде на ваше милосердие и дабы ваше величество могло распоряжаться мной по собственной надобности и настроению!»
О, каково же было ликование нашего доброго рыцаря, когда он изрекал эту божественную сентенцию! И тем более, что он тут же обнаружил, кого назвать своей дамой.
Нужно отметить, что, как полагают, в местечке неподалеку от его села проживала очень недурная видом бабёнка, крестьянка, в которую он когда-то был влюблен, хотя, понятно, она этого никогда не знала, и узнай про такое, ей это бы точно не понравилось. Звали её Алдонзой Лоренцо, и ему показалось, что было бы неплохо присудить ей звание Дамы Сердца, и, подыскивая для неё подходящее имя, которое не сильно отличалось бы от её собственного, и одновременно ассоциировалось бы с именем какой-нибудь знаменитой принцессы или великосветской дамы из книг, он пришёл к глубокому убеждению, что нет ничего лучше, как назвать её Дульцинеей Тобосской, что логично, ибо родом она была из селения Тобоссо, именем, по его мнению, утончённым и гораздо более значительным, чем все прочие имена, которые он непрерывно перебирал в уме целые сутки напролёт.
Глава II
Рассказывающая о первым триумфальном выезде гениального дон Кихота из своего села.
Завершив таким образом все свои приготовления, Дон Кихот не захотел больше сидеть на месте, и решил тут же приняться за приведение в жизнь своего замысла, сочтя, что всякое промедление с его реализацией самым пагубным образом отразится на ждущем его подвигов человечестве, ведь, полагал он, время не ждёт, сколько в мире зла, которое нужно искоренить, сколько кривды, которую нужно выпрямить, сколько несправедливости в мире ждёт исправления, сколько обид требуют его вмешательства, чтобы загладить их. И так, не раскрывая никому своего намерения и тогда, когда никто не мог видеть его, однажды утром того июльского дня, который обещал быть одним из самых жарких месяцев лета, он нацепил все свои доспехи, захватил все свои орудия, поднялся и залез на Росинанта, кое-как приладил свой новый шлем к голове, поднял щит, схватил копьё, и через задние ворота скотного двора выехал в поле, полный волнительного счастья и чарующего воодушевления, горя восторгом, чтобы побыстрее увидеть, как легко удалось дать начало этому величественному доброму намеренью.
Но едва он осознал себя стоящим посреди поля, как на него обрушилась страшная мысль, и такая страшная, что он впал в испарину и уже стал подумывать прекратить своё начинание и отступить, и надо сказать, вот по какой причине: он вдруг вспомнил, что не посвящён в рыцари, и что, по рыцарским законам, он не мог и не должен был брать в руки любое оружие, потому что не имеет права вступать в схватку с любым посвящённым рыцарем, и пока он был новобранцем, он обязан был носить белое оружие, пока его доблесть не позволит ему снискать статус рыцаря и завоевать девиз на щите. Эти мысли заставили его заколебаться и усомниться в правильности принятого решения, и он уже хотел было повернуть назад, но, возможно, безумие больше, чем какая-либо другая причина, подтолкнуло его к мысли, что в рыцари его может посвятить в подражание многим рыцарям, о коих он читал в книгах и которые поступали так, первый попавшийся на его пути встречный-поперечный, тот, кто с ним первый столкнётся, и всё это – подражая многим другим рыцарям, которые сделали это, по его словам, и о чём он читал в книгах, которые у него были. Что же касается оружия и доспехов, то он намеревался надраить их таким образом, чтобы они были белее доспехов Арминия, и на этом успокоился и продолжил свой путь, не имея другого направления, кроме того, которым трусил его конь, полагая, что в этом и состоит сила Провидения на пути к самым лучшим приключениям.
И вот, труся по полю, наш новый авантюрист, при этом беседовал сам собой:
– Кто бы сомневался, но в грядущие времена, когда моя славная история выйдет на свет, и истинная история моих знаменитых деяний станет известной миру, то мудрец, который их опишет, дойдя до места, когда я буду рассказывать про этот мой первый славный выход, он скорее всего будет описывать его так:
«Едва только златовласый Феб распустил на лице широкой и просторной земли золотые кудри своих прекрасных волос, едва малюсенькие, ярко окрашенные птички своими ангелоподобными, сладкими, гармоничными трелями приветствовали пришествие розовопёрстой Авроры, которая, оставив мягкое ложе своего ревнивого супруга, распахнула врата и окна высокого Ламанчского горизонта и обратила взор на проснувшихся смертных, когда знаменитый рыцарь Дон Кихот-Де-Ла-Манча, оставив в покое пух и перья мягчайшей своей перины, вскочил на знаменитого коня своего Росинанта и тронулся в долгий путь по древней, славной Монтиэльской равнине…»
Тут Дон Кихот не соврал – он ехал именно по этой приснопамятной долине.
И надо добавить, что он ехал, и продолжал бормотать при этом себе под нос:
– Блажен тот век и вечно блажен тот, кому выпадет описывать по порядку все мои божественные и воистину достославные подвиги и деяния, достойные того, чтобы быть воспетыми в поэмах слух и изображёнными на полотнах и вычеканенными в мраморе в будущем в назидание благодарным потомкам. О, ты, прекрасный волшебник, кто бы ты ни был, тот, кому выпадет лицезреть и описывать невиданные мои подвиги и приключения, об одном молю тебя, что ценится выше золота этого мира! Не забудь, верного моего Росинанта, сосед, который был со мной во всех моих переделках и на всех моих дорогах, где бы я ни был!
Затем он снова открыл рот, и стал чревовещать, как будто он действительно был по уши в кого-то влюблён:
– О, принцесса Дульцинея! Жестокая захватчица моего сердца! Очень обидно мне, что я был изгнан тобою, и мне, осыпанному укоризненными упрёками, предложено было держаться как можно дальше от вашей несравненной красоты и величия. О, умоляю вас! Выньте из меня своё оружие, и проявите милосердие к тому, чьё сердце, страдая, продолжает вас любить!
С этими словами он как будто нанес кому-то ещё один, теперь уже последний удар, всё так, как его учили его книги, подражая, как только было в его силах витиеватому языку этих романов При этом он трусил на своей кобыле так медленно, и солнце заходило с таким запозданием, и с таким жаром, что его было бы вполне достаточно, чтобы растопить ему все мозги, если бы они у него были.
Почти весь этот день он плёлся, не зная, что ему ещё сказать, и с ним не происходило практически ничего, вследствие чего он сразу пришёл в отчаяние, ведь ему очень хотелось наткнуться на кого-нибудь, на ком можно испытать силу своей мужественной руки. Авторы могут подтвердить, что его первое приключение произошло в Ущелье Лаписо, когда же другие утверждают, что это были ветряные мельницы. Но то, в чём я мог убедиться лично сам, что я смог узнать об этих случаях в местных летописях, и то, что я записал в своих «Анналах», это то, что он бродил весь тот день, и к вечеру и он сам и его верный Росинант смертельно устали и проголодались, и что, вперяясь во всё окружающее, чтобы увидеть хоть какой-нибудь завалящий замок или кибитку пастухов, или шатёр бедуинов, где можно было бы подкрепиться хоть какой-то пищей и питьём, размять затёкшие счлены, и тут он видел, что совсем не далеко от дороги, по которой ехал, стоит постоялый двор, который был так желанен для него, как путеводная звезда для заблудившегося, готовая не просто вести его к Храму Спасения, а втолкнуть его внутрь этого храма. Он поспешил тронуть поводья и Росинант подошёл к постоялому двору как раз вовремя, потому что уже стало вовсю смеркаться
Они были совсем близко от ворот, когда две девушки, из числа тех, какие ходят по рукам, в сопровождении погоншиков мулов они собирались быстро попасть в Севилью и вынуждены были заночевать на постоялом дворе, в то время как всё, что наш авантюрист выдумывал, видел или воображал, как это было сделано по образу и подобию описанного в книгах, так что в этот момент у него в мозгу что-то щёлкнуло и он увидел не забытый богом постоялый двор, а замок с четырьмя рослыми сверкающими башнями по углам, гремящим цепями продъёмным мостом и со всеми теми его многочисленными приверженцами, которые несомненно обретаются в подобных замках. Тут Дон Кихот дёрнул Росинанта за поводья, надеясь, что какой-нибудь карлик встанет между зубцами стены и подаст сигнал какой-нибудь трубой о том, что рыцарь прибыл в замок. Но как он увидел, что карлик сильно запаздывает и что Росинанту не терпится добраться до родной конюшни, он подошел к воротам постоялого двора и тут увидел двух наших гулящих бабёнок, оказавшихся тут как тут, и при этом приняв их не то за почтенных красоток, не то за красивых дам, неспешно прогуливающихся перед воротами королевского замка.
Надо было тому приключиться, что какой-то хулиган-свинопас, который сгонял с истоптанных пажитей стадо своих свиней – прощу прощения, но никому ещё не удалось по другому назвать этих милых существ, ибо только так они и называются – затрубил в рог, по знаку которого они они вновь собирались в стадо, и мгновенно представил Дон Кихоту то, что тот хотел узреть, что, де, какой-то гном сделал подал знак о его пришествии, и тогда, с великой радостью бросился к постоялому двору и к дамам, которые, однако, увидев, что на них надвигается нечто огромное и очень странно экипированное в диковинный наряд, с копьем и щитом пред собой, и полные страха, собирались уже броситься от него на постоялый двор, но Дон Кихот, пытаясь предотвратить их истошное бегство, и убедить в том, что ничего страшного не происходит, подняв картонное забрало и явив всем высохшее, пыльное лицо, спокойным голосом, почти нежно сказал им:
– Не бойтесь, милые сердцу моему мадмуазели, ибо не следует бояться ни одного из тех, кто принадлежит к тому ордену, к которому принадлежу и я, и который не способен чинить зло кому бы то ни было, тем более столь знатным и высонравственным девицам, как ваши милостивые высочества!
Бабёнки эти воззрились на него во все глазищи, выискивая лицо, на которое снова сползло это мерзкое забрало, но, как только они услышали, что их называют девицами, что было столь далеко далеко от истины, учитывая их профессию, они не могли не заржать так, что Дон Кихота это, кажется, даже немного смутило, но он пересилил желание ретироваться и сказал им:
– Хорошо, кажется, мирская красота обрамляется степенностью, и надо признать, что беспричинный, легкомысленный смех, поверьте, я говорю не о вас, и не для того, чтобы вас огорчить, смутить или расстроить, является признаком дурного воспитания или плохого вкуса!
Язык его, который дамы не понимали вовсе, и нескладные манеры нашего рыцаря вызывали в них всё более сильный смех, а в нём – гнев, и не явись сюда сам трактирщик, неизвестно чем бы всё это ещё кончилось. Трактирщик, который, будучи слишком толстым, в соответствии с этим качеством, был человеком и очень спокойным, можно сказать, меланхолическим, но даже он, завидев нелепую фигуру, вооружённую жутким тяжёлым копьём и корявым, ржавым щитом, топорщащимися чешуями панциря, чуть было не присоединился к дико ржущим девицам, и ему стоило невероятных усилий, чтобы удержаться от дикого хохота. Но в итоге, опасаясь непредсказуемости этой корявой машины убийства и разрушения, он решил как можно более вежливо поговорить с прикольным типом, и по-человечески выведать его намерения и потому сказал ему:
– Если ваша милость, господин рыцарь, ищет гостиницу, аминь, с ложем, то надобно знать, что таких тут нет вовсе, а у нас есть только кровати, а всё остальное у нас в великом изобилии, правда кроватей, честно говоря, кот наплакал!