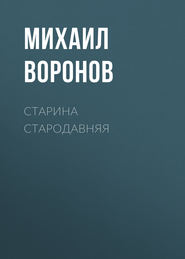По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Братья-разбойники
Год написания книги
1872
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– В церкви, вот где!
Все смеются.
– Вы не смейтесь, ей-богу, видел! Это, знаете, у сторожа-то длинная палочка, еще на конце-то которой восковая свечка… вот которой он паникадила зажигает, вот бы на удилище-то подтибрить?
– А где ее найдешь?
– Так поискать надо.
– А он те, сторож-то, этой палкой да вдоль спины, – вставляет Максим. – Уж чего, кажется, легше: перелез к соседям, наломал вишеннику – и конец делу, так нет, пойдем в церковь да отыщем сторожеву палку… Ай же, и умны вы, как посмотрю я на вас, ребята!
Несколько дней идут подобные разговоры и приготовления, несколько дней бродим на Волгу и только любуемся ходом льда, да разве пошвыриваем каменья, состязуясь в дальности их полета. Наконец, к удовольствию нашему, лед начинает редеть, кое-где показываются лодки, на которых отважные пловцы, пробираясь между разредевшими льдинами и с риском быть задержанными ими, ловят разметанные ледоходом дрова, бревна, осколки разбитых судов и проч. То лед сплывает далеко вниз и образуется громадная полынья, вдоль и поперек которой сейчас же заснуют лодки, гоняясь за добычей; то вдруг прорвет где-нибудь вверху и целыми площадями устремится ледяная сила по течению, грозя неминуемым разрушением всему, что только осмелится стать ей на пути. Боже! какой переполох пойдет тогда между смелыми пловцами! Одни бросаются вниз, по течению, другие стрелой летят прямо, наперевал, надеясь достигнуть берега раньше, чем льдина пересечет их путь, третьи взбираются на самую льдину и, с опасностью провалиться, бегут по ее краю, таща за собою свой челнок, в который тотчас же и садятся, как только успеют выбраться на безопасное место. С берега всякий такой отважный маневр приветствуется аплодисментами и громкими возгласами «ура!», далеко-далеко прокатывающимися по беспредельной поволжской и заволжской шири.
В первый же день, как только отец отлучится из дома на достаточно продолжительное время, мы вооружаемся удочками и спешим на реку. Сначала, одолеваемые нетерпением поскорее забросить уду, мы забрасываем ее где придется и, разумеется, совершенно бесполезно; но потом, когда первый пыл пройдет, делаемся строже в выборе и отыскиваем заправское место, где уж тогда начинается ловля серьезная.
– Гляди, гляди! клюет!
– Что же ты орешь-то?
– П-п-одсекай! – раздается нетерпеливое шипенье.
– Вот как я тебя удилищем вытяну, так ты будешь меня учить, дурацкая твоя морда!
– Сам дурацкая морда: у него клюет, а он ворон ловит.
– Не у тебя клюет, так и молчи, осел! – вытаскивая из воды удочку с объеденной наживою, щетинится прозевавший рыбу.
– Нет, шалишь! Не сигай, не сигай, не сорвешься! – с непритворным восторгом кричит наконец счастливец, вытащивший первую рыбу.
– М-миленький, покажи! – разом бросаются к нему братья.
– Ершонок! – причмокнув, показывает рыбку счастливец.
– Голубчик, какой крохотный!
– Да-ай, подержать! Да-ай, Христа ради! Ну, хоть один разочек.
– Как же, так и дам мучить…
– Ну, поднеси хоть поближе посмотреть.
– Вот, смотрите. Да нечего руку-то протягивать – смотри глазами.
И долго-долго идет рассматривание злополучного ершонка, точно какого-нибудь невиданного дива. С подобным восторгом разве только одни чиновники встречают первый чин, несмотря на то что он не больше, как коллежский регистратор.
Если нам удастся на первый раз изловить нескольких таких рыбешек, мы являемся домой исполненные необычайной гордости и сознания собственного достоинства. Улов несется прямо в кухню и выкладывается на стол.
– Ну-ка, смотри, Домна! – важно командуем мы кухарке.
Но тут нам сейчас же готовится удар.
– Матушки! Иде вы таких горьких понабрали? – простодушно удивляется кухарка. – Мотри, снулых иде-нибудь нашли. Ды, право!
– Молчи, дура, когда ничего не понимаешь!
– Да как же, господчики, молчать, когда вы у меня стол ими теперь опоганили?
Обиднее таких глупых слов, разумеется, и быть ничего не может. Мы уже сучим кулаки и готовимся вступить с дерзкой бабой в рукопашный, как вдруг в кухню является матушка, а за ней тянется целая вереница сестер. Восторг счастливого улова снова наполняет наши сердца, и мы бросаемся навстречу к матушке.
– Мамочка! миленькая!..
– Постойте, постойте! – отстраняет нас рукой матушка.
– Вы посмотрите…
– Да я и то смотрю, – перебивает нас матушка, и действительно, смотрит, только не на рыбу, а на нас.
Мы смущены.
– Вы где были?
– Мы рыбу ловили.
– Да разве так рыбу-то ловят?
– Батюшки вы мои! – хором восклицают сестры.
– Вы посмотрите на себя, – советует нам матушка.
Мы смотрим и тут только замечаем, что мы по пояс выпачкались в грязи; в смущении бросаем мы взгляд на свои руки и тотчас же прячем их куда-нибудь подальше, потому что руки эти чернее, кажется, голенища.
– Да где вы были, вы мне скажите? – допытывается матушка.
– Мы рыбу ловили.
– Так разве я не знаю, как рыбу-то ловят?
– Мы на самом хорошем месте были… на рыбном.
– Какое же это такое рыбное место? Вы просто где-нибудь в болоте валялись.
– Нет, вы, мамочка, на Мишу-то, на Мишу посмотрите! – указывают сестры. – А Ваня-то, Ваня-то! А ежонка, того так даже и не видно совсем: весь в тине вымазался, и с ушами.
Тут наш счастливый улов, видим мы, так прахом и пошел…
– Что это, дети? Вы совсем страх забыли, – увещевает нас матушка. – Отец вот-вот приедет, а вы, как чушки какие-нибудь, все в грязи вывалялись.
О, человеческое жестокосердие! Стоит ли дальше рассказывать? Стоит ли рассказывать, что чудесную ловитву нашу без дальних рассуждений выбрасывают в помои. (Это еще счастье, если мы успеем утянуть из нее хотя по рыбине и запрятать в наши карманы.) Что с искусных рыбаков снимают все, белье и платье, и заменяют свежим. Что мучительная тоска наполняет наши гонимые и страждущие души и что Домна ножом отскабливает слоем насевшую грязь с наших сапог. Что, наконец, мы сидим босые в кухне и, в ожидании вычищенных сапог, волей-неволей должны выслушивать брюзжанье глупой кухарки, пользующейся нашим незавидным положением.
Все смеются.
– Вы не смейтесь, ей-богу, видел! Это, знаете, у сторожа-то длинная палочка, еще на конце-то которой восковая свечка… вот которой он паникадила зажигает, вот бы на удилище-то подтибрить?
– А где ее найдешь?
– Так поискать надо.
– А он те, сторож-то, этой палкой да вдоль спины, – вставляет Максим. – Уж чего, кажется, легше: перелез к соседям, наломал вишеннику – и конец делу, так нет, пойдем в церковь да отыщем сторожеву палку… Ай же, и умны вы, как посмотрю я на вас, ребята!
Несколько дней идут подобные разговоры и приготовления, несколько дней бродим на Волгу и только любуемся ходом льда, да разве пошвыриваем каменья, состязуясь в дальности их полета. Наконец, к удовольствию нашему, лед начинает редеть, кое-где показываются лодки, на которых отважные пловцы, пробираясь между разредевшими льдинами и с риском быть задержанными ими, ловят разметанные ледоходом дрова, бревна, осколки разбитых судов и проч. То лед сплывает далеко вниз и образуется громадная полынья, вдоль и поперек которой сейчас же заснуют лодки, гоняясь за добычей; то вдруг прорвет где-нибудь вверху и целыми площадями устремится ледяная сила по течению, грозя неминуемым разрушением всему, что только осмелится стать ей на пути. Боже! какой переполох пойдет тогда между смелыми пловцами! Одни бросаются вниз, по течению, другие стрелой летят прямо, наперевал, надеясь достигнуть берега раньше, чем льдина пересечет их путь, третьи взбираются на самую льдину и, с опасностью провалиться, бегут по ее краю, таща за собою свой челнок, в который тотчас же и садятся, как только успеют выбраться на безопасное место. С берега всякий такой отважный маневр приветствуется аплодисментами и громкими возгласами «ура!», далеко-далеко прокатывающимися по беспредельной поволжской и заволжской шири.
В первый же день, как только отец отлучится из дома на достаточно продолжительное время, мы вооружаемся удочками и спешим на реку. Сначала, одолеваемые нетерпением поскорее забросить уду, мы забрасываем ее где придется и, разумеется, совершенно бесполезно; но потом, когда первый пыл пройдет, делаемся строже в выборе и отыскиваем заправское место, где уж тогда начинается ловля серьезная.
– Гляди, гляди! клюет!
– Что же ты орешь-то?
– П-п-одсекай! – раздается нетерпеливое шипенье.
– Вот как я тебя удилищем вытяну, так ты будешь меня учить, дурацкая твоя морда!
– Сам дурацкая морда: у него клюет, а он ворон ловит.
– Не у тебя клюет, так и молчи, осел! – вытаскивая из воды удочку с объеденной наживою, щетинится прозевавший рыбу.
– Нет, шалишь! Не сигай, не сигай, не сорвешься! – с непритворным восторгом кричит наконец счастливец, вытащивший первую рыбу.
– М-миленький, покажи! – разом бросаются к нему братья.
– Ершонок! – причмокнув, показывает рыбку счастливец.
– Голубчик, какой крохотный!
– Да-ай, подержать! Да-ай, Христа ради! Ну, хоть один разочек.
– Как же, так и дам мучить…
– Ну, поднеси хоть поближе посмотреть.
– Вот, смотрите. Да нечего руку-то протягивать – смотри глазами.
И долго-долго идет рассматривание злополучного ершонка, точно какого-нибудь невиданного дива. С подобным восторгом разве только одни чиновники встречают первый чин, несмотря на то что он не больше, как коллежский регистратор.
Если нам удастся на первый раз изловить нескольких таких рыбешек, мы являемся домой исполненные необычайной гордости и сознания собственного достоинства. Улов несется прямо в кухню и выкладывается на стол.
– Ну-ка, смотри, Домна! – важно командуем мы кухарке.
Но тут нам сейчас же готовится удар.
– Матушки! Иде вы таких горьких понабрали? – простодушно удивляется кухарка. – Мотри, снулых иде-нибудь нашли. Ды, право!
– Молчи, дура, когда ничего не понимаешь!
– Да как же, господчики, молчать, когда вы у меня стол ими теперь опоганили?
Обиднее таких глупых слов, разумеется, и быть ничего не может. Мы уже сучим кулаки и готовимся вступить с дерзкой бабой в рукопашный, как вдруг в кухню является матушка, а за ней тянется целая вереница сестер. Восторг счастливого улова снова наполняет наши сердца, и мы бросаемся навстречу к матушке.
– Мамочка! миленькая!..
– Постойте, постойте! – отстраняет нас рукой матушка.
– Вы посмотрите…
– Да я и то смотрю, – перебивает нас матушка, и действительно, смотрит, только не на рыбу, а на нас.
Мы смущены.
– Вы где были?
– Мы рыбу ловили.
– Да разве так рыбу-то ловят?
– Батюшки вы мои! – хором восклицают сестры.
– Вы посмотрите на себя, – советует нам матушка.
Мы смотрим и тут только замечаем, что мы по пояс выпачкались в грязи; в смущении бросаем мы взгляд на свои руки и тотчас же прячем их куда-нибудь подальше, потому что руки эти чернее, кажется, голенища.
– Да где вы были, вы мне скажите? – допытывается матушка.
– Мы рыбу ловили.
– Так разве я не знаю, как рыбу-то ловят?
– Мы на самом хорошем месте были… на рыбном.
– Какое же это такое рыбное место? Вы просто где-нибудь в болоте валялись.
– Нет, вы, мамочка, на Мишу-то, на Мишу посмотрите! – указывают сестры. – А Ваня-то, Ваня-то! А ежонка, того так даже и не видно совсем: весь в тине вымазался, и с ушами.
Тут наш счастливый улов, видим мы, так прахом и пошел…
– Что это, дети? Вы совсем страх забыли, – увещевает нас матушка. – Отец вот-вот приедет, а вы, как чушки какие-нибудь, все в грязи вывалялись.
О, человеческое жестокосердие! Стоит ли дальше рассказывать? Стоит ли рассказывать, что чудесную ловитву нашу без дальних рассуждений выбрасывают в помои. (Это еще счастье, если мы успеем утянуть из нее хотя по рыбине и запрятать в наши карманы.) Что с искусных рыбаков снимают все, белье и платье, и заменяют свежим. Что мучительная тоска наполняет наши гонимые и страждущие души и что Домна ножом отскабливает слоем насевшую грязь с наших сапог. Что, наконец, мы сидим босые в кухне и, в ожидании вычищенных сапог, волей-неволей должны выслушивать брюзжанье глупой кухарки, пользующейся нашим незавидным положением.