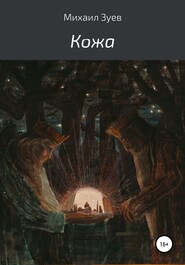По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кон-Тики
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, я чего – домой побежала, платье какое было под рукой, схватила, трусы, колготки. Прибежала обратно. Отмыли мы Дерюгину, я ее домой отвела. Ее по дороге еще и вырвало. Скорую вызвали, ее в больницу увезли. Острое отравление. Я к ней в больницу ходила.
– Как тебя такую маленькую пускали?
– Так я с папой же. С ложечки ее кормили. Вот с тех пор…
– А потом чего?
– А потом ничего. Она восемь классов закончила, в техникум. Я десять – тоже в техникум. Мы с ней такие.
– Какие?
– Непритязательные. Без верхнего образования.
– Цапля, меня твое образование не парит.
– Знаешь, Стеша, меня тоже. А теперь мать с папой в разводе. Мать с Зойкой в материной квартире живут, а мы тут остались…
Воскресным днем гуляли берегом Останкинского пруда. От берега до берега по лежалому снегу, по насту, кто-то широкой снегоуборочной лопатой вывел нехорошее слово. Давились недоваренными залипушными пончиками в кафешке на трамвайном кругу, горячей сладкой цикориевой бурдой запивая. Валялись в сугробах в Останкинском парке. В подъезде пили противное «Киндзмараули» из горла. Целовались до одури в темном зале «Космоса».
Стальной безжалостной ночью я ехал домой один. При людях в троллейбусе на обледеневшем стекле монеткой выводил – «Юля»[3 - Предложение представляет собой практически дословную цитату из романа «Альтист Данилов».].
***
В больнице мне следовало быть к двум – заступать в ночное дежурство «вторым Вольфсоном». Ежеутренний подъем в пять тридцать отменялся. Мерзкий будильничный зуммер я вчера разгильдяйски взвел на восемь, – так, чтобы хватило времени на всё: на бестолковые послепостельные слоняния в ванную, на кухню, опять в ванную, и снова на кухню; на неторопливый завтрак без изысков, – по причинам сугубо материальным взять их мне было неоткуда, – и на несколько часов домашней работы. Для нее с вечера на письменный пыточный стол моей девятиметровой квадратной обшарпанной комнатенки был взгроможден сильно покоцаный портативный гэдеэровский пишмаш, купленный еще в студенчестве в комиссионке за двадцатку. Слева аккуратно положена стопка чистой бумаги – третьего непарадного сорта, шершавой, неровно обрезанной, с серыми прожилками. Чуть поодаль ждала своей очереди уже распушенная, но пока вполне годная попользованная листовая копирка.
Все восемь послеинститутских лет хирургия делилась со своим слугой лишь моральным удовлетворением. Денег священная корова моей богоугодной профессии надаивала постыдно мало. Чтобы сводить концы с концами, я занялся таким делом, в каком меня никто и никогда не смог бы заподозрить. Я делал переводы и рефераты медицинских журнальных статей. Восемь лет, без праздников и отпусков. Я просто превратился в робота-переводчика-референта и достиг в нелегком деле существенного мастерства – настолько, что казалось: работа идет вообще без моего сознательного участия, сама по себе.
Каждую неделю, по вторникам, поздними вечерами, я появлялся в здании ВИНИТИ на Балтийской у моей редакторши Серафимы Самойловны. Она была старой ушлой волчицей и происходила, наверное, из тех самых хранительниц стаи, одной из которых некогда были вскормлены Ромул и Рем. Теперь таких больше не делают. Всякий раз, видя ее, я содрогался, вспоминая, как она полировала меня поначалу, возвращая на доработку почти каждый несчастный опус по три-четыре раза. Тогда я чуть не плакал от досады. Но Серафима и в мыслях не имела издеваться надо мной. Просто она меня учила. Учеником я оказался толковым, и уже полгода спустя был щедро аттестован на первую референтскую категорию, получив максимальную ставку: от трех пятидесяти до – тут сердце замирало от блаженства – пяти рублей за реферат.
Серафима сидела в кабинете одна, в полнейшей темноте. Горела лишь яркая настольная лампа, выхватывавшая кругом света морщинистые руки в окружении громоздящихся ввысь пачек рукописей, вечно забитую окурками пепельницу и две, а то три хаотично оставленные кружки, наполненные недопитым остывшим крепким чаем.
– Как ты, Стёпа? – раз за разом спрашивала меня она.
– Вашими молитвами, дражайшая Серафима Самойловна! – всякий раз отвечал я.
Важно здесь было то, что ее действительно интересовало, как я и что со мной, а мой ответ действительно был не дешевой формулой вежливости, а рождался из самого моего сердца.
– Покури, Стёпа, – протягивала она мне початую пачку «Столичных» или «Явы». Я аккуратно доставал сигарету, брал со стола спичечный коробок, чиркал спичкой о тёрку.
– Хорошо работаешь, Стёпа, – улыбалась мне Серафима. – Местами виртуозно. Не дошел еще до момента халтурности.
– Спасибо, Серафима Самойловна, – отвечал я, – ваша школа.
Старуха улыбалась. В такие моменты она была красива. И всегда была искренна. Искренна и грустна. Просто она знала, что пройдет немного времени, ее не станет. И тогда не останется больше никого в ВИНИТИ, кто не дошел до «момента халтурности».
Я и сам понимал это. И всякий раз при встрече любовался ею, как художник любуется уходящей натурой. Как зритель из тщетных надеждами шестидесятых замирал когда-то в зале Малого, видя и слыша корифеев, – живущих ныне лишь в целлулоидных кадриках черно-белых лент, на осыпающихся окись-закисью железа архивных магнитных записях Дома радио, да внутри дряхлеющих тонких бумажных страниц Большой советской энциклопедии.
Сдавал готовую работу, получал из рук Серафимы пачку новых ксероксов. Прощался, целуя сухую старческую кожу рядом с безумным чистой воды бриллиантом. Уходил, боясь даже думать – а что если в следующий раз я ее здесь не увижу…
Среду, четверг и пятницу по вечерам, захватывая часто ненужные ночи, я лупил по клавишам пыточного агрегата, превращая готовые с прошлой недели черновики в печатную продукцию. Каждый реферат было положено сдать редактору в двух экземплярах, соблюдая типографские правила: подчеркнуть заголовки, отчеркнуть надстрочные и подстрочные знаки, в неявных местах выделить пробелы, цветом обозначить латиницу, математические и греческие шрифтовые символы.
Мои субботы и воскресенья проходили – с утра и до вечера – в «Ленинке». Она работала по выходным. И туда пускали со своими ксерокопиями. Я брал с собой из дома пачку новых статей. Брал такую же пачку черновиков-обороток, чтобы не тратить лишних денег на бумагу. И сидел, как проклятый, пришпиленный к стулу, с перерывом лишь на сосиски с горошком в дрянном, но помпезном буфете – строчил новые рефераты для отдачи через неделю: те, что предстояло перепечатывать в среду, четверг и пятницу. А те, что следовало отдать волчице Серафиме во вторник, были уже готовы и ждали своей участи дома.
У меня оставался единственный выходной – вечер понедельника. На дежурствах было не до рефератов, и после любого дежурства в такие недели вечер понедельника превращался из выходного в обыкновенный каторжный.
Реферирование удваивало мою зарплату, а иногда приносило больше, чем врачебная ставка. Так было всегда. Всегда, пока не появилась Цапля. Теперь в пятницы, субботы и воскресенья я больше не батрачил. Я жил.
Мысли о Цапле занимали все мое время. Мне стало не до бумаг. Но готовые «хвосты» нужно было сдать – я обещал Серафиме Самойловне, и подвести ее нельзя было никак. Сегодняшним утром я собирался заняться именно этим. Сразу после тарахтения будильника, ванной и завтрака. Наверное, мне оставалось полчаса сна.
– Спишь, – глухо сказала над ухом мать. Я открыл глаза. Мать стояла рядом с моим полуразваленным диваном, купленным, когда мне было семь.
– Доброе утро, мама, – ответил я.
– Спишь, – не глядя на меня, снова сказала мать. – Тебе родительский дом – ночлежка.
У меня не было родительского дома. Отца мы похоронили девять лет назад. Тогда же, вместе с ним, скончался и мой родительский дом. Матери стало больше не нужно притворяться, как она меня любит. А мне до одури хотелось лишь одного – чтобы она оставила меня в покое. Не тут-то было. Когда все это началось – поначалу я старался отшучиваться. Потом – оправдываться. А вскоре мне стало все равно. Снять квартиру тупо не хватало денег. Разменяться и разъехаться я не мог – это бы ее убило. Ей был нужен мальчик для битья. Ладно, стерпится как-нибудь.
Я и терпел. Пока не появилась Цапля. Виделись они лишь однажды, мельком, на улице. Матери этого хватило за глаза, чтобы тихо возненавидеть мою Юлю.
– Да уж, цирковой экземпляр ты себе нашел, – сказала тогда она. Наверное, ей всегда хотелось – хлестануть так, чтобы побольнее. Но мне было уже не больно…
– Спишь, – мать заскрипела стулом по убитому паркету, вытаскивая его из-под письменного стола, усаживаясь напротив в метре от меня.
– Спал, – безразлично сказал я, – мог еще полчаса спать. Доброе утро, мама.
Взгляд матери был тяжел. Амитриптилин, прописанный от непрекращающейся мигрени профессором Гехтом из Первой больницы МПС, действовал все хуже, нам пришлось увеличить дозу и побочных явлений стало больше.
– Ты меня бросил, – сказала мать. – Бросил. Променял на эту жердь лопоухую.
– Мама, можно я умоюсь и поработаю пару часов?
– Да делай что хочешь. Я же тебе не указ. Ты теперь с проституткой живешь.
Я не мог с ней разъехаться. Один раз, в сердцах, пообещал. В тот же вечер она нажралась снотворного с тавегилом. Не уследил. Все закончилось токсикологией Склифа. Когда ее так несло, море ей было по колено. А мама у меня все же была одна.
– Вер, что мне делать? Что нам делать? – спросил я Верку Бондаренко, учившуюся в соседней группе, а теперь работавшую в той самой токсикологии. Верка только вздохнула. Потом стала говорить. Говорила долго. Выход был только один. Амбулаторное и стационарное психиатрическое наблюдение. Без вариантов.
– Валентина Ивановна вчера приходила. Спрашивала, как мой дражайший сын. А мой сын теперь шастает черт знает где. Ему и я, и Валентина Ивановна до лампочки.
Валентина Ивановна была нашей соседкой по коммуналке, когда я родился. Вскоре мы получили квартиру; с тех пор я видел Валентину Ивановну раз в пять лет и теперь совершенно не понимал, какое я имею к ней отношение.
– Ты когда у отца был последний раз на кладбище?
– Мама, можно мне встать, умыться и поработать? – сказал я и позорно сбежал в ванную.
Было понятно, что работать она мне сегодня не даст. После ванной я быстро оделся, сжевал бутерброд с плохой докторской, пропихнув его в глотку спитым чаем и стал зашнуровывать ботинки.
– Мама, я в больницу.
Другие электронные книги автора Михаил Борисович Зуев
Кожа




 0
0