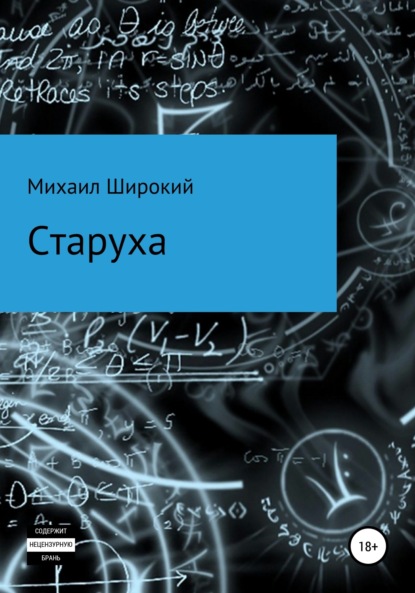По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Старуха
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Они находились в огромном, необъятном сводчатом зале, настоящие размеры которого сложно было определить, так как его потолок, стены и углы были неразличимы: они тонули в окутывавшей его дальние части лёгкой голубоватой дымке. Зал казался беспредельным; он производил впечатление безграничного, необозримого пространства, уходившего в безбрежную даль и терявшегося в колыхавшейся в отдалении мутной, зыбящейся, как морская пена, пелене. Она стлалась по полу, клубилась вдоль стен, парила под потолком, уподобляясь плывущим в поднебесье облакам. Из-за этой змеящейся, находившейся в непрестанном движении дымки всё здесь казалось каким-то зыбким, неверным, нереальным, происходящим как будто во сне. Или, скорее, в глубоком расслабляющем беспамятстве, охватывающем человека на пороге небытия.
Да и разве могло быть иначе? Разве могло быть в действительности то, что творилось с ними? И разве может случиться такое при жизни? Конечно же, нет. А значит, вывод напрашивался сам собой: они уже мертвы! И то, что происходит с ними, – это уже за пределами жизни, по ту сторону. Они в самом деле умерли. И уже не так важно, когда именно это произошло, – задохнулись ли они в погребе, разбились при падении в подземную бездну, изжарились во внезапно охватившем подземелье пламени или были раздавлены сомкнувшимися каменными глыбами. Какая разница? Им уже всё равно. Они наконец пересекли тонкую незримую грань, отделяющую жизнь от смерти, и вступили в таинственную, неизведанную сферу, в которую хоть раз, хоть одним глазком хочется заглянуть любому живущему. Даже понимая, что это любопытство может оказаться роковым.
Но друзьям уже нечего было опасаться. Их бесчисленные, преследовавшие их так долго и упорно страхи остались позади. Страхи, как и все прочие чувства, страсти и эмоции, иссякают вместе с жизнью. Тот, кто сбросил с себя её порой непосильное бремя, уже ничего не боится. Только тогда человек стряхивает с себя так мучительно тяготившее его бремя забот, тревог, печалей и невзгод, свободно расправляет плечи, выпрямляется во весь рост и спокойно и твёрдо смотрит в лицо Неведомому и Непостижимому. О чём он в течение всей жизни лишь смутно догадывался, присутствие чего неясно чувствовал где-то совсем рядом, чьё лёгкое, неуловимое дыхание ощущал порой на своём лице. О чём он нередко задумывался, что на все лады рисовало ему воображение, что, как безмолвный, но неотступный спутник, сопутствовало ему на извилистой и ухабистой жизненной дороге…
Приятели недолго оглядывались по сторонам. В дальних концах бескрайнего помещения, в котором он очутились, не было ничего заслуживающего внимания. Вернее, всё остальное бледнело и меркло в сравнении с тем, что они увидели в центре зала. В другое время и в другом месте подобное зрелище, скорее всего, поразило и ужаснуло бы их, ввергло бы в ступор, заставило бы их сердца судорожно сжаться и оледенеть. Сейчас же всё было совершенно иначе. Они почти не испытывали страха. Лишь изумление, недоумение, оторопь. И какое-то странное, неизъяснимое любопытство. Любопытство самоубийцы, заглядывающего в пропасть, в которую он надумал прыгнуть, сводя счёты с опостылевшей жизнью.
В середине зала находился громадный продолговатый стол, вытянутый в сторону, где стояли друзья. Старомодный, массивный, из красноватого потемневшего дерева, с толстыми резными ножками. Уставленный такой же крупной тяжеловесной посудой – широкими блюдами из потускневшего серебра и высокими прозрачными кубками, наполненными густой мутноватой жидкостью тёмно-красного оттенка. Блюда также не были пусты. Они были наполнены едой. Но какой? Лица приятелей перекосились от омерзения, когда они, присмотревшись как следует, разглядели эти «яства». В одном блюде извивались, издавая тихое ровное шипение, переплетённые в клубок змеи, в другом – копошились, в бессильной ярости жаля один другого, скорпионы, в третьем – ползали друг по другу тарантулы…
Сидевшие за столом, на больших стульях с высокими, закруглёнными сверху спинками, люди были под стать и этим блюдам, и всей окружающей обстановке. Это были мертвецы! Иссиня-бледные, высохшие, костистые, облачённые в длинные белые балахоны, полностью покрывавшие тощие остовы их тел и спадавшие до пола широкими тяжёлыми складками. Их лица были совершенно недвижны, безжизненны, бесчувственны; лишь истончённые, почти неразличимые синеватые губы время от времени едва заметно шевелились, как если бы они переговаривались друг с другом, или, скорее, шептали что-то самим себе. Пустые белесые, словно покрытые бельмами глаза смотрели бессмысленно и безучастно, в никуда, очевидно созерцая то, что недоступно взорам живых. Узкие костлявые кисти с тонкими удлинёнными пальцами у одних немощно лежали на подлокотниках, у других так же бессильно и неподвижно покоились на столе, как будто они протягивали их к разложенной там отвратительной пище.
Однако даже не всё это, само по себе невероятное и неописуемо жуткое, изумило приятелей в первую очередь. Более всего поражены они были, когда, вглядевшись в бездушные черты сидевших, узнали некоторых из них. На краю стола, ближе всего к друзьям, сидела алкоголичка Вера со своим безымянным сожителем. Они практически не изменились, были почти такими же, какими были при жизни. Разве только сделались непривычно спокойными, бесстрастными, безразличными ко всему на свете. Как будто только смерть смогла успокоить и смирить их, унять бушевавшие в них нездоровые страсти.
Так же бесчувствен и бессловесен, так же бездумно уставился в пустоту застылыми мёртвыми глазами расположившийся напротив них сторож со стройки, не так давно такой бойкий, жизнерадостный, самоуверенный и самодовольный. Но смерть умирила и его. Как и всех находившихся здесь. Как и всех, к кому она является нежданной и непрошенной гостьей, чтобы оборвать тонкую нить нашей жизни и открыть дверь в вечность…
Но всё же самая главная встреча ещё предстояла друзьям. Хотя и не была для них неожиданностью. Они ни секунды не сомневались, по чьей воле совершается всё происходившее с ними, кто дирижирует всей этой чертовщиной. И ждали лишь момента, когда ОНА явится им самолично и окончательно решит их участь, которая давно уже была в её руках.
И вот этот момент наступил. В колыхавшейся в противоположном конце зала мутной размытой пелене раздалась тяжёлая мерная поступь, сопровождавшаяся таким же размеренным глухим стуком и прекрасно знакомым приятелям бессвязным бормотаньем. Они выразительно переглянулись и с непередаваемым выражением качнули головами. После чего немедленно перевели сосредоточенные взоры в затенённую глубину помещения, откуда спустя пару мгновений появилась тщедушная согбенная фигура, опиравшаяся на клюку. Она выглядела так же, как тогда, в тот памятный вечер, когда они в недобрую минуту зашли к ней в гости. В длинном, до пят, белом одеянии, похожем на ночную сорочку, края которого волочились при ходьбе по полу. С рассыпанными по плечам растрёпанными седыми космами, кончики которых при движении вздрагивали и метались из стороны в сторону. С запавшим безгубым ртом, презрительно кривившимся и что-то шептавшим. С острым, въедливым взглядом маленьких водянисто-матовых глаз, быстро зыркавших вокруг и будто ощупывавших всех присутствующих. Или словно искавших кого-то.
Медленной, шаркающей походкой, чуть раскачиваясь и тряся головой, она достигла середины зала и, немного помедлив, уселась на громоздкое, похожее на трон кресло, стоявшее во главе стола. Мельком оглядев собравшихся, откинулась, точно в изнеможении, на спинку, уронив руки на толстые резные подлокотники и свесив голову на грудь. Некоторое время слышалось только её прерывистое хрипловатое дыхание. Не сводившим с неё глаз приятелям показалось, что она задремала. Что она заявилась на это сборище мертвецов лишь для того, чтобы усесться в председательское кресло и уснуть, хоть ненадолго забыться неверным старческим сном.
Но друзья ошибались. Она не спала. А если и впала в лёгкое забытьё, то лишь на несколько мгновений. После чего задвигалась, завозилась в кресле, затрясла спутанными лохмами и, вскинув голову, уставилась на сидевших за столом.
– Все здесь? – донёсся, казалось, из самой глубины её чрева тягучий, задыхающийся голос.
Покойники не сразу, точно после краткого раздумья, утвердительно склонили головы.
Но старуха, ещё раз окинув собрание цепким, изучающим взглядом, насупилась и недовольно прохрипела:
– А где она?.. Почему я не вижу её?
Присутствующие безмолвствовали. То ли не понимали, чего от них требуют, то ли не знали ответа на поставленный вопрос.
Это как будто разозлило старую ведьму. Она стиснула и без того почти невидные, тонкие, как нити, губы, стукнула маленьким сухим кулаком по подлокотнику и натужно выкрикнула:
– Приведите её! Немедля!
Недвижимые, безразличные ко всему мертвецы после этих слов вздрогнули и чуть-чуть зашевелились, словно обнаруживая некоторое беспокойство или даже страх. А чуть подальше, у старухи за спиной, послышалась какая-то нестройная возня, как если бы кто-то невидимый бросился исполнять её приказание.
А затем случилось то, чего ждали приятели. То, ради чего, как они не без оснований полагали, она и явилась сюда, для чего собралась здесь вся эта странная, жутковатая компания. Для чего такими извилистыми, диковинными путями были приведены в это место они сами. Она обратила, наконец, на них внимание. Устремила в их сторону тяжёлый, хваткий взгляд своих блёклых неживых глаз. И минуту-другую рассматривала их напряжённые, съёжившиеся фигуры пристальным, неотрывным взором, как будто видела их впервые.
И добилась того, на что, по-видимому, и рассчитывала. Друзья не выдержали её ледяного, пронизывающего взора. Это было свыше их сил. Они потупились и невольно отступили на шаг, чувствуя, как их тела пронзил мертвенный холод, а сердца застыли, будто в тоскливом ожидании чего-то неминуемого и фатального.
Добрая же, очевидно, осталась довольна действием, произведённым на врагов одним её взглядом. Врагов, которых она создала себе сама, возненавидев их, по так и оставшейся неизвестной им причине, неистовой, неутолимой ненавистью и объявив им безжалостную, беспощадную войну, войну на истребление, в которой не могло быть ни мира, ни перемирия, которая должна была закончиться лишь уничтожением противника.
И вот она могла праздновать победу. Неприятели оказались в полной, безраздельной её власти. Она могла делать с ними всё, что было ей угодно. Их судьба была в её руках. И у приятелей не было особых иллюзий по поводу того, какова будет их участь, чем всё закончится для них. И они смирились с этим, приняли это как должное. Чего не избежишь, что не оспоришь, чему бесполезно и бессмысленно сопротивляться. Тем более здесь, в этом страшном подземном мире, вероятно в самой преисподней, куда завела их тёмная дорога, на которую, сами того не ведая, они вступили несколько недель назад. И где они были уже совершенно беззащитны и беспомощны и не могли даже надеяться на спасение и возвращение туда, где осталось всё самое дорогое и светлое, что было в их жизни.
Старуха, насмотревшись на них вдоволь, удовлетворённо ухмыльнулась и небрежно, презрительно скривив рот, прошамкала:
– Ну вот вы и у меня в гостях. Вы же так этого хотели… Добро пожаловать!
И, видимо не в силах сдержать своей радости, разразилась реденьким квохчущим смешком, сотрясшим всё её тощее ссохшееся тело, напоминавшее в своих белых одеждах покрытую пеленами мумию.
Товарищи, у которых от этого смеха мороз пробежал по коже, угрюмо, безнадёжно, точно прощаясь друг с другом, переглянулись и уныло поникли головами, уставившись себе под ноги. Они словно не желали видеть того, что должно было последовать затем.
Но любопытство, неодолимое, упрямое, не покидающее человека даже на пороге смерти, – а может быть, и после неё, – оказалось сильнее, и уже через несколько секунд они, не удержавшись, подняли глаза и увидели две новые фигуры, будто из ниоткуда возникшие в зале.
Одна была знакома им, и при первом же взгляде на неё друзья, хотя им и казалось, что ничто уже не способно испугать их, почувствовали пронизавший их страх. Позади старухиного кресла, выпрямившись во весь свой огромный рост и скрестив руки на груди, будто на страже, стоял мощный широкогрудый незнакомец с закрытым лицом, в долгополой чёрной хламиде, резко контрастировавшей с белыми одеждами остальных присутствующих. Тот самый, которого они видели в квартире Доброй, когда он, вынырнув из тьмы, явился их взорам и шагнул в их сторону, заставив их, вне себя от ужаса, обратиться в бегство. Тот самый, силуэт которого они увидели во время визита на стройку, за спиной говорливого сторожа, ныне абсолютно безучастно сидевшего за общим столом и будто не замечавшего своего убийцу. И вот он снова, в совершенно иной обстановке, предстал перед ними. И, как настойчиво подсказывал им громко заговоривший в них внутренний голос, предстал совсем не случайно. В том мире, в котором они очутились, – в отличие от того, откуда они пришли, – вообще ничего не происходило случайно. Всё имело свой смысл, значение и целесообразность.
Но неизвестный явился не один. Рядом с ним, чуть впереди, справа от старухиного кресла, застыла ещё одна фигура, являвшая собой полную противоположность ему. Невысокая, хрупкая, миниатюрная, с красивой осанкой, очевидно женская. Облачённая, как и все собравшиеся, за исключением чёрного незнакомца, в белоснежное одеяние с лёгким голубоватым отливом, мягкими струящимися складками опадавшее на пол. Её руки бессильно висели вдоль тела, полностью покрытая просторным капюшоном голова будто в изнеможении склонилась на грудь. Казалось, незнакомка была объята сном, или, по крайней мере, пребывала в глубоком беспамятстве, похожем на летаргию.
Едва взглянув на неё, Миша ощутил странное волнение. Несмотря на облекавшее её широкое покрывало, скрадывавшее очертания фигуры, она тем не менее показалась ему знакомой. И чем дольше он вглядывался в неё, тем сильнее делалась его уверенность в том, что под лазурно-белыми одеждами скрывается та, о которой до недавнего времени были все его мысли. Вмиг всколыхнувшееся и разгоревшееся в нём горячее чувство также громко и настойчиво говорило ему о том же.
Но это не укладывалось у него в голове. Как это могло получиться? Разве такое возможно? Как она могла оказаться здесь, в этом царстве ужаса и смерти, среди чудищ, покойников и всякой нечисти, за столом, на котором копошатся и извиваются мерзкие гады? Она, юная, свежая, прекрасная, живая…
А может быть, уже не живая? – дойдя до этой мысли, одёрнул он себя, и охватившее было его нервное возбуждение резко спало. Разве живому место в преисподней? Они попали сюда только после того, как умерли. Они не знали, когда именно, в какой момент это произошло, но не сомневались в том, что уже мертвы, что свет жизни погас для них навсегда. И потому они здесь, в мучительном, изматывающем ожидании своей дальнейшей участи. Но что же делает тут она? Неужели она тоже?..
– Узнаёшь? – ворвался в его смятенные, горячечные раздумья скрипучий голос Доброй, чуть вздрагивавший от рвавшегося наружу смеха.
Миша, на лбу которого выступил холодный пот, перевёл на неё сумрачный, остановившийся взгляд и судорожно стиснул зубы.
Старуха, уже не сдерживаясь, опять захохотала, обнажая голые розоватые дёсны и раскачиваясь, как болванчик, туда-сюда.
– Узнал! Узнал! – задыхаясь от смеха, хрипела она. – Конечно, узнал. Как же тебе да не узнать свою любезную. Пусть даже и мёртвую!
Мишино сердце болезненно сжалось и заныло. Он предполагал, конечно, что видит перед собой уже не живую Ариадну. Вернее, даже знал… Но, несмотря ни на что, всё же надеялся. Потому что надежда, наверное, не покидает даже мертвеца. Он надеялся, что хотя бы её миновала эта чаша. Что она будет жить и наслаждаться жизнью. И любить. Пусть и не его…
Но надежда была развеяна в прах. Проклятая ведьма добралась не только до него, но и до той, кого он любил. Она не просто убила его. В своей неуёмной, беспредельной ненависти она решила мучить его и после смерти. То есть тогда, когда все без исключения обретают мир и покой. Даже те, кто не заслужил их.
Старуха тем временем, продолжая похохатывать и кривить тонкие бескровные губы, дала знак гиганту в чёрном, и он, повинуясь указанию, откинул с головы незнакомки капюшон.
Миша невольно ахнул. Да, он не ошибся. Предчувствие не обмануло его. Это была она! Бледная, без единой кровинки, с исхудалым, осунувшимся лицом, плотно сжатыми поблёкшими губами и потупленными, а вернее, полузакрытыми глазами, замутнённый, явно невидящий взгляд которых был уставлен в пол. Клочковатые, чуть встрёпанные пряди золотисто-пепельных волос падали на чистый белый лоб, разрезанный двумя продольными морщинками. Черты, по-прежнему утончённые и пленительные, были недвижны, безжизненны, бездушны. Черты красавицы, умершей во цвете лет, которые смерть ещё не успела исказить и обезобразить.
Оглушённый, ошарашенный Миша, чувствуя нараставшую в сердце невыносимую боль, тронулся с места и, не отрывая от Ариадны сосредоточенного, исступлённого взора, направился к ней. Он не боялся больше ничего и никого. Ни старой ведьмы, не сводившей с него торжествующего злорадного взгляда и не перестававшей издевательски ухмыляться, ни приводившего его некогда в панический ужас чёрного великана, застывшего, как статуя, с по-прежнему скрещёнными на груди руками, позади старухиного кресла, ни скопища мертвецов, сидевших за столом, перед своими омерзительными яствами, с анемичными, ничего не выражавшими лицами, как если бы всё происходящее совершенно не касалось их. Ему не было до всех них никакого дела, они не существовали для него. Он видел только её. Её, как и прежде, прекрасное, такое родное для него лицо, потухшие, подёрнутые туманом глаза, тонкие контуры грациозного гибкого тела, проступавшие из-под драпировавшего их одеяния.
Обойдя стол с замершими на стульях покойниками, он приблизился к ней вплотную. Около минуты, едва сдерживая вновь охватившее его волнение, смотрел на неё, вглядываясь в её застылые, неживые черты и остекленелые, угасшие зрачки. Затем тихо окликнул её. Она не отозвалась. Он повторил её имя погромче. И вновь ни малейшей реакции.
Тогда он взял её за руку. Она была бела как снег и холодна как лёд. Он подержал её в своих ладонях, как будто надеялся отогреть и вернуть к жизни. И тут же понял тщетность своей надежды. Кровь больше не пульсировала в её руке, как и во всём теле. Перед ним был труп. Лишь благодаря какому-то дьявольскому ухищрению стоявший на ногах и, возможно, даже передвигавшийся.
Ещё большая, совсем уж нестерпимая боль разорвала ему сердце, когда он окончательно всё понял и когда последние зыбкие надежды рассеялись. Такая лютая, неистовая тоска и отчаяние объяли его, какие не охватывали его даже при мысли о собственной смерти. Он хотел закричать, но не смог. Рвавшийся изнутри вопль застрял в пересохшем, будто сдавленном чьими-то железными пальцами горле. И лишь глухой, заунывный стон вырвался из его стеснённой груди.
Кое-как справившись с собой, он снова поднял на неё немигающие, блестевшие сухим лихорадочным блеском глаза. Он понимал, что времени у него в обрез, что сейчас её отнимут у него. На этот раз навсегда, навеки. А потому хотел насмотреться на неё напоследок, запечатлеть её образ в памяти. И носить его там вечно.
Но одного только взгляда ему показалось мало. Он снова захотел коснуться её. Он поднял руку и провёл кончиками пальцев по её лицу. По краю лба, виску, щеке, губам, подбородку. Ему невыразимо приятно было касаться её мягкой шелковистой кожи, на которую смерть пока не успела наложить свою неизгладимую печать.
А ещё через мгновение ему почудилось, что в её померкших глазах мелькнули тусклые искорки. А по бледной щеке поползла прозрачная слеза, оставляя за собой влажную бороздку.
И его погасшая было надежда вспыхнула с новой силой. И он, с легковерием отчаявшегося, охотно впадающего в крайности и молниеносно переходящего от безмерной, неизбывной тоски к безумной надежде, уже готов был поверить в невозможное.