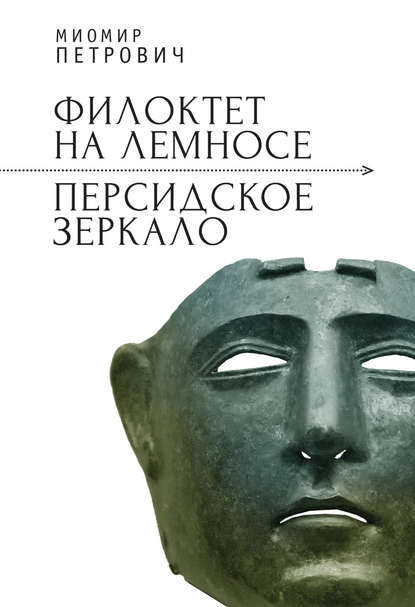По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Филоктет на Лемносе. Персидское зеркало
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ахилл умер, а ты… у тебя будет ребенок! – сказала она опять на одном дыхании, наверное, испугавшись, что слова исчезнут сами по себе.
Некоторое время длилось привыкание к тому, что в природе на самом деле возможно всё, всё может уместиться в один день. В одну фразу. Может, в две, произнесенные разными губами. Когда Хриса вновь глянула на него, с недоверием, но и с надеждой, впитывая каждое его движение и пытаясь понять, лицо Филарета свела судорога. Она глянула на него так, словно прощалась навсегда.
– Ребенок – сухо повторил он.
Потом ему показалось, что открытая рана на ноге, розовая прозрачная пленка, уже давно покрывавшая язву, переместилась на лицо. В мгновение, наступившее после минуты странного упокоения, он ощутил все свое существо будто сплошную рану. И после этого, теперь уже точно как зачарованный, захромал к выходу, забыв о присутствии женщины, принесшей ему весть, забыв ее так, как никогда бы не забыл своих коз – Конелию, Айолу, Хиспанию, Круду.
А она тихо, может, немного обидевшись, направилась за ним.
2 часть
Беглец
Достопочтенный демонический, ты, гигантский глаз, пожиратель сырого мяса. Не бойся: никого нет сильнее нас, никто не может причинить нам зла. Перед нашими окнами несет свои воды враждебный поток, но мы сидим здесь, в нашей стихии, и до сих пор нам везло. Я не так уж слаб, я не так уж бессилен, и я могу быть свободным. Я хочу успеха и приключений, я хочу научить ландшафт разумно мыслить, а небо – скорбеть. Понимаешь? И я нервничаю.
(Петер Хандке «Медленное возвращение домой»)[3 - Перевод: М. Коренева (СПб, «Азбука», 2000).]
I
Это не небо порозовело за несколько мгновений до того, как в нем проклюнется солнце, унося последние космы тумана, который и без этого, сам попрятался в дыры и пещеры, откуда он незваным явился наружу, в природу – на самом деле розовыми были облака, оповещавшие о неспешном появлении из соленой поверхности моря небольшого огненного шара. Розовые, чуть вспрыснутые лаком, может быть, несколько более глухого оттенка, скорее напоминавшего кровь, которую семнадцатилетнему Филоктету доводилось видеть очень часто. Молодой человек стоял почти нагой, измазанный красками, которые должны были вписать его в природу, позволив отчетливо выступившим венам и мышцам спокойно впитывать струящийся прохладный утренний воздух, превращая самоощущение тела в неопровержимое доказательство энергии, силы и непременно успешной охоты. Всю ночь он провел, напряженно скорчившись среди кустов омелы и зарослей примулы, мелкие, но опоясанные острыми иголочками цветы которых служили ему укрытием от насекомых и мелких животных, которые пытались кусать и грызть его, сидящего в засаде на корточках. Юноша вновь обвел взглядом долину, облитую утренним солнцем, пытаясь хотя бы по запаху определить, пробудилась ли жертва, собирается ли она выйти из расселины, куда забилась вчера, спасаясь бегством от человека. Потом он глянул на огромный лук Геракла, который с прошлой ночи не выпускал из рук, и на длинную стрелу, смазанную ядом, готовый притянуть жилы тетивы к правой половине груди и позволить им пощекотать правый сосок, отметив этим раздражителем готовность и внимание, сосредоточенность на трех всего лишь вещах: на стреле, тетиве и жертве перед ними.
Понадобилось целых три дня и только что прошедшая ночь, чтобы разобраться в путях скитаний этого крупного дикого козла, спина которого (он мог видеть ее в редкие мгновения, когда козел, чувствуя взгляд человека, но не понимая, откуда тот смотрит, чувствуя приближение смерти, вылетал из одного убежища в поисках другого), спина, следовательно, которого сияла здоровьем и лоском, предвещавшим богатую добычу.
Стопы охотника были ободраны на козьих тропах, что переплетались вокруг Эты, его легкие вдыхали и выдыхали пыль, поднятую его бе?гом, глаза болели от резких движений, которые он совершал, чтобы еще и еще раз укрыться так, чтобы животное не обнаружило его присутствия. И даже его намерения. Потом, в середине вчерашнего дня, когда ветер задул к югу, от козла к охотнику, он остановился, чтобы приготовить мазь. Смешал мелкую пыль, как учил его старый охотник Мандор, с корнем примулы, растения, которое распространяет вокруг себя невыносимую вонь, от которой бегут все мелкие животные, глотая свежий воздух так, словно это их последнее дыхание, и сделал смесь, которой, добавив еще немного птичьего помета, вымазал тело.
Так появление человеческого существа, обозначенное запахами источающих вонь веществ, перестало быть присущим представителю мира людей, превратившись в явление животного мира. Уничтожая собственный запах, осторожными и ловкими движениями изменяя способ человеческого передвижения и, напоследок, поперечными полосами меняя сам вид своего тела, ему было легче выследить козла. Таким образом он мог подкрасться к животному совсем близко, и в тот момент, когда он уже прицелился твердой рукой из своего ядовитого оружия, жертва успела юркнуть в расселину, или в маленькое входное отверстие пещеры. Такое завершение дня обеспокоило юношу. Детская неуверенность вырвалась из него, словно камень из катапульты, и Филоктету понадобилось сделать несколько глубоких вздохов, полных разочарования, но одновременно и облегчения, достаточных, чтобы простить себе, казалось бы, верный выстрел, обернувшийся промахом. После этого он, мгновенно предоставив юношеской неуверенности вступить в схватку, столкнуться с искусным мастерством охотника, начал судорожно искать, где же была допущена ошибка.
Это был колчан. Юноша не вымазал смесью только колчан со стрелами, из уважения к великолепию этого творения искуснейших рук ремесленника, созданного из кожи молодого, скорее всего, еще не оскопленного быка, в тот момент, когда кровожадные руки сдирали ее с тела, от которого еще исходил пар жизни. Только колчан сохранял человеческий дух, что так обеспокоило козла. Может, он сохранил запах рук человека, касавшихся бычьей шкуры, а может, и самого Геракла, который за все эти годы наверняка сроднился с ним.
Недовольный охотник, не прекращая укорять себя, цокнул языком и отправился на поиски укрытия и засады, из которой он мог наблюдать за входом в пещеру, оставаясь при этом незамеченным. Он лихорадочно молил Артемиду, чтобы у пещеры не оказалось второго выхода, через который животное могло бы уйти. Всю ночь, не прекращая, он вспоминал то мгновение, когда увидел мордочку козла и его крупные глаза. Во время бега, прыжков из укрытия в укрытие, он сумел рассмотреть его морду, исцарапанную колючим кустарником, задетым на бегу, видел, как бешено, словно плавающие в масле, вращались зеницы его глаз в безумном ритме пляски бегства. В том единственном взгляде, которым козел вроде бы нехотя одарил Филоктета, был страх. Страх смерти.
Возможно, тогда, в те годы, Филоктет гораздо острее смерти чувствовал ее запах, хотя еще и не умел его определять, понимать и проверять. Может быть, просто каждая жертва за несколько часов до того, как страшный удар прикует ее к земле и отнимет жизнь, сама излучала понятный только юноше, только его уму постижимый запах исчезновения. Этот аромат юноша ни в коем случае не воспринимал как смрад гниения, который начинал распространяться вокруг животного после того, как последняя капля жизни покидала его тело. Нет, этот запах кала не вызывал у него отвращения, животное, еще несколько минут тому назад сиявшее жизнью, защищало им свой собственный труп. Напротив, излучение страха смерти было, по его ощущениям, каким-то более резким, настойчивым, более точным, и по ценности своей для охотника не уступало запаху животного. Животный страх смерти для него всегда был усиливающимся запахом жизни.
Возможно, запах весны, пробуждения, со слегка приглушенным оптимизмом, эдакий тяжелый и полный благоухания цветов, клокотания воды и покоя болот. Одновременно наполненный началом работы природы и гниения предыдущих, зимних форм жизни. Так Филоктет, принюхиваясь, принимая в себя тяжкий и обязывающий аромат страха смерти, чувствовал, как грудь его наполняется, как солнце всё теплеющими лучами обливает тело, и ноги его становятся все легче. И он любил этот аромат. И более того.
Возможно, впоследствии, после абстрактного восхищения великолепным оружием, восхищения скорее средством, нежели целью охоты, оно ослабло, как в его чувствах, так и в холодных размышлениях, и место восторга занял сам предмет охоты. Зверь. Во всем своем разрушительном великолепии. Таким образом юноша, наверное, только что спровоцированный чужим страхом смерти, впитал еще один, новый вид энергии, связанный с процессом охоты. И потому, наряду со многими прежними идеалами, Артемида стала его новым божеством.
В таком напряжении, из-за невыносимой концентрации, могло статься, что внимание юноши падёт жертвой жестокости, и он, сосредоточившись на себе как на охотнике и забыв про добычу, пропустит какой-нибудь совсем неприметный знак, свидетельствующий о том, что козел вышел из укрытия. Но тут его окаменевшая грудь внезапно вздрогнула, сердце – то ли из-за усталости и бессонной ночи, то ли из-за возбуждения – заколотилось сильнее. Сам охотник оставался спокоен. Он находился в самом центре невидимой сети, связывающей его с жертвой, которая почти неощутимым, капиллярным трепетом давала ему знать, что добыча вызывает его на последнюю схватку. Юноша вознес хвалу владычице и напряг все тело, изготовившись к прыжку.
Над его головой пронесся шорох сухих веток, укрывавших вход в пещеру, раздался какой-то треск из долины, напоминавшей своими пологими склонами амфитеатр, и только потом появилась морда. Вспыхнули безумием козлиные глаза. В них больше не было страха смерти. Минувшая ночь своим страхом свела добычу с ума. Итак, сначала появилась морда, с которой капала пена, после чего юноша мгновенно увидел, как жилы на козлиной шее натягиваются со страшным напряжением, едва не лопаясь, и быстро, в мгновение ока проанализировав это, охотник понял, что жертва сейчас втягивает воздух, после чего резко подскочит, взовьется из отверстия пещеры, раздвигая телом кусты, что могли бы послужить ему хорошим укрытием. И только потом ноздрей юноши достиг запах. Запах драматического, молниеносного разложения животного, запах уничтожения, но и моментального обновления всех клеток, пор, частичек козлиного тела. Как будто животное, почувствовав конец, превратилась в машину непрерывного отмирания и мгновенного возрождения.
Филоктет переменил исходное положение, крепко сжал левой рукой лук, укрепил на нем стрелу, придерживая ее средним и безымянным пальцем той же руки, так, как его учил Мандор, потом перенес лук вертикально к груди, точно по вертикальной линии между сосками. Правую руку перенес к толстой и жилистой тетиве лука, ухватившись за нее пальцами.
Потом, позволив себе для успокоения некоторое время, выигранное быстротой всех предыдущих движений, правой рукой легко натянул тетиву, позволив ей коснуться правого соска и тем самым ограничив ее напряжение. Сконцентрировался на острие стрелы, оказавшееся прямо перед его глазом. С большим трудом, с полным напряжением мышц удерживая равновесие между левой рукой с луком в ней и правой рукой, зажавшей тетиву, юноша нацелил верхушку стрелы так, что все прочие детали пейзажа, не совмещавшиеся с ней, тонули в мутно-молочном слепом пятне. Прищурив оба глаза, он затаил дыхание между точно выверенным вдохом и выдохом, и, не меняя избранной позы, переместил тело влево, соблюдая установившееся между всеми его членами равновесие. Потом повернулся в том направлении, которое, вне всякого сомнения, должен был избрать и козел.
Спокойно отпустил правую руку, выпрямив пальцы, которые судорожно сжимали тетиву, и почувствовал удовлетворение, когда шумы в каждый миг своего краткого существования принялись нанизываться один на другой, каждый своим голосом рассказывая собственную историю.
Сначала последовал тупой и сильный удар середины тетивы об основание лука. Потом вокруг ладони юноши, деформировавшейся от силы, которую ей пришлось обуздывать, образовался целый фонтан крошечных капелек жира, которым была смазана тетива ради сохранения эластичности. Далее, словно на арфе или цитре, был сыгран насильственный такт, затем послышалось гудение всех переплетенных жилок, образующих тетиву, которые были выпущены на свободу так, что на своем дальнейшем пути, а еще больше после избавления от оперенного комля стрелы, они сталкивались и ударялись одна о другую. Теперь последовал скрип деревянного тела стрелы по кожаным ремешкам, обматывающим дугу лука. В это мгновение левая рука юноши, полностью освободившись от навязанного ей сопротивления материала, стала отдаляться от тела. Ладонь задрожала, и потребовалось легкое движение сустава в противоположную сторону, чтобы оружие осталось в руках. Этот звук напоминал треск расколотого пополам бревна, удар молнии в одинокое дерево на холме. Резкий, долгий, угрожающий звук распада материи. Звучное самоуничтожение. И, наконец, любимый звук Филоктета – свист.
Охотник почувствовал, что в момент возникновения свиста, начала разрушения сгустившегося воздуха гибким телом стрелы, он сам покидает собственное тело и превращается в стрелу, в которой сосредоточилась вся его духовная и физическая энергия. А стрела, этот заостренный кусочек железа, заботливо насаженный на прочный и многочисленными мазями пропитанный прут, рассекала перед собой воздух, грозя нанести ему незаживающую рану. Это рассечение пространства между палачом и жертвой длилось слишком долго, и охотнику казалось, что полет стрелы не завершится никогда, что конца ему не будет. Юноша зажмурился, втянул струю воздуха, что ласкала его лицо; складка на правой щеке, образованная прижатой в момент выстрела тетивой, постепенно расправлялась, возвращая кожу в прежнее состояние. В это время свист из неопределенного «шшшшшш» превратился в куда более резкое, гибкое, тонкое «сссссс», давая знать замершему на мгновение охотнику, ожидающему результата своих расчетливых действий, готовому принять и попадание и промах, что скоро вся охота, сконцентрировавшаяся теперь в одном полете, завершится.
Словно что-то заколотили. Как будто удар молотком по наковальне. Обыкновенное «бац». Филоктет открыл глаза. И в это мгновение магия ритуала внезапно оборвалась, достигнув апогея. Наверное, козел, решил Филоктет, по колебанию воздушной волны учуял приближение стрелы, тем самым на какую-то долю ослабив смертоносную силу, посланную в него охотником. В последний миг он слегка дернулся вправо (охотник предугадал это), после чего сам напоролся на оловянный наконечник стрелы. Поэтому удар пришелся в грудь, а не в середину шеи, как ему предназначалось. Однако стрела не прекратила движения. Мясо для нее не было серьезным препятствием, и она продолжила путь сквозь тело жертвы, пронзив его насквозь, и вышла за лопаткой, где, наконец, остановилась.
Козел, конечно, боли не почувствовал. Хотя, благодаря ядовитой мази, нанесенной еще Гераклом на наконечники двухметровых стрел, смерть началась. Животное рухнуло. Оно, как всегда при воздействии яда Геракла, стало мертвым до падения на землю. Так что труп, в котором еще в падении гасли последние искорки жизни, ударился о землю с треском, эхом разлетевшимся по всему амфитеатру долины. Он окоченел, замороженный ядом. Наверное, окаменел в смерти. И, может быть, именно поэтому убийство стрелами Геракла выглядело как крайне полезная в гигиеническом отношении деятельность.
Охотник выскочил из укрытия. По его телу бродила некая, все еще не понятая им энергия, энергия, которую невозможно было охватить и поместить в самоощущение тела. Затем он с легкостью проскочил десяток метров, отделяющий его от добычи, едва ли не подпрыгивая от распиравшей его силы, перепрыгнул через опасные корни и густой кустарник, преграждавший ему путь. Добравшись до мертвого животного, он остановил сначала бег, потом дыхание, чтобы всю силу и энергию претворить в глубокое сосредоточение и почти ритуальное преклонение перед мертвым козлом. Он приблизился к нему. И только тут почувствовал иной запах, не присущий животному, запах ничуть не привлекательный, дух гниения и исчезновения. Дух, следующий после смерти.
Гибкими пальцами он ухватил стрелу за оперение и потянул ее назад. Стрела медленно, сопротивляясь прилагаемым усилиям, подалась, разрывая в движении мясо добычи. Филоктет всегда выдирал ее именно так, зная, что если проталкивать ее вперед, то его ладони может поранить отравленный наконечник. Именно по этой причине тот был гладким, без зазубрин, так как мастер, делавший стрелы, знал, что яд будет очень сильным и стойким, и потому не следовало опасаться, что стрела не останется в теле. Другими словами, если бы неловкий охотник промахнулся и лишь оцарапал добычу гладким острием, жертва все равно бы рухнула на землю. Поэтому Филоктет осторожно и внимательно вытащил стрелу из тела, протерев потом только древко стрелы. Наконечник он не вытирал никогда, чтобы не подвергать себя опасности.
Вернув стрелу в колчан и посвятив куда больше внимания оружию, нежели добыче, Филоктет вздохнул. И только после этого глянул на мертвого козла. Морда его была полуоткрыта, зубы лежали на отвисшей нижней губе, а из раны поднималась на первый взгляд необычная, но привычная для Филоктетовой охоты, струйка пара. Это испарялся яд, освоивший последние территории безжизненного тела. И после этого, оставаясь верным своим обычаям, охотник обмакнул обе ладони в козлиную кровь и дико крикнул в пространство над головой, словно желая через узкую горловую щель выплеснуть энергию, волны которой захлестнули его тело в то мгновение, когда стрела нашла свою цель. Этот пронзительный и в то же время несколько обиженный, печальный вопль вырывался из глубин существа, крик, который во всей его дикости должны были услышать в ближайших селах Магнесии. Охотник воздел руки над телом жертвы, слившись на мгновение с окровавленным мясом в странном и только его чувствам известном хороводе, в котором только что приняла участие и стрела.
Так они и замерли неподвижно, связанные криком, исказившим лицо юноши – охотник, жертва и оружие.
Потом он размазал козлиную кровь по лицу, стараясь не касаться растопыренными пальцами глаз и губ. Потому что малейшее соприкосновение отравленной крови со слизистой стало бы губительным для стрельца. Вымазанный ярко-красными полосами свернувшейся крови, юноша резким движением поднял козла с земли и забросил на плечи. После чего направился в село.
С бессмысленной добычей на плечах. Потому что добыча, сраженная стрелами Геракла, становилась несъедобной и навсегда отравленной.
II
Уже послышалось шуршание лемносских змей, выползающих из своих нор, чтобы уловить подходящую минутку между двумя порывами ветра, поднимавшего с земли красноватую пыль, минутку, когда над островом из ниоткуда рождалось солнце, скрытое до той поры многочисленными, низко сидящими мутными облаками. Это же солнце выманило из хижины и Филоктета с Велханом.
С первым шуршанием, которое объявляло начало нового дня, и с резким посвистом раздвоенных змеиных язычков, что шарили по кустам, вокруг шалаша образовался кусочек семейного покоя и тишины, на котором маленький Велхан нашел местечко для игр. Филоктет отковылял в центр небольшой площадки перед домом и заботливо своими сильными руками, на пальцах которых красовались кровавые, короткие и глубокие, неприятные на вид царапины (последствие утреннего сбора плодов и ягод для коз), загнал в землю несколько кольев. Потом натянул на них полотно, похожее на то, которым пользовался царь Актор на своей террасе, чтобы защитить ребенка от солнца и порывов ветра. Занявшись этим делом, бывший полководец быстро устал, не от потери сил, затраченных на работу, но от расхода энергии на передвижение и необходимость стоять на ногах, и присел на белый камень, который однажды (он никак не мог вспомнить, когда и как) очутился во дворе. И Велхан, загребая левой, здоровой ногой землю, совсем как отец, быстро перекинул больную правую через порог.
Ребенок сам, без отцовской помощи, палки и любого другого предмета, добрался до затененной части двора и вопросительно глянул на отца. Филоктет, как и все три года до этого, первым делом осмотрел его рану.
Розоватая корочка и этой весной начала постепенно крошиться и истончаться, и уже при дневном свете можно было рассмотреть переплетение нескольких струек телесной жидкости внутри раны. Естественно, каждой весной нога начинала болеть сильнее, но маленький Велхан в свои ничтожные годы уже понимал, что с этим ничего не поделаешь. К тому же, отцовская нога и выглядела, и смердела точно так же, и отец передвигался точно так же, и это его ничуть не сердило. Так что Хриса и Филоктет очень быстро стали свидетелями того, что их ребенок плакал все реже и все реже просыпался посреди ночи, а с годами все реже пытался неловкими ручонками выдавить из раны то нечто, что постоянно чесалось и раздражало его.
Ознакомившись с состоянием гноища на правой ноге ребенка, прямо под коленкой, на том же месте, на котором уже девять лет зияла его рана, Филоктет чистой тряпочкой обмотал ножку Велхана и затянул узел. Теперь сын был готов к игре, и отец бросил на землю под полотняным кровом несколько хвостов гремучих змей, которые, оторванные от змеиных тел и высушенные, представляли собою настоящие погремушки.
Велхан, ковыляя, направился к маленькой площадке для игр, где он будет пинать погремушки, заставляя их звучать, как он делал каждое утро, вызывая матерую Айолу из загончика и приглашая ее присоединиться к игре. И в самом деле, вскоре затряслась белесая козья борода, и Айола присоединилась к мальчику.
Оставив ребенка с самой старой и самой полезной козой, Филоктет направился к хижине, где Хриса в большой глиняной корчаге створаживала остатки молока и готовила для царя ведерки с другими молочными лакомствами. Филоктета вновь ожидал путь к царскому двору. С котлами на плечах.
Женщина обратила взгляд к трещине в глинобитной стене, которой она пользовалась для наблюдения за ребенком. И перед ней возникли отец и сын. И коза. Картина, естественно, очень хорошо знакомая и включающая также ее личное существование, которое она неразрывно связывала со своей принадлежностью к этой картине. Тем не менее, как это бывает в утренние часы, когда сознание после немого сна возвращается к изначальным понятиям, выстраивая из отдельных эпизодов, которые предстоит вновь оценить и определить их значимость, целостную картину, Хриса тяжело вздохнула, увидев два хорошо ей знакомых существа мужского пола, принадлежащие ее семье, существа, хромающие с утра до вечера.
Филоктет вошел в хижину, сшибая, как всегда, куски глины с косяка, что каждый раз происходило в результате потери равновесия, вызванной необходимостью преодолеть препятствие в виде порога. Их взгляды встретились. Он ласково попросил жену приготовить коромысло, заменившее похожий деревянный предмет – лук. Хриса нацепила две посудины, в которых уже лежали приготовленный сыр и свежая простокваша. В белизне, которая охватила ее, в белизне сосуда, наполненного густой простоквашей, она попыталась хоть на секунду утопить свой взгляд, чтобы на мгновение слиться со слепящей белизной, чтобы отдохнуть. От немого вздоха, который вырвался у нее при взгляде на маленького Велхана, играющего с отцом.
Вынашивая его, Хриса совсем не ощущала тяжести, и только изредка, мучительными ночами, перед самыми родами, когда ее охватывал панический страх от ничем не спровоцированной мысли о возможности потерять плод, возникало предчувствие, что все-таки что-то будет не так. Тем не менее, она была опытной роженицей, а Филоктет внимателен, хотя немножко смущен и неловок, то есть был совсем не таким, как ее бывшие мужчины, отцы двух девочек, которых она родила в молодости. Для начала ей, как женщине, которая из-за своей неблагодарной должности старшей служанки принадлежала всем и никому – и царю, и стражникам, и кабатчикам – этого вполне хватало. Если бы Хриса когда-нибудь задумалась над тем, как должно выглядеть сосуществование мужчины и женщины (а такого она никогда в жизни не видела, будучи сама внебрачным ребенком главной дворцовой кухарки), то представляла бы себе этот союз именно так. Как их союз.
Конечно, за страстное желание соединиться с чужаком, греком, от которого отреклись его товарищи по походу на Трою, пришлось заплатить. И тем не менее, она никогда не испытывала такой храбрости, когда решилась последовать за пастухом в его хижину. Все произошло само собой, молча и с презрением, по-лемносски. Она знала все, что последует далее по неписаным законам Лемноса, которые растопчут ее насмерть. Для начала она навсегда потеряла дочерей, тех самых двух замарашек, которых Филоктет увидел, впервые встретившись с Хрисой там, на пастбище, за кустами. Вообще-то она могла принимать их в своем новом доме, но они, с тех пор, как их взял под опеку Актор, не желали навещать свою мать. Они росли, превращались в девушек, обходя стороной хижину раненого грека, как, впрочем, поступали и прочие обитатели этого плевка суши, называемого островом. Далее, ей строго-настрого запретили появляться во дворце, а также приближаться к нему, к главному поселку и рынкам, после чего последовал запрет вообще появляться там, где обитают люди. И охотнику в связи с его поступком также были объявлены запреты: молочные продукты теперь можно было лишь подносить к дворцу, в результате чего он лишился права посещать царскую террасу и вглядываться с нее в троянский берег, отделенный от него всего лишь зеленоватой полосой холодного и глубокого пролива и разоренный войной, полыхающей на противоположной полоске суши.
Так что Хриса вынашивала плод в тишине, скорее вынужденной, нежели добровольной, скрывая удовольствие от того, что начала делить жизнь с человеком необыкновенно смиренным и мудрым. Хижина и чужак, его жена и козы теперь были изолированы еще больше, чем прежде. По правде говоря, никто особенно и не противился этому браку. Все мужчины, которые того желали, уже опробовали своими членами внутренности Хрисы, потому как она никогда не смела противиться, и, с другой стороны, каждый, кто того желал, унизил или оскорбил охотника (камнем, плевком, подножкой). Так что никто никому ничего не был должен.
Хрисе не мешал смрад, насквозь пропитавший хижину, огород, загон и пастбище над морем, смрад, который не в силах был разогнать ветер, смрад, который стал неразрывной частью каждого дня жизни этого уголка. Так посреди острова, опоясанного морем и населенного змеями и ветром, в самом его центре вырос новый остров, остров в острове, омываемый смрадом раны и населенный козами и их блеянием. И только беззубый дебил Фимах, которому также было запрещено помогать чужаку с козами и чистить котлы, осмеливался посещать изолированное стойбище, причем в первый раз он сделал это, когда Хриса рожала, подменив грека, который, обливаясь потом и слезами, стонал в углу хижины, страдая от страха и беспомощности.
Филоктета тоже не очень заботило здоровье плода, пока Велхан толкался ножками в материнской утробе. Он просто ожидал появления некоего ребенка, странного, неожиданного, абстрактного, а мать держалась нормально, была счастлива и довольна тем, что носила под сердцем дитя от высокого и красивого мужчины, успокоенная тем, что они определенно не состояли в родстве (а на Лемносе невозможно было утверждать такое в отношении любого мужчины), так что ребенок должен был появиться здоровым.
Случилось это за несколько дней до родов, когда чужак и женщина почуяли смрад, который в этот раз источала не только правая мученица охотника, но и промежность его жены. Это показалось совершенно неожиданным, потому что оба за несколько лет изгнания Филоктета настолько привыкли к странностям, которыми была обставлена его ссылка, что ничего нового они уже не могли придумать. Ведь до сих пор жизнь протекала в тишине и порядке, правда, навязанном, причем в большей степени людскими стараниями, нежели естественным течением событий. И разве не сама Хриса, как самая обыкновенная женщина, не пожелала ребенка, и если он будет мальчиком, то назвать его Ахиллом, как приятеля ее мужа, а что еще важнее – единственным греческим именем, которое она знала, кроме имени мужа?
Некоторое время длилось привыкание к тому, что в природе на самом деле возможно всё, всё может уместиться в один день. В одну фразу. Может, в две, произнесенные разными губами. Когда Хриса вновь глянула на него, с недоверием, но и с надеждой, впитывая каждое его движение и пытаясь понять, лицо Филарета свела судорога. Она глянула на него так, словно прощалась навсегда.
– Ребенок – сухо повторил он.
Потом ему показалось, что открытая рана на ноге, розовая прозрачная пленка, уже давно покрывавшая язву, переместилась на лицо. В мгновение, наступившее после минуты странного упокоения, он ощутил все свое существо будто сплошную рану. И после этого, теперь уже точно как зачарованный, захромал к выходу, забыв о присутствии женщины, принесшей ему весть, забыв ее так, как никогда бы не забыл своих коз – Конелию, Айолу, Хиспанию, Круду.
А она тихо, может, немного обидевшись, направилась за ним.
2 часть
Беглец
Достопочтенный демонический, ты, гигантский глаз, пожиратель сырого мяса. Не бойся: никого нет сильнее нас, никто не может причинить нам зла. Перед нашими окнами несет свои воды враждебный поток, но мы сидим здесь, в нашей стихии, и до сих пор нам везло. Я не так уж слаб, я не так уж бессилен, и я могу быть свободным. Я хочу успеха и приключений, я хочу научить ландшафт разумно мыслить, а небо – скорбеть. Понимаешь? И я нервничаю.
(Петер Хандке «Медленное возвращение домой»)[3 - Перевод: М. Коренева (СПб, «Азбука», 2000).]
I
Это не небо порозовело за несколько мгновений до того, как в нем проклюнется солнце, унося последние космы тумана, который и без этого, сам попрятался в дыры и пещеры, откуда он незваным явился наружу, в природу – на самом деле розовыми были облака, оповещавшие о неспешном появлении из соленой поверхности моря небольшого огненного шара. Розовые, чуть вспрыснутые лаком, может быть, несколько более глухого оттенка, скорее напоминавшего кровь, которую семнадцатилетнему Филоктету доводилось видеть очень часто. Молодой человек стоял почти нагой, измазанный красками, которые должны были вписать его в природу, позволив отчетливо выступившим венам и мышцам спокойно впитывать струящийся прохладный утренний воздух, превращая самоощущение тела в неопровержимое доказательство энергии, силы и непременно успешной охоты. Всю ночь он провел, напряженно скорчившись среди кустов омелы и зарослей примулы, мелкие, но опоясанные острыми иголочками цветы которых служили ему укрытием от насекомых и мелких животных, которые пытались кусать и грызть его, сидящего в засаде на корточках. Юноша вновь обвел взглядом долину, облитую утренним солнцем, пытаясь хотя бы по запаху определить, пробудилась ли жертва, собирается ли она выйти из расселины, куда забилась вчера, спасаясь бегством от человека. Потом он глянул на огромный лук Геракла, который с прошлой ночи не выпускал из рук, и на длинную стрелу, смазанную ядом, готовый притянуть жилы тетивы к правой половине груди и позволить им пощекотать правый сосок, отметив этим раздражителем готовность и внимание, сосредоточенность на трех всего лишь вещах: на стреле, тетиве и жертве перед ними.
Понадобилось целых три дня и только что прошедшая ночь, чтобы разобраться в путях скитаний этого крупного дикого козла, спина которого (он мог видеть ее в редкие мгновения, когда козел, чувствуя взгляд человека, но не понимая, откуда тот смотрит, чувствуя приближение смерти, вылетал из одного убежища в поисках другого), спина, следовательно, которого сияла здоровьем и лоском, предвещавшим богатую добычу.
Стопы охотника были ободраны на козьих тропах, что переплетались вокруг Эты, его легкие вдыхали и выдыхали пыль, поднятую его бе?гом, глаза болели от резких движений, которые он совершал, чтобы еще и еще раз укрыться так, чтобы животное не обнаружило его присутствия. И даже его намерения. Потом, в середине вчерашнего дня, когда ветер задул к югу, от козла к охотнику, он остановился, чтобы приготовить мазь. Смешал мелкую пыль, как учил его старый охотник Мандор, с корнем примулы, растения, которое распространяет вокруг себя невыносимую вонь, от которой бегут все мелкие животные, глотая свежий воздух так, словно это их последнее дыхание, и сделал смесь, которой, добавив еще немного птичьего помета, вымазал тело.
Так появление человеческого существа, обозначенное запахами источающих вонь веществ, перестало быть присущим представителю мира людей, превратившись в явление животного мира. Уничтожая собственный запах, осторожными и ловкими движениями изменяя способ человеческого передвижения и, напоследок, поперечными полосами меняя сам вид своего тела, ему было легче выследить козла. Таким образом он мог подкрасться к животному совсем близко, и в тот момент, когда он уже прицелился твердой рукой из своего ядовитого оружия, жертва успела юркнуть в расселину, или в маленькое входное отверстие пещеры. Такое завершение дня обеспокоило юношу. Детская неуверенность вырвалась из него, словно камень из катапульты, и Филоктету понадобилось сделать несколько глубоких вздохов, полных разочарования, но одновременно и облегчения, достаточных, чтобы простить себе, казалось бы, верный выстрел, обернувшийся промахом. После этого он, мгновенно предоставив юношеской неуверенности вступить в схватку, столкнуться с искусным мастерством охотника, начал судорожно искать, где же была допущена ошибка.
Это был колчан. Юноша не вымазал смесью только колчан со стрелами, из уважения к великолепию этого творения искуснейших рук ремесленника, созданного из кожи молодого, скорее всего, еще не оскопленного быка, в тот момент, когда кровожадные руки сдирали ее с тела, от которого еще исходил пар жизни. Только колчан сохранял человеческий дух, что так обеспокоило козла. Может, он сохранил запах рук человека, касавшихся бычьей шкуры, а может, и самого Геракла, который за все эти годы наверняка сроднился с ним.
Недовольный охотник, не прекращая укорять себя, цокнул языком и отправился на поиски укрытия и засады, из которой он мог наблюдать за входом в пещеру, оставаясь при этом незамеченным. Он лихорадочно молил Артемиду, чтобы у пещеры не оказалось второго выхода, через который животное могло бы уйти. Всю ночь, не прекращая, он вспоминал то мгновение, когда увидел мордочку козла и его крупные глаза. Во время бега, прыжков из укрытия в укрытие, он сумел рассмотреть его морду, исцарапанную колючим кустарником, задетым на бегу, видел, как бешено, словно плавающие в масле, вращались зеницы его глаз в безумном ритме пляски бегства. В том единственном взгляде, которым козел вроде бы нехотя одарил Филоктета, был страх. Страх смерти.
Возможно, тогда, в те годы, Филоктет гораздо острее смерти чувствовал ее запах, хотя еще и не умел его определять, понимать и проверять. Может быть, просто каждая жертва за несколько часов до того, как страшный удар прикует ее к земле и отнимет жизнь, сама излучала понятный только юноше, только его уму постижимый запах исчезновения. Этот аромат юноша ни в коем случае не воспринимал как смрад гниения, который начинал распространяться вокруг животного после того, как последняя капля жизни покидала его тело. Нет, этот запах кала не вызывал у него отвращения, животное, еще несколько минут тому назад сиявшее жизнью, защищало им свой собственный труп. Напротив, излучение страха смерти было, по его ощущениям, каким-то более резким, настойчивым, более точным, и по ценности своей для охотника не уступало запаху животного. Животный страх смерти для него всегда был усиливающимся запахом жизни.
Возможно, запах весны, пробуждения, со слегка приглушенным оптимизмом, эдакий тяжелый и полный благоухания цветов, клокотания воды и покоя болот. Одновременно наполненный началом работы природы и гниения предыдущих, зимних форм жизни. Так Филоктет, принюхиваясь, принимая в себя тяжкий и обязывающий аромат страха смерти, чувствовал, как грудь его наполняется, как солнце всё теплеющими лучами обливает тело, и ноги его становятся все легче. И он любил этот аромат. И более того.
Возможно, впоследствии, после абстрактного восхищения великолепным оружием, восхищения скорее средством, нежели целью охоты, оно ослабло, как в его чувствах, так и в холодных размышлениях, и место восторга занял сам предмет охоты. Зверь. Во всем своем разрушительном великолепии. Таким образом юноша, наверное, только что спровоцированный чужим страхом смерти, впитал еще один, новый вид энергии, связанный с процессом охоты. И потому, наряду со многими прежними идеалами, Артемида стала его новым божеством.
В таком напряжении, из-за невыносимой концентрации, могло статься, что внимание юноши падёт жертвой жестокости, и он, сосредоточившись на себе как на охотнике и забыв про добычу, пропустит какой-нибудь совсем неприметный знак, свидетельствующий о том, что козел вышел из укрытия. Но тут его окаменевшая грудь внезапно вздрогнула, сердце – то ли из-за усталости и бессонной ночи, то ли из-за возбуждения – заколотилось сильнее. Сам охотник оставался спокоен. Он находился в самом центре невидимой сети, связывающей его с жертвой, которая почти неощутимым, капиллярным трепетом давала ему знать, что добыча вызывает его на последнюю схватку. Юноша вознес хвалу владычице и напряг все тело, изготовившись к прыжку.
Над его головой пронесся шорох сухих веток, укрывавших вход в пещеру, раздался какой-то треск из долины, напоминавшей своими пологими склонами амфитеатр, и только потом появилась морда. Вспыхнули безумием козлиные глаза. В них больше не было страха смерти. Минувшая ночь своим страхом свела добычу с ума. Итак, сначала появилась морда, с которой капала пена, после чего юноша мгновенно увидел, как жилы на козлиной шее натягиваются со страшным напряжением, едва не лопаясь, и быстро, в мгновение ока проанализировав это, охотник понял, что жертва сейчас втягивает воздух, после чего резко подскочит, взовьется из отверстия пещеры, раздвигая телом кусты, что могли бы послужить ему хорошим укрытием. И только потом ноздрей юноши достиг запах. Запах драматического, молниеносного разложения животного, запах уничтожения, но и моментального обновления всех клеток, пор, частичек козлиного тела. Как будто животное, почувствовав конец, превратилась в машину непрерывного отмирания и мгновенного возрождения.
Филоктет переменил исходное положение, крепко сжал левой рукой лук, укрепил на нем стрелу, придерживая ее средним и безымянным пальцем той же руки, так, как его учил Мандор, потом перенес лук вертикально к груди, точно по вертикальной линии между сосками. Правую руку перенес к толстой и жилистой тетиве лука, ухватившись за нее пальцами.
Потом, позволив себе для успокоения некоторое время, выигранное быстротой всех предыдущих движений, правой рукой легко натянул тетиву, позволив ей коснуться правого соска и тем самым ограничив ее напряжение. Сконцентрировался на острие стрелы, оказавшееся прямо перед его глазом. С большим трудом, с полным напряжением мышц удерживая равновесие между левой рукой с луком в ней и правой рукой, зажавшей тетиву, юноша нацелил верхушку стрелы так, что все прочие детали пейзажа, не совмещавшиеся с ней, тонули в мутно-молочном слепом пятне. Прищурив оба глаза, он затаил дыхание между точно выверенным вдохом и выдохом, и, не меняя избранной позы, переместил тело влево, соблюдая установившееся между всеми его членами равновесие. Потом повернулся в том направлении, которое, вне всякого сомнения, должен был избрать и козел.
Спокойно отпустил правую руку, выпрямив пальцы, которые судорожно сжимали тетиву, и почувствовал удовлетворение, когда шумы в каждый миг своего краткого существования принялись нанизываться один на другой, каждый своим голосом рассказывая собственную историю.
Сначала последовал тупой и сильный удар середины тетивы об основание лука. Потом вокруг ладони юноши, деформировавшейся от силы, которую ей пришлось обуздывать, образовался целый фонтан крошечных капелек жира, которым была смазана тетива ради сохранения эластичности. Далее, словно на арфе или цитре, был сыгран насильственный такт, затем послышалось гудение всех переплетенных жилок, образующих тетиву, которые были выпущены на свободу так, что на своем дальнейшем пути, а еще больше после избавления от оперенного комля стрелы, они сталкивались и ударялись одна о другую. Теперь последовал скрип деревянного тела стрелы по кожаным ремешкам, обматывающим дугу лука. В это мгновение левая рука юноши, полностью освободившись от навязанного ей сопротивления материала, стала отдаляться от тела. Ладонь задрожала, и потребовалось легкое движение сустава в противоположную сторону, чтобы оружие осталось в руках. Этот звук напоминал треск расколотого пополам бревна, удар молнии в одинокое дерево на холме. Резкий, долгий, угрожающий звук распада материи. Звучное самоуничтожение. И, наконец, любимый звук Филоктета – свист.
Охотник почувствовал, что в момент возникновения свиста, начала разрушения сгустившегося воздуха гибким телом стрелы, он сам покидает собственное тело и превращается в стрелу, в которой сосредоточилась вся его духовная и физическая энергия. А стрела, этот заостренный кусочек железа, заботливо насаженный на прочный и многочисленными мазями пропитанный прут, рассекала перед собой воздух, грозя нанести ему незаживающую рану. Это рассечение пространства между палачом и жертвой длилось слишком долго, и охотнику казалось, что полет стрелы не завершится никогда, что конца ему не будет. Юноша зажмурился, втянул струю воздуха, что ласкала его лицо; складка на правой щеке, образованная прижатой в момент выстрела тетивой, постепенно расправлялась, возвращая кожу в прежнее состояние. В это время свист из неопределенного «шшшшшш» превратился в куда более резкое, гибкое, тонкое «сссссс», давая знать замершему на мгновение охотнику, ожидающему результата своих расчетливых действий, готовому принять и попадание и промах, что скоро вся охота, сконцентрировавшаяся теперь в одном полете, завершится.
Словно что-то заколотили. Как будто удар молотком по наковальне. Обыкновенное «бац». Филоктет открыл глаза. И в это мгновение магия ритуала внезапно оборвалась, достигнув апогея. Наверное, козел, решил Филоктет, по колебанию воздушной волны учуял приближение стрелы, тем самым на какую-то долю ослабив смертоносную силу, посланную в него охотником. В последний миг он слегка дернулся вправо (охотник предугадал это), после чего сам напоролся на оловянный наконечник стрелы. Поэтому удар пришелся в грудь, а не в середину шеи, как ему предназначалось. Однако стрела не прекратила движения. Мясо для нее не было серьезным препятствием, и она продолжила путь сквозь тело жертвы, пронзив его насквозь, и вышла за лопаткой, где, наконец, остановилась.
Козел, конечно, боли не почувствовал. Хотя, благодаря ядовитой мази, нанесенной еще Гераклом на наконечники двухметровых стрел, смерть началась. Животное рухнуло. Оно, как всегда при воздействии яда Геракла, стало мертвым до падения на землю. Так что труп, в котором еще в падении гасли последние искорки жизни, ударился о землю с треском, эхом разлетевшимся по всему амфитеатру долины. Он окоченел, замороженный ядом. Наверное, окаменел в смерти. И, может быть, именно поэтому убийство стрелами Геракла выглядело как крайне полезная в гигиеническом отношении деятельность.
Охотник выскочил из укрытия. По его телу бродила некая, все еще не понятая им энергия, энергия, которую невозможно было охватить и поместить в самоощущение тела. Затем он с легкостью проскочил десяток метров, отделяющий его от добычи, едва ли не подпрыгивая от распиравшей его силы, перепрыгнул через опасные корни и густой кустарник, преграждавший ему путь. Добравшись до мертвого животного, он остановил сначала бег, потом дыхание, чтобы всю силу и энергию претворить в глубокое сосредоточение и почти ритуальное преклонение перед мертвым козлом. Он приблизился к нему. И только тут почувствовал иной запах, не присущий животному, запах ничуть не привлекательный, дух гниения и исчезновения. Дух, следующий после смерти.
Гибкими пальцами он ухватил стрелу за оперение и потянул ее назад. Стрела медленно, сопротивляясь прилагаемым усилиям, подалась, разрывая в движении мясо добычи. Филоктет всегда выдирал ее именно так, зная, что если проталкивать ее вперед, то его ладони может поранить отравленный наконечник. Именно по этой причине тот был гладким, без зазубрин, так как мастер, делавший стрелы, знал, что яд будет очень сильным и стойким, и потому не следовало опасаться, что стрела не останется в теле. Другими словами, если бы неловкий охотник промахнулся и лишь оцарапал добычу гладким острием, жертва все равно бы рухнула на землю. Поэтому Филоктет осторожно и внимательно вытащил стрелу из тела, протерев потом только древко стрелы. Наконечник он не вытирал никогда, чтобы не подвергать себя опасности.
Вернув стрелу в колчан и посвятив куда больше внимания оружию, нежели добыче, Филоктет вздохнул. И только после этого глянул на мертвого козла. Морда его была полуоткрыта, зубы лежали на отвисшей нижней губе, а из раны поднималась на первый взгляд необычная, но привычная для Филоктетовой охоты, струйка пара. Это испарялся яд, освоивший последние территории безжизненного тела. И после этого, оставаясь верным своим обычаям, охотник обмакнул обе ладони в козлиную кровь и дико крикнул в пространство над головой, словно желая через узкую горловую щель выплеснуть энергию, волны которой захлестнули его тело в то мгновение, когда стрела нашла свою цель. Этот пронзительный и в то же время несколько обиженный, печальный вопль вырывался из глубин существа, крик, который во всей его дикости должны были услышать в ближайших селах Магнесии. Охотник воздел руки над телом жертвы, слившись на мгновение с окровавленным мясом в странном и только его чувствам известном хороводе, в котором только что приняла участие и стрела.
Так они и замерли неподвижно, связанные криком, исказившим лицо юноши – охотник, жертва и оружие.
Потом он размазал козлиную кровь по лицу, стараясь не касаться растопыренными пальцами глаз и губ. Потому что малейшее соприкосновение отравленной крови со слизистой стало бы губительным для стрельца. Вымазанный ярко-красными полосами свернувшейся крови, юноша резким движением поднял козла с земли и забросил на плечи. После чего направился в село.
С бессмысленной добычей на плечах. Потому что добыча, сраженная стрелами Геракла, становилась несъедобной и навсегда отравленной.
II
Уже послышалось шуршание лемносских змей, выползающих из своих нор, чтобы уловить подходящую минутку между двумя порывами ветра, поднимавшего с земли красноватую пыль, минутку, когда над островом из ниоткуда рождалось солнце, скрытое до той поры многочисленными, низко сидящими мутными облаками. Это же солнце выманило из хижины и Филоктета с Велханом.
С первым шуршанием, которое объявляло начало нового дня, и с резким посвистом раздвоенных змеиных язычков, что шарили по кустам, вокруг шалаша образовался кусочек семейного покоя и тишины, на котором маленький Велхан нашел местечко для игр. Филоктет отковылял в центр небольшой площадки перед домом и заботливо своими сильными руками, на пальцах которых красовались кровавые, короткие и глубокие, неприятные на вид царапины (последствие утреннего сбора плодов и ягод для коз), загнал в землю несколько кольев. Потом натянул на них полотно, похожее на то, которым пользовался царь Актор на своей террасе, чтобы защитить ребенка от солнца и порывов ветра. Занявшись этим делом, бывший полководец быстро устал, не от потери сил, затраченных на работу, но от расхода энергии на передвижение и необходимость стоять на ногах, и присел на белый камень, который однажды (он никак не мог вспомнить, когда и как) очутился во дворе. И Велхан, загребая левой, здоровой ногой землю, совсем как отец, быстро перекинул больную правую через порог.
Ребенок сам, без отцовской помощи, палки и любого другого предмета, добрался до затененной части двора и вопросительно глянул на отца. Филоктет, как и все три года до этого, первым делом осмотрел его рану.
Розоватая корочка и этой весной начала постепенно крошиться и истончаться, и уже при дневном свете можно было рассмотреть переплетение нескольких струек телесной жидкости внутри раны. Естественно, каждой весной нога начинала болеть сильнее, но маленький Велхан в свои ничтожные годы уже понимал, что с этим ничего не поделаешь. К тому же, отцовская нога и выглядела, и смердела точно так же, и отец передвигался точно так же, и это его ничуть не сердило. Так что Хриса и Филоктет очень быстро стали свидетелями того, что их ребенок плакал все реже и все реже просыпался посреди ночи, а с годами все реже пытался неловкими ручонками выдавить из раны то нечто, что постоянно чесалось и раздражало его.
Ознакомившись с состоянием гноища на правой ноге ребенка, прямо под коленкой, на том же месте, на котором уже девять лет зияла его рана, Филоктет чистой тряпочкой обмотал ножку Велхана и затянул узел. Теперь сын был готов к игре, и отец бросил на землю под полотняным кровом несколько хвостов гремучих змей, которые, оторванные от змеиных тел и высушенные, представляли собою настоящие погремушки.
Велхан, ковыляя, направился к маленькой площадке для игр, где он будет пинать погремушки, заставляя их звучать, как он делал каждое утро, вызывая матерую Айолу из загончика и приглашая ее присоединиться к игре. И в самом деле, вскоре затряслась белесая козья борода, и Айола присоединилась к мальчику.
Оставив ребенка с самой старой и самой полезной козой, Филоктет направился к хижине, где Хриса в большой глиняной корчаге створаживала остатки молока и готовила для царя ведерки с другими молочными лакомствами. Филоктета вновь ожидал путь к царскому двору. С котлами на плечах.
Женщина обратила взгляд к трещине в глинобитной стене, которой она пользовалась для наблюдения за ребенком. И перед ней возникли отец и сын. И коза. Картина, естественно, очень хорошо знакомая и включающая также ее личное существование, которое она неразрывно связывала со своей принадлежностью к этой картине. Тем не менее, как это бывает в утренние часы, когда сознание после немого сна возвращается к изначальным понятиям, выстраивая из отдельных эпизодов, которые предстоит вновь оценить и определить их значимость, целостную картину, Хриса тяжело вздохнула, увидев два хорошо ей знакомых существа мужского пола, принадлежащие ее семье, существа, хромающие с утра до вечера.
Филоктет вошел в хижину, сшибая, как всегда, куски глины с косяка, что каждый раз происходило в результате потери равновесия, вызванной необходимостью преодолеть препятствие в виде порога. Их взгляды встретились. Он ласково попросил жену приготовить коромысло, заменившее похожий деревянный предмет – лук. Хриса нацепила две посудины, в которых уже лежали приготовленный сыр и свежая простокваша. В белизне, которая охватила ее, в белизне сосуда, наполненного густой простоквашей, она попыталась хоть на секунду утопить свой взгляд, чтобы на мгновение слиться со слепящей белизной, чтобы отдохнуть. От немого вздоха, который вырвался у нее при взгляде на маленького Велхана, играющего с отцом.
Вынашивая его, Хриса совсем не ощущала тяжести, и только изредка, мучительными ночами, перед самыми родами, когда ее охватывал панический страх от ничем не спровоцированной мысли о возможности потерять плод, возникало предчувствие, что все-таки что-то будет не так. Тем не менее, она была опытной роженицей, а Филоктет внимателен, хотя немножко смущен и неловок, то есть был совсем не таким, как ее бывшие мужчины, отцы двух девочек, которых она родила в молодости. Для начала ей, как женщине, которая из-за своей неблагодарной должности старшей служанки принадлежала всем и никому – и царю, и стражникам, и кабатчикам – этого вполне хватало. Если бы Хриса когда-нибудь задумалась над тем, как должно выглядеть сосуществование мужчины и женщины (а такого она никогда в жизни не видела, будучи сама внебрачным ребенком главной дворцовой кухарки), то представляла бы себе этот союз именно так. Как их союз.
Конечно, за страстное желание соединиться с чужаком, греком, от которого отреклись его товарищи по походу на Трою, пришлось заплатить. И тем не менее, она никогда не испытывала такой храбрости, когда решилась последовать за пастухом в его хижину. Все произошло само собой, молча и с презрением, по-лемносски. Она знала все, что последует далее по неписаным законам Лемноса, которые растопчут ее насмерть. Для начала она навсегда потеряла дочерей, тех самых двух замарашек, которых Филоктет увидел, впервые встретившись с Хрисой там, на пастбище, за кустами. Вообще-то она могла принимать их в своем новом доме, но они, с тех пор, как их взял под опеку Актор, не желали навещать свою мать. Они росли, превращались в девушек, обходя стороной хижину раненого грека, как, впрочем, поступали и прочие обитатели этого плевка суши, называемого островом. Далее, ей строго-настрого запретили появляться во дворце, а также приближаться к нему, к главному поселку и рынкам, после чего последовал запрет вообще появляться там, где обитают люди. И охотнику в связи с его поступком также были объявлены запреты: молочные продукты теперь можно было лишь подносить к дворцу, в результате чего он лишился права посещать царскую террасу и вглядываться с нее в троянский берег, отделенный от него всего лишь зеленоватой полосой холодного и глубокого пролива и разоренный войной, полыхающей на противоположной полоске суши.
Так что Хриса вынашивала плод в тишине, скорее вынужденной, нежели добровольной, скрывая удовольствие от того, что начала делить жизнь с человеком необыкновенно смиренным и мудрым. Хижина и чужак, его жена и козы теперь были изолированы еще больше, чем прежде. По правде говоря, никто особенно и не противился этому браку. Все мужчины, которые того желали, уже опробовали своими членами внутренности Хрисы, потому как она никогда не смела противиться, и, с другой стороны, каждый, кто того желал, унизил или оскорбил охотника (камнем, плевком, подножкой). Так что никто никому ничего не был должен.
Хрисе не мешал смрад, насквозь пропитавший хижину, огород, загон и пастбище над морем, смрад, который не в силах был разогнать ветер, смрад, который стал неразрывной частью каждого дня жизни этого уголка. Так посреди острова, опоясанного морем и населенного змеями и ветром, в самом его центре вырос новый остров, остров в острове, омываемый смрадом раны и населенный козами и их блеянием. И только беззубый дебил Фимах, которому также было запрещено помогать чужаку с козами и чистить котлы, осмеливался посещать изолированное стойбище, причем в первый раз он сделал это, когда Хриса рожала, подменив грека, который, обливаясь потом и слезами, стонал в углу хижины, страдая от страха и беспомощности.
Филоктета тоже не очень заботило здоровье плода, пока Велхан толкался ножками в материнской утробе. Он просто ожидал появления некоего ребенка, странного, неожиданного, абстрактного, а мать держалась нормально, была счастлива и довольна тем, что носила под сердцем дитя от высокого и красивого мужчины, успокоенная тем, что они определенно не состояли в родстве (а на Лемносе невозможно было утверждать такое в отношении любого мужчины), так что ребенок должен был появиться здоровым.
Случилось это за несколько дней до родов, когда чужак и женщина почуяли смрад, который в этот раз источала не только правая мученица охотника, но и промежность его жены. Это показалось совершенно неожиданным, потому что оба за несколько лет изгнания Филоктета настолько привыкли к странностям, которыми была обставлена его ссылка, что ничего нового они уже не могли придумать. Ведь до сих пор жизнь протекала в тишине и порядке, правда, навязанном, причем в большей степени людскими стараниями, нежели естественным течением событий. И разве не сама Хриса, как самая обыкновенная женщина, не пожелала ребенка, и если он будет мальчиком, то назвать его Ахиллом, как приятеля ее мужа, а что еще важнее – единственным греческим именем, которое она знала, кроме имени мужа?