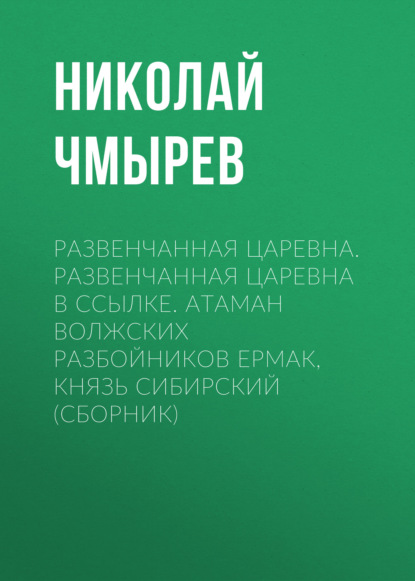По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Развенчанная царевна. Развенчанная царевна в ссылке. Атаман волжских разбойников Ермак, князь Сибирский (сборник)
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Аль казаки загуляли? – спросил Болховитинов.
– Беда, бояре! – проговорил, задыхаясь, стрелец.
– Беда? Какая беда? – спросил Никифоров.
– Кучум, что ль, явился? – в свою очередь задал вопрос Болховитинов.
И в одно и то же время у бояр, решавших участь Ермака, явилась одна и та же мысль: как они справятся с Кучумом без Ермака, что они будут делать без него?
– Ермака Тимофеевича убили! – выстрелил стрелец.
У бояр вытянулись физиономии, они невольно взглянули друг на друга.
– Как убили?
– Что врешь-то?? – вырвалось разом у обоих.
– Кучумка ночью напал, всех перебил,? – продолжал докладывать стрелец.
– Да ты откуда это знаешь-то, ворона на хвосте весть принесла, что ли?
– Один только в живых остался, да и то весь искрошен, вряд ли до завтра доживет.
– Где же он? Давай его сюда.
– Что вы, бояре, нужно к нему идти, говорю, чуть жив, только добрался до ворот, так и грохнулся о землю.
– Что ж теперь делать? – проговорил Никифоров.
– Делать нечего, нужно воеводствовать,? – отвечал Болховитинов,? – ты ступай, боярин, и приказ от меня такой отдай, чтоб на валу сторожа в оба глядели, не ровен час, Кучумка и на нас нагрянет.
Побагровел весь Никифоров при этих словах.
– Почему же это от тебя приказ, а не от меня? – задыхаясь, спросил он.
– А потому, что я буду маленько постарше тебя! – отвечал высокомерно Болховитинов.
– Ну, это бабушка надвое ворожила.
– Чай, сам знаешь, что твой дед сидел всегда ниже моего, так внуку покоряться негоже.
– Ах ты… да я на тебя буду челом бить государю.
Болховитинов на это рассмеялся только.
Началась безобразная ругань, недавние приятели, заговорщики, замыслившие гибель Ермака, сразу стали непримиримыми врагами, готовыми на все, чтобы повредить только друг другу. Долго продолжалась ругань, наконец Никифоров вышел крайне озлобленный, сильно захлопнув за собою дверь.
Глава тридцать первая
Быстро, почти мгновенно разлетелась между казаками весть о смерти любимого атамана, весь небольшой дворик и улица выше избушки, в которой лежал умирающий казак, были заполнены его товарищами.
Каждому хотелось услышать хотя бы одно слово о Ермаке Тимофеевиче, но желание это было неисполнимо: избенка, давшая приют горькому вестнику, едва могла вместить в себя десяток человек.
В избенке была мертвая тишина, которую нарушал только слабый голос рассказчика.
– Такая ночь была,? – говорил он,? – не приведи бог, рядом лежишь – ничего не видишь, а тут еще дождь так и хлещет, словно кто из ведра тебя поливает. Промочило всех насквозь, а за день-то куда как измаялись, все против воды плыли, на руках ладони что твои подошвы стали, не согнешь руки. Как остановились мы это, так, не ужинавши, и повалились все как мертвые и уснули. Кажись, гром греми над нами и тот не разбудил бы…
– Как же сторОжа прозевала? – раздался вопрос.
– СторОжа, никакой сторОжи не было, да и не нужно, думали, ее. Островок небольшой, как раз посредине Иртыша стоит, от берегов страсть далеко, только и можно было добраться на лодках, а где их там возьмешь, наши у острова были привязаны.
– Как же татарва пробралась?
– Уж этого тебе сказать не сумею, или брод был, или на лошадях вплавь, потому с ними и лошади были; только спим мы это, да так крепко, словно померли все. Только мне что-то во сне померещилось, открыл я глаза, ничего не вижу, а шум стоит кругом страсть, топот какой-то, да словно сабли звенят, а говору никакого, что за чудо, думаю, не во сне ли я это все вижу, протер глаза – нет, что-то у нас в становище делается, дождя уже не было, в эту пору развернись туча, месяц и посвети, как взглянул я, так и обомлел, вижу, с бритыми головами как черти какие скачут да наших лежачих да сонных так и крошат; не стерпело мое ретивое, схватил я пистоль да пустил пулю в голову одному поганому, так и повалился он, не охнул даже. Как услыхала татарва выстрел, так и оторопела на минуту, потом опомнились да и шарахнули ко мне, давай я от них отбиваться, в эту самую пору слышу еще выстрел, а там и голос Ермака Тимофеевича, на подмогу кличет. Понатужился я, уложил двоих бритых да скорей к атаману, а его татарва, как саранча какая, обступила, крошит он их, как баранов каких, а они только прыгают возле него да орут да напирают. Вот тут-то несчастье и случилось. Приперли его к самому что ни на есть берегу, уж и не знаю, оступился ли он, наш голубчик, отбиваясь от татарвы, сам ли спрыгнул с берега, только вдруг пропал он из моих глаз, да слышно было, как что-то тяжелое шлепнулось в воду. Как табун лошадиный заржала татарва, стрелы так и засвистели, тут уж я света Божьего невзвидел, бросился к ним в толпу, только жаль, что недолго пришлось моей сабле поработать, вишь, какой-то окаянный как голову раскроил. Дальше уж и не помню ничего. Сколько времени я этак-то лежал, не знаю, когда очнулся, уж вечерело, поднялся я через силу, добрел до берега, обмыл голову, обвязал ее, словно бы и полегчало, прошел по островку, невелик он, гляжу: все до одного наши лежат, все искрошенные, да татар человек с десяток, а атамана нет, горе меня взяло, да и самому как быть не знаю, с голода одного пропасть можно, только взглянул я в сторону, а одна наша лодка колышется, даже весло в ней нашел. Должно, татарва поганая в темноте не заметила ее. Обрадовался я ей невесть как. Сейчас же сел да и двинулся, благо Иртыш сам донес меня. Вот и все, братцы, что знаю.
– А может быть, Ермак Тимофеевич и жив, может, и спасся? – кто-то проговорил с надеждой в голосе.
– Где уж тут, говорю, до берегов было далече, а он в кольчуге да броне царской был, где уж там воде сдержать его, да и то сказать, кабы спасся, так давно бы уж здесь был.
– Так-то так! – согласились с ним.
Понурившись, разошлись все, осталось в избе только двое, раненый да хозяин избушки.
Раненый слегка стонал, но ночью ему сделалось гораздо хуже, а к утру и совсем плохо, заметался он, часто вырывались из его груди сдержанные крики, наконец, едва блеснули первые лучи восходящего солнца, как его не стало.
Угрюмо закрыл ему товарищ глаза и вышел на улицу оповестить товарищей. А улица уже кишела казаками, лица всех были озабочены, каждый, казалось, обдумывал серьезный, близко касающийся сердца вопрос. Кое-где собрались в кучки и о чем-то горячо рассуждали. Наконец послышались знакомые звуки била, звуки, раздававшиеся только в экстренных и важных случаях. Все торопливо направились к месту сборища.
Там уже были чуть не все казаки.
– Братцы-товарищи,? – заговорил седой как лунь, с изрытым шрамами лицом есаул, занявший место Ивана Ивановича Кольцо, по прозванию Василий Кузьмич Тимофеев,? – братцы-товарищи, вам уже ведаемо, что не стало у нас нашего сокола ясного, Ермака Тимофеевича, сами знаете, что без него мы словно без головы остались; вестимо, другого Ермака нам, сколько бы мы ни жили, не найти, без головы жить нельзя, толку у нас никакого не будет, нужно нам как-нибудь дело поправить.
– Вестимо, нужно нового атамана выбрать,? – послышались голоса.
– Я потому речь и веду, только, братцы-товарищи, все мы поработали на своем веку вместе с Ермаком, никого нельзя из нас ни в чем упрекнуть, все молодцы как на подбор, только всего этого мало для атаманства. Все мы соколы, только уж коли быть атаманом, так меж соколами нужно быть орлом, хоть уж не таким, какими были Ермак Тимофеевич аль Иван Иванович Кольцо, а хоть походить-то на них разумом да силою.
– Правда, правда,? – раздались голоса.
– Кому ж и быть, как не Тимофееву.
– Вестимо, пусть он будет, больше никого не хотим.
– Василий Кузьмич пусть будет атаманом! – послышались дружные голоса, подхваченные всей толпой.
Тимофеев несколько смутился, он снял шапку и отвесил на все четыре стороны низкие поклоны.
– Благодарю, товарищи, за честь, не заслужил я ее, только уж вы избавьте меня от атаманства, стар я стал, выберете кого помоложе да поразумнее.
– Никого не хотим, окромя тебя, тебе быть нашим атаманом.