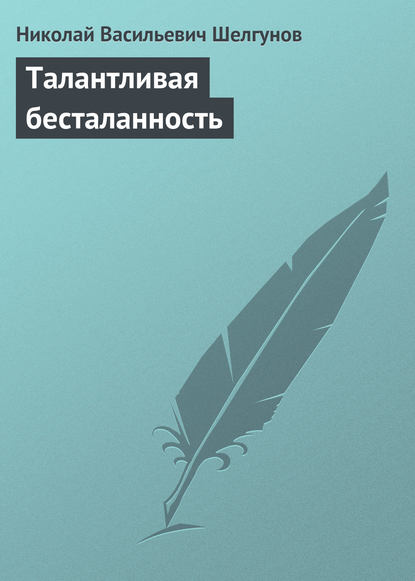По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Талантливая бесталанность
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Талантливая бесталанность
Николай Васильевич Шелгунов
«…Что такое писатель, как не общественный деятель? что такое писатель, как не интеллектуальная сила, как не путеводная звезда, за которой идут те, кто понимать и рассуждать безошибочно не в состоянии? Чему же служит в этом случае талант, и для чего он нужен?…»
Н. В. Шелгунов
Талантливая бесталанность
(«Обрыв» Роман И. А. Гончарова. 1869 г.)[1 - Статья Н. В. Шелгунова «Талантливая бесталанность» была впервые напечатана в № 8 журнала «Дело» за 1869 год и вошла во второй том его Собрания сочинений. Здесь воспроизводится по тексту этого издания.]
I
Читатель, вероятно, помнит, что когда явилась «Обыкновенная история» Гончарова, – русская публика пришла в восторг неописанный, и роман молодого автора читался наперерыв. Но вот чего, конечно, не помнит читатель. Он не помнит отзыва о Гончарове Белинского. Часто ошибался Белинский в живых авторах, но в настоящем случае не ошибся. Разбирая «Обыкновенную историю», Белинский сказал о Гончарове: «Он поэт, художник и больше ничего. У него нет ни любви, ни вражды к создаваемым им лицам, они его не веселят, не сердят, он не дает никаких правильных уроков ни им, ни читателю; он как будто думает: кто в беде, тот в ответе, а мое дело сторона. Из всех нынешних писателей он один, только он один приближается к идеалу искусства, тогда как все другие отошли от него на неизмеримое пространство – и тем самым успевают. Все нынешние писатели имеют еще нечто, кроме таланта, и это-то нечто важнее самого таланта и составляет его силу; у Гончарова нет ничего, кроме таланта; он, больше чем кто-нибудь теперь, поэт-художник. Талант его не первостепенный, но сильный, замечательный. К особенностям его таланта принадлежит необыкновенное мастерство рисовать женские характеры. Он никогда не повторяет себя, ни одна его женщина не напоминает собою другой, и все, как портреты, превосходны…» Говоря об эпилоге, Белинский замечает, что его хоть бы не читать. «Как такой сильный талант мог впасть в такую странную ошибку? – пишет Белинский. – Или не совладал с своим предметом? Ничуть не бывало! Автор увлекся желанием попробовать свои силы на чуждой ему почве – на почве сознательной мысли – и перестал бы поэтом. Здесь всего яснее открывается различие его таланта с талантом Искандера: тот и в сфере чуждой для его таланта действительности умел выпутаться из своего положения силою мысли; автор „Обыкновенной истории“ впал в важную ошибку именно оттого, что оставил на минуту руководство непосредственного таланта. У Искандера мысль всегда впереди, он вперед знает, что и для чего пишет; он изображает с поразительною верностью сцену действительности для того только, чтобы сказать о ней свое слово, произнести суд. Г. Гончаров рисует свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своею способностью рисовать, говорить и судить, и извлекать из них нравственные следствия, ему надо предоставить своим читателям… Главная сила таланта г. Гончарова – всегда в изящности и тонкости кисти, верности рисунка; он неожиданно впадает в поэзию даже в изображении мелочных и посторонних обстоятельств, как, например, в поэтическом описании процесса горения в камине сочинений молодого Адуева… в таланте г. Гончарова поэзия – агент первый, главный и единственный…»[2 - См. отрывок из статьи В. Г. Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года» в настоящем сборнике.]
Эта характеристика так верна в своих общих основаниях, что прибавлять к ней нечего. Но для более полной и точной оценки г. Гончарова ее нужно разъяснить в подробностях.
Со времени «Обыкновенной истории» в мыслительных способностях г. Гончарова никаких существенных перемен не произошло. Оно и понятно – способности эти в Гостином дворе не продаются. Г. Гончаров остался по-прежнему поэтом, талантом, живописцем, с тою только разницею против 1847 года, когда появилась «Обыкновенная история», что в двадцать с лишком лет он еще больше окреп в живописи и стал слабее, чем был, на почве сознательной мысли.
Но уже и во времена Белинского чувствовалось, что писателю, кроме таланта, нужно иметь еще нечто, и что это нечто важнее самого таланта и составляет его силу. Уже во времена Белинского у всех писателей явилось это нечто, и только один г. Гончаров стремился к идеалу чистого искусства и пел как птица божия, потому что хотелось петь.
Что это такое за нечто и почему только в нем сила писателя, только в нем сила его таланта. Это нечто есть понимание жизни, понимание общественных потребностей и социальных стремлений. Это нечто есть смысл руководящий; это нечто есть ум. Если у автора нет светлого, прогрессивного ума, – его не спасет никакой талант.
Что такое писатель, как не общественный деятель? что такое писатель, как не интеллектуальная сила, как не путеводная звезда, за которой идут те, кто понимать и рассуждать безошибочно не в состоянии?
Чему же служит в этом случае талант, и для чего он нужен?
В сцене отъезда Адуева из деревни («Обыкновенная история») мы читаем: «Коренная беспрестанно поднимала и трясла голову. Колокольчик издавал всякий раз при этом резкий звук, напоминавший о разлуке, а пристяжные стояли задумчиво, опустив головы, как будто понимая всю прелесть предстоящего им путешествия, и изредка обмахивались хвостами или протягивали нижнюю губу к коренной лошади… Антон Иваныч потрепал одну лошадь по шее, потом взял ее за ноздри и потряс в обе стороны, чем та, казалось, вовсе была недовольна, потому что оскалила зубы и тотчас же фыркнула». Недурно. В вашем воображении рисуются знакомые сцены, у вас как бы перед глазами ямская тройка, вы видите, что автор нарисовал сцену мастерски, и говорите – талант.
В «Обрыве» талант наблюдательности и изображения мелочей является еще сильнее. Описание теток Беловодовой, например, превосходно: «Это были две высокие, седые, чинные старушки, ходившие дома в тяжелых шелковых темных платьях, больших чепцах, на руках со многими перстнями. Надежда Васильевна страдала тиком и носила под чепцом бархатную шапочку, на плечах бархатную, подбитую горностаем, кацавейку, а Анна Васильевна сырцовые букли и большую шаль. У обеих было по ридикюлю, а у Надежды Васильевны – высокая золотая табакерка, около нее несколько носовых платков и моська, старая, всегда заспанная, хрипящая и от старости не узнающая никого из домашних, кроме своей хозяйки. Дом у теток был старый, длинный, в два этажа, с гербом на фронтоне, с толстыми, массивными стенами, с глубокими окошками и длинными темными простенками. Швейцар походил на Нептуна, лакеи пожилые и молчаливые женщины в темных платьях и чепцах. Экипаж высокий, козлы с шелковой бахромой, лошади старые, породистые, с длинными шеями и спинами, с побелевшими от старости губами, при езде крупно кивающие головой… Когда Райский и Аянов вошли, моська на них захрипела, но не смогла полаять и, повертевшись около себя, опять улеглась… Надежда Васильевна ласково поглядела на вошедших, с удовольствием высморкалась и сейчас же понюхала табаку, зная, что у нее будет партия…» Когда бабушка повезла Райского в город, «их везла пара малых лошадей, ехавших медленной рысью; в груди у них что-то отдавалось, точно икота. Кучер держал кнут в кулаке, вожжи лежали у него на коленях, и он изредка подергивал ими, с ленивым любопытством и зевотой поглядывая на знакомые предметы по сторонам… Доехали они до деревянных рядов. Купец встретил их с поклонами и с улыбкой, держа шляпу на отлете и голову наклонив немного в сторону… В одной из лавок, у которой остановилась бабушка, были сукна и материи, в другой комнате – сыр и леденцы, и пряности, и даже бронза. Бабушка пересмотрела все материи; приценилась и к сыру и к карандашам, поговорила о цене на хлеб и перешла в другую, потом в третью лавку, наконец проехала через базар и купила только веревку, чтоб не вешали бабы белье на дерево, и отдала Прохору. Он долго ее рассматривал, все потягивая в руках каждый вершок, потом посмотрел оба конца и спрятал в шапку…» Когда Райский приехал к бабушке из Петербурга, его глазам представилась неожиданно следующая картина: «На крыльце, вроде веранды, установленной большими кадками с лимонными, померанцевыми деревьями, кактусами, алоэ и розовыми цветами, отгороженной от двора большой решеткой и обращенной к цветнику и саду, стояла девушка лет двадцати и с двух тарелок, которые держала перед ней девочка лет двенадцати, босая, в выбойчатом платье, брала горстями пшено и бросала птицам. У ног ее толпились куры, индейки, утки, голуби, наконец воробьи и галки. „Цып, цып, ти, ти, ти! гуль, гуль, гуль!“ – ласковым голосом приглашала девушка птиц к завтраку. Куры, петухи, голуби торопливо хватали, отступали, как будто опасаясь ежеминутного предательства, и опять совались. А когда тут же вертелась галка и, подскакивая боком, норовила воровски клюнуть пшено, девушка топала ногой, „прочь, прочь: ты зачем?“ – кричала она замахиваясь, и вся пернатая толпа влет разбрасывалась по сторонам, а через минуту опять головки кучей совались жадно и торопливо клевать, как будто воруя зерна. „Ах ты жадный! – говорила девушка, замахиваясь на большого петуха, – никому не даешь – кому ни брошу, везде схватит…“ Райский, не дожидаясь, пока ямщик завернет в ворота, бросился вперед, пробежал остаток решетки и вдруг очутился перед девушкой. „Сестрица!“ – воскликнул он, протягивая руки. В одну минуту, как будто по волшебству, все исчезло. Он не успел уловить, как и куда пропали девушка и девчонка: воробьи, мимо его носа, проворно махнули на кровлю. Голуби похлопали крыльями, точно ладонями, врассыпную кружились над его головой, как слепые. Куры с отчаянным кудахтаньем бросились по углам и даже пробовали с испуга бросаться на стену. Индейский петух поднял лапу и, озираясь вокруг, неистово ругался по-своему, точно сердитый командир оборвал всю команду на ученье за беспорядок. Все люди на дворе, опешив за работой, с разинутыми ртами, глядели на Райского. Он сам почти испугался и смотрел на пустое место: перед ним по земле были только одни рассыпанные зерна…» Но наибольшую силу своего рисовального таланта обнаружил г. Гончаров в описании степного города: так, кажется, и видишь Симбирск. «Было за полдень давно; над городом лежало оцепенение покоя, штиль на суше, какой бывает на море, штиль широкой, степной, сельской и городской русской жизни. Это не город, а кладбище, как все эти города. Он не то умер, не то уснул или задумался. Растворенные окна зияли, как разверстые, но не говорящие уста, нет дыхания, не бьется пульс. Куда же убежала жизнь? Где глаза и язык у этого лежащего тела? Все пестро, зелено, и все молчит. Райский вошел в переулки и улицы: даже ветер не ходит. Пыль уже третий день нетронутая, одним узором от проехавших колес лежит по улицам: в тени забора отдыхает козел, да куры, вырыв ямки, уселись в них, а неутомимый петух ищет поживы, проворно раскапывая то одной, то другой ногой кучу пыли. Собаки, свернувшись по три, по четыре, лежат разношерстной кучей на любом дворе, бросаясь по временам от праздности с лаем на редкого прохожего, до которого им никакого дела нет. Простор и пустота – как в пустыне. Кое-где высунется из окна голова, с седой бородой, в красной рубашке, поглядит, зевая, на обе стороны плюнет и спрячется. В другое окно, с улицы, увидишь храпящего на кожаном диване человека в халате: подле него на столике лежат „ведомости“, очки и стоит графин кваса. Другой сидит по целым часам у ворот в картузе и в мирном бездействии смотрит в канаву с крапивой и на забор на противоположной стороне. Давно уже мнет носовой платок в руках – и все не решается высморкаться: лень! Там кто-то бездействует у окна с пенковой трубкой, и когда! бы кто ни прошел мимо, – всегда сидит он с довольным, ничего не желающим и не скучающим взглядом…»
Талант, большой талант! С замечательной наблюдательностью г. Гончаров изучал внешнюю природу, привычки и поведение животных и человека. Он подметил, что лошадь никогда не фыркает, не оскалив зубов, и не обойдет молчанием этого обстоятельства. Он знает, что у породистых лошадей спины и шеи длинные, и на езде они крупно кивают головами, и вот читателю указывает и на это. Он знает, что собака, прежде чем ляжет, поворотится около себя несколько раз. Он подметил, что галка прыгает боком и отличается воровскими привычками, что голуби хлопают крыльями, точно ладонями, что куры в испуге скачут на стену, а простонародье выражает свое изумление разинутыми ртами. Нет такой мелочи, на которую бы г. Гончаров не обратил внимания. Он вам объясняет, что у дяди Адуева («Обыкновенная история») ногти были длинные и прозрачные; что Надежда Васильевна («Обрыв») сморкалась иногда от удовольствия и затем нюхала табак, что купец, почтительно кланявшийся бабушке Райского, держал шляпу на отлете, а голову наклонив немного в сторону, что какой-то прохожий, когда Райский спросил его, где живет Козлов, сначала подумал немного, потом оглядел Райского с ног до головы, затем отвернулся в сторону, высморкался в пальцы и только тогда отвечал.
Но эта мелочная отделка подробностей вас не подкупает. Вы видите за нею пружины, известный заученный механизм, резко бросающееся в глаза подражание Гоголю. Тут, пожалуй, даже нет таланта в смысле старой творческой силы, а просто известный, терпеливо выработанный прием, сделавшийся признаком гоголевской школы. Что такое заключение верно, читатель убедится из следующего рассуждения.
Белинский относился к автору «Обыкновенной историй» слишком мягко, точно он хотел пощадить молодого писателя и, не слишком задевая, навести его на истинный путь. Уж и тогда г. Гончаров пускался в подробное, не подходящее к делу описание несущественного, не имеющее ровно никакого отношения к основному вопросу. Белинский указывал ему на это; Белинский говорил, что ему недостает нечто, что он отстал неизмеримо от современных ему писателей. Но г. Гончаров не понял этого предостережения. Вместо того чтобы поработать над собою, он усилил в себе свои старые недостатки, не прибавив ни одного из тех существенных достоинств, без которых невозможно быть писателем с плодотворным, прогрессивным значением.
Как будто бы талант только в том, чтобы изображать с поразительной верностью кудахтанье кур, рысь старых породистых лошадей, прием кучера, державшего вожжи в кулаках, или те клубничные сцены, которые делают «Обрыв» романом, назначенным по преимуществу для старых холостяков? Неужели, чтобы прослыть талантливым, достаточно одной способности копировать до мелочных подробностей все, что подвернется под руку, не справляясь, вяжется ли это с главной идеей, или нет? Белинский был неправ в своей деликатности, если только он ясно сознавал сам, что он говорил. Белинский как будто отделял талант от идеи, строго разграничивая поэтическое творчество от сознательной мысли. Но существует ли такая черта? Можно ли быть талантом без мысли? Не будет ли это бессвязным, хотя и красивым бредом сумасшедшего?
Никто не живет в пространстве. У всякого человека есть свое место на земле, свои мысли, свой опыт, свое мировоззрение, свой круг деятельности. У каждого человека есть, что он любит, и есть, что он ненавидит, и эта ненависть и любовь скажутся в каждом его действии, в каждом его произведении, если он талант. Подборами сцен, характеров, обстоятельств талант выразит непременно себя, выкажет свою душу, постарается передать вам свои симпатии и антипатии, поставит вас на свою точку зрения, и это-то будет идеей его труда, его произведения. Поэтому чисто объективное, поэтическое творчество, в котором бы не высказался писатель, как человек, как член общества, совершенно немыслимо; ибо каждый писатель как бы он ни был силен, как поэт и художник, прежде всего человек, существо, привязанное к земле, к людям, стремящееся к личному счастью. Дурак, как бы он ни был талантлив, обнаружит немедленно свою дураковатость социальной бесполезностью своего произведения, и эта бесполезность будет опять его идеей. Без идеи, без мысли никакое произведение невозможно. И эта социальная мысль или нечто, как выражается Белинский, есть единственное мерило таланта, есть основная его сила. Не силой поэтического творчества определяется размер таланта, а силой, воодушевляющей его мысли, силой ее социальной, прогрессивной полезности.
Неужели талант и искусство нужны только для того, чтобы рисовать необычно живописно всякие житейские бесполезности? Поэт рисует вам необычно верно завывание ветра в пустыне или ночной вой шакалов. Если при описании этих сцен у вас в уме не возникает никакой полезной параллели, к чему служит такое описание? Станете ли вы читать книгу, не возбуждающую у нас никакого интереса? А что такое интерес, как не ваше ближайшее отношение к жизни? Во всем вы ищете себя, во всем вы ищете ответов на свои вопросы.
Описание природы имеет смысл настолько, насколько рисует ум или глупость коллективной жизни человека, силу и власть человека над этой природой. Почему весьма хитро измышленная статья г. Страхова[3 - Страхов Николай Николаевич (1828–1896) – философ-идеалист, реакционный публицист и критик, представитель «почвеннического направления», сотрудник «Времени» и «Эпохи».] «О жителях луны» осталась незамеченной, несмотря на всю ловкость ее логического построения? А только потому, что вам нет никакого дела до жителей луны, пока к ним не будет проведена железная дорога. Описание природы вам важно лишь в прогрессивно-историческом смысле, то есть насколько человек в борьбе с природой торжествует или падает в бессилии. Природа важна для нас настолько, насколько человек зависит от нее. Безотносительной природы нет, и, как бы ни были велики ураганы у жителей луны г. Страхова, вам нет до них никакого дела, пока лунный ураган не заденет вас, пока он не заставит вас справиться о целости крыши вашего дома или не заставит вас подумать о более теплом одеяле.
Степной город г. Гончарова важен для вас не потому, что в вашем воображении возникает картина знойной пустыни с собаками, лежащими ленивыми кучками, и с людьми, истомленными жаром до того, что им трудно высморкаться; важен он вам потому, что возбуждает ассоциацию идей социального характера, рисует вам спячку мозга, покой могилы, отсутствие активности, дичь, невежество, отсталость. Вам хочется понять, почему эти люди так жалки, так глупы и бедны, почему для них счастье в том, в чем каждый умственно развитый человек увидел бы свое несчастье? Но вот тут-то и возникает истинная задача таланта. Пусть он стоит за занавесом, и вы не замечаете его приемов. Но талант должен представить вам именно все данные, которые должны возбудить в вас правильное, прогрессивно социальное мышление. Талант должен подобрать все факты, все обстоятельства, все особенности, чтобы сконцентрировать ваши мысли в известном, точно определенном направлении и привести вас к правильному логическому выводу. Все постороннее, мешающее быстроте и силе вашего мышления в данном направлении, будет уже не задачей таланта, а признаком бесталанности. Для чего вам нужно знать, что собака, прежде чем легла, повернулась несколько раз вокруг себя, или что куры прыгали в испуге на стену, если эти факты не помогают вашему мышлению в известном данном направлении и не усиливают вашего социального вывода? Пропустите их – проиграете или выиграете вы в своем знании? Если умственное безразличие несомненно, то к чему приводить факты, только мешающие вашему мышлению, только затемняющие его своею постороннею примесью?
Талант есть только та сила, которая умеет концентрировать данные для известного положительного вывода, и непременно вывода высокой общественной полезности, вывода, очищающего понятия и имеющего руководящее значение. Талант есть сила образного изображения в широко захватывающих картинах, сильнее действующих на воображение, борьбы и умственного торжества человека над мраком и невежеством. Борьба может быть с природой, борьба может быть социальная, но все ради этой борьбы, все ради торжества света над тьмою. В иной форме, в ином значении талант немыслим, ибо он иначе талантливая бесталанность, красивое пустословие, поэтическая безделка. Если обыкновенному человеку рассказать обыкновенным, простым языком о пытке и ее гнусности, рассказ может пропасть холостым зарядом; но вот талант, поэт, живописец, изобразит вам пытку с такими подробностями физиологически верными и сконцентрированными, что у вас захватывает дух, точно вас самого жарят на огне или распинают на кресте, и вы проникаетесь негодованием против изуверства и глубоким сочувствием к страдающим, – вот в чем его задача. Если талант не имеет подобной прогрессивной, просвещающей тенденции, – он не талант, а неудавшаяся сила. Бывали даже неудавшиеся гении, почему же г. Гончарову не быть неудавшимся талантом? А неудавшимся талантом будет всякий писатель, который не в силах иметь воспитательного значения, который не в состоянии пробуждать хороших, благородных чувств и гуманных мыслей.
Сам г. Гончаров произнес себе приговор, конечно, не подозревая того, что можно вывести из его слов. Он говорит: «Глупая красота – не красота. Вглядись в тупую красавицу, всмотрись глубоко в каждую черту лица, в улыбку ее, взгляд – красота ее мало-помалу превратится в поразительное безобразие: воображение может на минуту увлечься, но ум и чувство не удовлетворятся такой красотой: ее место в гареме. Красота, исполненная ума, – необычайная сила: она движет миром, она делает историю, строит судьбы; она явно или тайно присутствует в каждом событии. Красота и грация – это своего рода воплощение ума. От этого дура никогда не может быть красавицей, а дурная собой, но умная женщина, часто блестит красотой. Красота, про которую я говорю, прежде всего будит в человеке человека, шевелит мысль, поднимает дух, оплодотворяет творческую силу гения, не тратит лучи свои на мелочь, не грязнит чистоту…»[4 - Цитата из конца второй части «Обрыва» (гл. XXII).]
О какой красоте говорите вы, г. Гончаров? Уж, конечно, не о красоте смазливого женского личика. Вы признаете, что красота есть какая-то таинственная сила, двигающая человека на все хорошее, честное и благородное, делающая его гуманным, доброжелательным и потому великим. Что же это такое, как не ум, выводящий человека из лабиринта житейской запутанности, созданной человеческой глупостью, на светлый и прямой путь к благополучию? Вы не признаете красоты без ума; поверьте, что нет без ума и таланта.
Г. Гончаров предпослал своему роману весьма наивное объяснение. Он говорит, что программа этого романа была набросана им еще в 1856 и 1857 годах, то есть двенадцать лет назад. Все характеры были им обдуманы, кроме Марка Волохова, которому под конец романа он придал более современный оттенок; что задача, которой он задался, казалась ему не по силам. Но лестное участие к его прежним трудам возлагало на него обязанность или сознаться в своей несостоятельности и уничтожить рукопись или напечатать то, что написалось, и таким образом представить публике запоздалый труд.
Поистине печальная судьба являться постоянно пред публикой с запоздалыми трудами! Когда появилось первое произведение г. Гончарова, его преследовал тот же рок. «Говорят, – писал Белинский, – тип молодого Адуева – устарелый; говорят, что такие характеры уже не существуют…» И хотя Белинский пытается уверить читателя, что подобные типы на Руси еще не вывелись, но Белинский в этом случае был подкуплен красотою изложения, то есть тем самым, что заставляет и теперь еще всю Россию читать «Обрыв», не подозревая всей талантливой бесталанности этого произведения[5 - Здесь Шелгунов глубоко ошибается. Его мнение опровергается в частности воспоминаниями современников первого появления романа «Обыкновенная история». См., например, высказывание Скабичевского, приведенное нами в примечаниях к его статье «Старая правда» в настоящем сборнике.].
Уже в сороковых годах г. Гончаров стоял особняком и неизмеримо позади литературных деятелей того времени. Это было почти тридцать лет назад. И вот этот, уже в молодости отстававший, писатель снова привлекает внимание русской читающей публики. Снова носятся с его «Обрывом», как некогда с его «Обыкновенной историей». Так ли мы зрелы, как были тогда; так ли нас легко подкупить теперь одной красивой формой и бессодержательной внешностью; даром ли пропали для нас последние пятнадцать лет; нужны ли нашему обществу подобные писатели; или время требует других талантов, не заставляющих нас думать бесполезно? Посмотрим!
II
Есть разные способы мышления. Можно думать образами и картинами, как думают романисты, художники, поэты; можно думать афоризмами, как думает большинство женщин; можно думать последовательным логическим мышлением. Сила всех этих родов мышления бывает различная, прямо выходящая из качества человеческого мозга. От этого бывают слабые и сильные романисты, поэты, художники, слабые или сильные мыслители. Логичность мышления, в какой бы форме она ни выражалась, есть сила неотразимая, всесокрушающая, влекущая, против нее устоять невозможно. Где же нет этой неотразимой силы, там нет логики, там нет прогрессивного мышления.
Вся соль романа г. Гончарова заключается в его герое Марке. Вычеркните Марка – и романа нет, нет жизни, нет страстей, нет интереса. «Обрыв» невозможен[6 - Ср. со статьей Скабичевского, где высказывается прямо противоположное мнение.]. Марк – это сосуд, вмещающий в себе всю сумму русских заблуждений. Это черное пятно на светлом горизонте русской патриархальной добродетели; это темная сила, идущая по ложному пути и губящая все, к чему она ни прикасается. Г. Гончаров, рисуя Марка, хотел сказать будущей России: вот чем ты можешь быть – спасайся!
Прототипом Марка служит Базаров. Но Базаров лучезарнее, чище, светлее. Для изображения же Марка г. Гончаров опустил кисть в сажу и сплеча, вершковыми полосами, нарисовал всклокоченную фигуру, вроде бежавшего из рудников каторжного.
Люди, считающие себя представителями новых понятий, при появлении в литературе типов, подобных Марку, обнаруживали постоянно непростительную запальчивость. Базаров чуть не произвел междоусобной войны. Карикатуру и глумление каждый принимал за портрет. Один лагерь вламывался в амбицию; другой тыкал в карикатуру пальцем, с злобной укоризной поглядывая на всякого молодого человека.
По отношению к г. Гончарову обидчивость менее всего простительна. Г. Гончаров еще молодым не умел стоять в передовом полку Белинского, неужели мы будем настолько нерассудительны, чтобы требовать от него передового человека через тридцать лет? Предположите, что современная критика воспылала бы негодованием против направления Карамзина, Загоскина, Лажечникова. Разве к деятелям карамзинского и пушкинского периода может быть другое отношение, кроме рассудочного, спокойного, исторического? Из-за чего негодование к этим призракам? Вы скажете, что есть из них и не призраки, а живые люди, которые сердятся, пишут, бранятся. Ну, и пусть себе. Оттого они и бранятся, что чувствуют свое бессилие: оттого они и сердятся, что не понимают. Задача современной критики вовсе не в запальчивой личной борьбе с отжившими писателями. По отношению к ним ей следует лишь произнести надгробное слово и отпустить их с миром. Истинная задача критики в том, чтобы спасти читателя от губительного обаяния формы, показать, что у позолоченного ореха гнилое ядро, что за красивыми словами скрывается полнейший обскурантизм и маломыслие, этот самый ужаснейший яд, от которого нужно спасать современное русское общество. «Обрыв» читают все, но многие ли в состоянии отличить в нем форму от сущности, указать разницу между Марком и Райским, увидеть скверность под позолотой.
Как только г. Гончарову впервые пришлось сказать к слову о Марке, читатель узнает, что Марк Волохов нечто более ужасное, чем Атилла, Чингис-хан и Омар, взятые вместе: что для него нет ничего святого, что из самых драгоценных книг он, по прочтении, выдирает листы и закуривает ими сигары или, скатав трубочку, чистит ею ногти или уши. Этот Волохов – чудо степного города. Его никто не любит и все боятся. Он сослан под надзор полиции, и с тех пор город – нельзя сказать, чтоб был в безопасности. Так писал о Марке Леонтий Козлов Райскому.
Рекомендация, сделанная Татьяной Марковной, была несколько определительнее, но зато и хуже. Райский узнал, что Волохов – Маркушка, да еще и бездомный: что, где бы его ни увидеть, следует бежать от него, как от сатаны, потому что он собьет с пути; что он груб и невежа; что он чуть не застрелил Нила Андреевича; что на Крицкую напустил собак, которые оборвали ей шлейф, и что вообще он человек пропащий.
Но портрет, рисуемый самим автором романа, еще грандиознее. «Марк был лет двадцати семи, среднего роста, сложенный крепко, точно из металла, и пропорционально. Он был не блондин, а бледный лицом; волосы бледно-русые, закинутые густой гривой на уши и на затылок, открывали большой выпуклый лоб. Усы и борода жидкие. Открытое, как будто дерзкое лицо далеко выходило вперед. Черты лица не совсем правильные, довольно крупные. Руки у него длинные, кисти рук большие, правильные и цепкие. Взгляд серых глаз был или смелый, вызывающий, или по большей части холодный и ко всему небрежный. Сжавшись в комок, он сидел неподвижен; ноги, руки не шевелились, точно замерли; глаза смотрели на все спокойно или холодно. Но под этой неподвижностью таилась зоркость, чуткость и тревожность, какая заметна иногда в лежащей, по-видимому, покойно и беззаботно собаке…» Затем идет подробное описание собаки, лежащей, по-видимому, спокойно, а между тем готовой каждую минуту вскочить и залаять. Маркушка-бездомный, как называла Волохова Татьяна Марковна, оказывается прозвищем весьма деликатного свойства пред букетом, преподнесенным герою романа самим автором. И вот что значит сила таланта: вполне от автора зависело обозвать Марка львом, тигром, крокодилом, змеей, свиньей, кошкой, смотря по тому, какое представление требовалось возбудить в уме читателя. Автор нашел, что лучше и пристойнее всего сравнить Марка с собакой, несмотря на то, что грива, большой лоб и смелые серые глаза давали ему некоторое и, как кажется, не малое право на сходство со львом. Если бы автор задался мыслью похвалить Марка и выставить его образцом житейских добродетелей, то, конечно, он сравнил бы его со львом; но как имелось в виду выругать, то и большая соответственность была найдена в сравнении с собакой. Отделяется ли талант от идеи? Сознательно или бессознательно подбираются сравнения?
Из дальнейшего жизнеописания Марка мы узнаем, что он ничего не делает по-людски. Подступит ли к нему голод ночью, он, нисколько не соображая, что весь город спит и нигде ничего достать невозможно, предполагает поднять тревогу, крикнуть «пожар» и ворваться в трактир. Когда на такое смелое предложение ему отвечают, что его могут из трактира выгнать, Марк отвечает: «Нет, уже это напрасно: не впустить меня еще можно, а когда я войду, так уж не выгонишь!» Для Марка не существует ни дверей, ни ворот, – он лазит в окна и через заборы; ест он за четвертых, пьет, как медведь; живет на конце города в клетушке у огородника, спит в телеге, под рогожей, хоть и владеет тоненьким старым тюфяком, тощим ваточным одеялом и маленькой подушкой; средств для существования у него нет никаких, и чем он живет – неизвестно; увидев в первый раз человека, у которого он знает, что есть деньги, Марк немедленно просит в долг рублей триста, не менее, и объявляет, что он долга платить не будет; так прямо и говорит: «Я вам… никогда не отдам, разве только, будете в моем положении, а я в вашем…» Износится ли его платье, – а у вас он видит платье хорошее, – он поступает с такою же нецеремонностью и чуть не силой отнимает ваше платье и дает вам свое. Собственность, сколько видно, он не особенно уважает. Когда Вера поймала его на краже яблоков и упрекнула в том, что он берет тихонько, чужие яблоки, Марк ответил ей: «Они – мои, а не чужие, – вы воруете их у меня!» Образованное население степного города называло его отщепенцем, отверженцем, Карлом Моором, Варравой. Хозяйка дома – огородница – говорила, что он – благой, какой-то чудной, и что без мужа ей жутко с ним одной.
Остановимся пока на этих внешних чертах, изображаемых г. Гончаровым с такой талантливостью, что вами овладевает решительное недоуменье, о ком тут речь – о Горкине или Кореневе в юности, о букеевской орде или о государстве, сложившем известный, внешний порядок?
Идите вперед последовательно, без лукавства, в которое маскируется г. Гончаров, и скажите, возможны ли у нас подобные типы? Предположим, что возможны отдельные люди: но ведь г. Гончаров ставит «вопрос»; он обобщает, он создает тип, он пророчествует. Нам прежде всего объясняют, что Марк живет под надзором полиции. Вы знаете, что это значит; положим, вы, как читатель, можете этого и не знать, но г. Гончаров, как писатель, знать это должен. Лет двадцать в Новоузенске жил молодой доктор, который, подобно Марку, лазил вечно в окна, а когда отправлялся купаться, то, раздевшись дома, шел нагишом через весь город до реки и в таком же костюме возвращался домой. Предположите, что подобную особенность какой-нибудь автор вздумал бы изобразить, как типический признак всего молодого поколения того времени. Что бы вы подумали о наблюдательной способности и о сообразительности автора? И в чем пикантность этой особенности, в чем ее внутренняя суть? Белинский говорит, что г. Гончаров, как замечательный талант, только рисует то, что он видит; а добираться до сути, делать вывод обязан уже сам читатель. Мы задаемся вопросом: повсюду и ко всем Марк путешествует этим прямым, кратчайшим путем или нет? И как он посещает своих знакомых, живущих во втором или третьем этаже, и как он минует ворота, если двор окружен высоким забором? Г. Гончаров молчит. Сокращение труда руководит Марком или другие соображения? Г. Гончаров опять молчит: он – талант, – делайте вывод сами. Или имелось в виду нарисовать картину грандиозного отрицания, не признающего даже архитектуры и попирающего решительно все. Но ведь прежде всего всякое отрицание есть логическое построение: оно есть стремление к замене худшего лучшим. Конечно, отрицатель может ошибаться, и такую ошибку г. Гончаров, вероятно, и хотел изобразить. Но можно ли ошибаться до того, чтобы отрицать ворота и двери? При той бедности, в которой обретался Марк, это было уже совсем нерассудительно, ибо он рисковал оставить на заборе свои последние штаны. А г. Гончаров уверяет, что Марк смотрел умно и говорил логически!
Г. Гончаров говорит, что Марк стрелял в Нила Андреевича, что он напустил собак на Крицкую, что он врывался силой в трактиры. Во-первых, нужно ли это? Нил Андреевич был председатель какой-то палаты, генерал, лицо почетное и всеми уважаемое; Крицкая принадлежала тоже к губернской аристократии. И вы думаете, что человек, находящийся под надзором полиции, мог бы оставаться прежним Варравой после таких пассажей и посмел бы думать о штурмовании трактиров? Не русским читателям рассказывайте, г. Гончаров, подобные небывальщины. Кисейная барышня, увидев Марка в вашей картине на базаре, с чужими яблоками, скажет: «Фи, какой противный!» Но мы знаем, что г. Гончаров – талант, и что он измыслил эту сцену для эффекта, что в действительности она никогда не бывала, да и невозможна. Тип не должен уважать ничьих заборов и ничьих яблоков. И вы думаете, что местные мещане не переломали бы Марку все ребра. Дело другое, если Марк взлез на забор Татьяны Марковны, чтобы порисоваться перед Верой и завести с нею знакомство. Но разве это типическая черта, разве обобщение возможно? А отрицание собственности! Марк прямо объявляет, что долгов не отдает, – и находятся все-таки люди, которые дают ему деньги. Г. Гончаров, подумайте! Предположите, что какой-нибудь господин приходит к вам и просит у вас триста рублей на условии никогда не отдавать долга. Дадите вы ему или нет? За кого же вы принимаете своих читателей?
Наконец, помимо всего этого, обратимся к личной наблюдательности читателя. Скажите, случалось ли вам встречать молодых людей, отрицающих двери и ворота, штурмующих трактиры, напускающих собак на элегантных барынь, стреляющих в почетных лиц, ворующих яблоки и овощи, занимающих деньги без отдачи и присваивающих себе чужое платье, если оно лучше собственного? И когда Марк колобродит у г. Гончарова? Когда об освобождении, крестьян в русском обществе толковали еще шепотом, – это значит около 1859 года. Видели ли вы в этом году не только законченный тип, но даже и отдельных людей Маркова пошиба?
Белинский был прав, когда предостерегал г. Гончарова не забираться в неподлежащую ему область сознательной мысли[7 - Шелгунов произвольно толкует высказывание Белинского.]. Как хорош, неподражаемо хорош г. Гончаров, когда рисует старых мосек, старых лошадей, кивающих крупно головами, собак, лежащих от жара ленивыми кучами, кур, прыгающих на стены, и голубей, хлопающих в ладоши. В животном мире нам все загадка. Нас пленяет верно схваченная внешность, и мы с упоением говорим: о, какой талант г. Гончаров! Но с человеком иное. Нам мало знать фасон и качество его платья, бесцеремонность обращения и вольное поведение вообще, – мы хотим забраться непременно в душу человека и распластать ее так, чтобы причина каждого его побуждения, каждого его поступка лежала перед нами как на тарелке. Что же сделал г. Гончаров с добродушным и доверчивым русским читателем? Он просто над ним насмеялся. Г. Гончарову кто-то наговорил, что завелись в России злодеи, и попросил его принять против них литературные меры. И вот г. Гончаров уподобился молодому неразумному петуху, прыгающему со страха на стену. Страх большой, но действительной опасности не имеется. Данных нет, факта нет, типа не существует. Г. Гончаров отправился в неподлежащую ему область и там начал измышлять. Но ведь сила не во внешности, – сила во внутреннем содержании. Как человек исключительно формы, г. Гончаров придумал внешние несообразности, но вложить в них душу был не в состоянии потому, что ее не выдумаешь. Для такого поверхностного таланта, как г. Гончаров, нужно, чтобы перед его глазами стояла готовая картина, и он ее опишет действительно мастерски и во всех малейших подробностях.
Но чтобы прозреть на будущее, чтобы заглянуть в самую глубь того, что шевелится на дне человеческой души, что происходит в его уме, что управляет его желаниями и стремлениями, – у г. Гончарова никогда не было силы. Посмотрите, как хорош Гончаров, когда он рисует знатных тетушек и их мосек, старых беспутных волокит, камелий и простых распутных женщин. В этом мире он как рыба в воде. Ему известно все, все до последней мелочи. Пред вами стоят живые люди. Но чуть человек выходит из пределов существующей действительности – и вы видите ложь, выдумку, инсинуацию. Если внешними фактами отрицания собственности г. Гончаров хотел изобличить несостоятельность известного экономического учения, или пока доктрины, то он трудился даже не менее напрасно, чем молодой петух, прыгающий со страха на стену. Во-первых, русское общество знает на этот счет гораздо больше того, что сообщил ему г. Гончаров; а во-вторых, выводить на сцену приемы наглой беззастенчивости вовсе не значит опровергать логические построения. Неловкость г. Гончарова в неподлежащей ему области обнаружилась в настоящем случае гораздо резче, чем когда еще Белинский предостерег его не садиться не в свои сани.
Впрочем, г. Гончаров, изображая внешние подвиги Марка, не относится к ним, по-видимому, с особенной настойчивостью. Конечно, это можно объяснить, пожалуй, и тем, что г. Гончаров вовсе не мыслитель и недостаточно знаком с теоретическою сущностью того, о чем он взялся трактовать.
Но иначе относится автор к вопросу, когда выводит на сцену Веру. До сих пор кидались какие-то крупные и хотя очень черные, но тем не менее все-таки неясные черты. Но с появлением Веры и с изложением истории ее любви и падения начинается, собственно, роман, криминальное обвинение Марка, – вот где вся его чудовищность. До сих пор о Марке говорилось как бы вскользь. Читатель подготовлялся к тому, что на сцену должно выступить нечто очень ужасное, невозможное, поразительное, вроде мастодонта или ихтиозавра. Теперь же этот ихтиозавр рисуется во всей своей страшной красе.
Почему Юлия («Обыкновенной истории») вышла такой нежной, чувствительной особой, помешанной на вечной любви, автор дал нам некоторую возможность догадываться. Ее воспитывал француз на романах, наделавших в то время большого шума: de manuscript vert, des sept pеch?s capitaux, d’?ne mort [8 - Незрелая рукопись, Семь смертных грехов, Мертвый осел. – фр.] и т. д. и т. п. Венера, похождения которой были очень хорошо известны Юлии от того же француза, оказывалась агнцем невинности сравнительно с героинями этих романов. Юлия жадно читала новую школу. С эмбриологией Веры нас почти не знакомят: заставляют догадываться, как бы намеренно накидывают на нее вуаль таинственности.
С заученной талантливостью, прежде чем показать Веру, нам показывают ее комнату. Но в комнате решительно нет ничего, что бы указывало на вкус и склонности хозяйки. Загадка осталась загадкой. Интерес возбуждается.
Потом нам показывают очень красивую девушку, в чертах которой не видно ни чистосердечия, ни детского, херувимского дыхания свежести, но на которой лежит какая-то тайна, мелькает не высказывающаяся сразу прелесть в луче взгляда, в внезапном повороте головы, в сдержанной грации движений, что-то неудержимо прокрадывающееся в душу во всей фигуре.
Николай Васильевич Шелгунов
«…Что такое писатель, как не общественный деятель? что такое писатель, как не интеллектуальная сила, как не путеводная звезда, за которой идут те, кто понимать и рассуждать безошибочно не в состоянии? Чему же служит в этом случае талант, и для чего он нужен?…»
Н. В. Шелгунов
Талантливая бесталанность
(«Обрыв» Роман И. А. Гончарова. 1869 г.)[1 - Статья Н. В. Шелгунова «Талантливая бесталанность» была впервые напечатана в № 8 журнала «Дело» за 1869 год и вошла во второй том его Собрания сочинений. Здесь воспроизводится по тексту этого издания.]
I
Читатель, вероятно, помнит, что когда явилась «Обыкновенная история» Гончарова, – русская публика пришла в восторг неописанный, и роман молодого автора читался наперерыв. Но вот чего, конечно, не помнит читатель. Он не помнит отзыва о Гончарове Белинского. Часто ошибался Белинский в живых авторах, но в настоящем случае не ошибся. Разбирая «Обыкновенную историю», Белинский сказал о Гончарове: «Он поэт, художник и больше ничего. У него нет ни любви, ни вражды к создаваемым им лицам, они его не веселят, не сердят, он не дает никаких правильных уроков ни им, ни читателю; он как будто думает: кто в беде, тот в ответе, а мое дело сторона. Из всех нынешних писателей он один, только он один приближается к идеалу искусства, тогда как все другие отошли от него на неизмеримое пространство – и тем самым успевают. Все нынешние писатели имеют еще нечто, кроме таланта, и это-то нечто важнее самого таланта и составляет его силу; у Гончарова нет ничего, кроме таланта; он, больше чем кто-нибудь теперь, поэт-художник. Талант его не первостепенный, но сильный, замечательный. К особенностям его таланта принадлежит необыкновенное мастерство рисовать женские характеры. Он никогда не повторяет себя, ни одна его женщина не напоминает собою другой, и все, как портреты, превосходны…» Говоря об эпилоге, Белинский замечает, что его хоть бы не читать. «Как такой сильный талант мог впасть в такую странную ошибку? – пишет Белинский. – Или не совладал с своим предметом? Ничуть не бывало! Автор увлекся желанием попробовать свои силы на чуждой ему почве – на почве сознательной мысли – и перестал бы поэтом. Здесь всего яснее открывается различие его таланта с талантом Искандера: тот и в сфере чуждой для его таланта действительности умел выпутаться из своего положения силою мысли; автор „Обыкновенной истории“ впал в важную ошибку именно оттого, что оставил на минуту руководство непосредственного таланта. У Искандера мысль всегда впереди, он вперед знает, что и для чего пишет; он изображает с поразительною верностью сцену действительности для того только, чтобы сказать о ней свое слово, произнести суд. Г. Гончаров рисует свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своею способностью рисовать, говорить и судить, и извлекать из них нравственные следствия, ему надо предоставить своим читателям… Главная сила таланта г. Гончарова – всегда в изящности и тонкости кисти, верности рисунка; он неожиданно впадает в поэзию даже в изображении мелочных и посторонних обстоятельств, как, например, в поэтическом описании процесса горения в камине сочинений молодого Адуева… в таланте г. Гончарова поэзия – агент первый, главный и единственный…»[2 - См. отрывок из статьи В. Г. Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года» в настоящем сборнике.]
Эта характеристика так верна в своих общих основаниях, что прибавлять к ней нечего. Но для более полной и точной оценки г. Гончарова ее нужно разъяснить в подробностях.
Со времени «Обыкновенной истории» в мыслительных способностях г. Гончарова никаких существенных перемен не произошло. Оно и понятно – способности эти в Гостином дворе не продаются. Г. Гончаров остался по-прежнему поэтом, талантом, живописцем, с тою только разницею против 1847 года, когда появилась «Обыкновенная история», что в двадцать с лишком лет он еще больше окреп в живописи и стал слабее, чем был, на почве сознательной мысли.
Но уже и во времена Белинского чувствовалось, что писателю, кроме таланта, нужно иметь еще нечто, и что это нечто важнее самого таланта и составляет его силу. Уже во времена Белинского у всех писателей явилось это нечто, и только один г. Гончаров стремился к идеалу чистого искусства и пел как птица божия, потому что хотелось петь.
Что это такое за нечто и почему только в нем сила писателя, только в нем сила его таланта. Это нечто есть понимание жизни, понимание общественных потребностей и социальных стремлений. Это нечто есть смысл руководящий; это нечто есть ум. Если у автора нет светлого, прогрессивного ума, – его не спасет никакой талант.
Что такое писатель, как не общественный деятель? что такое писатель, как не интеллектуальная сила, как не путеводная звезда, за которой идут те, кто понимать и рассуждать безошибочно не в состоянии?
Чему же служит в этом случае талант, и для чего он нужен?
В сцене отъезда Адуева из деревни («Обыкновенная история») мы читаем: «Коренная беспрестанно поднимала и трясла голову. Колокольчик издавал всякий раз при этом резкий звук, напоминавший о разлуке, а пристяжные стояли задумчиво, опустив головы, как будто понимая всю прелесть предстоящего им путешествия, и изредка обмахивались хвостами или протягивали нижнюю губу к коренной лошади… Антон Иваныч потрепал одну лошадь по шее, потом взял ее за ноздри и потряс в обе стороны, чем та, казалось, вовсе была недовольна, потому что оскалила зубы и тотчас же фыркнула». Недурно. В вашем воображении рисуются знакомые сцены, у вас как бы перед глазами ямская тройка, вы видите, что автор нарисовал сцену мастерски, и говорите – талант.
В «Обрыве» талант наблюдательности и изображения мелочей является еще сильнее. Описание теток Беловодовой, например, превосходно: «Это были две высокие, седые, чинные старушки, ходившие дома в тяжелых шелковых темных платьях, больших чепцах, на руках со многими перстнями. Надежда Васильевна страдала тиком и носила под чепцом бархатную шапочку, на плечах бархатную, подбитую горностаем, кацавейку, а Анна Васильевна сырцовые букли и большую шаль. У обеих было по ридикюлю, а у Надежды Васильевны – высокая золотая табакерка, около нее несколько носовых платков и моська, старая, всегда заспанная, хрипящая и от старости не узнающая никого из домашних, кроме своей хозяйки. Дом у теток был старый, длинный, в два этажа, с гербом на фронтоне, с толстыми, массивными стенами, с глубокими окошками и длинными темными простенками. Швейцар походил на Нептуна, лакеи пожилые и молчаливые женщины в темных платьях и чепцах. Экипаж высокий, козлы с шелковой бахромой, лошади старые, породистые, с длинными шеями и спинами, с побелевшими от старости губами, при езде крупно кивающие головой… Когда Райский и Аянов вошли, моська на них захрипела, но не смогла полаять и, повертевшись около себя, опять улеглась… Надежда Васильевна ласково поглядела на вошедших, с удовольствием высморкалась и сейчас же понюхала табаку, зная, что у нее будет партия…» Когда бабушка повезла Райского в город, «их везла пара малых лошадей, ехавших медленной рысью; в груди у них что-то отдавалось, точно икота. Кучер держал кнут в кулаке, вожжи лежали у него на коленях, и он изредка подергивал ими, с ленивым любопытством и зевотой поглядывая на знакомые предметы по сторонам… Доехали они до деревянных рядов. Купец встретил их с поклонами и с улыбкой, держа шляпу на отлете и голову наклонив немного в сторону… В одной из лавок, у которой остановилась бабушка, были сукна и материи, в другой комнате – сыр и леденцы, и пряности, и даже бронза. Бабушка пересмотрела все материи; приценилась и к сыру и к карандашам, поговорила о цене на хлеб и перешла в другую, потом в третью лавку, наконец проехала через базар и купила только веревку, чтоб не вешали бабы белье на дерево, и отдала Прохору. Он долго ее рассматривал, все потягивая в руках каждый вершок, потом посмотрел оба конца и спрятал в шапку…» Когда Райский приехал к бабушке из Петербурга, его глазам представилась неожиданно следующая картина: «На крыльце, вроде веранды, установленной большими кадками с лимонными, померанцевыми деревьями, кактусами, алоэ и розовыми цветами, отгороженной от двора большой решеткой и обращенной к цветнику и саду, стояла девушка лет двадцати и с двух тарелок, которые держала перед ней девочка лет двенадцати, босая, в выбойчатом платье, брала горстями пшено и бросала птицам. У ног ее толпились куры, индейки, утки, голуби, наконец воробьи и галки. „Цып, цып, ти, ти, ти! гуль, гуль, гуль!“ – ласковым голосом приглашала девушка птиц к завтраку. Куры, петухи, голуби торопливо хватали, отступали, как будто опасаясь ежеминутного предательства, и опять совались. А когда тут же вертелась галка и, подскакивая боком, норовила воровски клюнуть пшено, девушка топала ногой, „прочь, прочь: ты зачем?“ – кричала она замахиваясь, и вся пернатая толпа влет разбрасывалась по сторонам, а через минуту опять головки кучей совались жадно и торопливо клевать, как будто воруя зерна. „Ах ты жадный! – говорила девушка, замахиваясь на большого петуха, – никому не даешь – кому ни брошу, везде схватит…“ Райский, не дожидаясь, пока ямщик завернет в ворота, бросился вперед, пробежал остаток решетки и вдруг очутился перед девушкой. „Сестрица!“ – воскликнул он, протягивая руки. В одну минуту, как будто по волшебству, все исчезло. Он не успел уловить, как и куда пропали девушка и девчонка: воробьи, мимо его носа, проворно махнули на кровлю. Голуби похлопали крыльями, точно ладонями, врассыпную кружились над его головой, как слепые. Куры с отчаянным кудахтаньем бросились по углам и даже пробовали с испуга бросаться на стену. Индейский петух поднял лапу и, озираясь вокруг, неистово ругался по-своему, точно сердитый командир оборвал всю команду на ученье за беспорядок. Все люди на дворе, опешив за работой, с разинутыми ртами, глядели на Райского. Он сам почти испугался и смотрел на пустое место: перед ним по земле были только одни рассыпанные зерна…» Но наибольшую силу своего рисовального таланта обнаружил г. Гончаров в описании степного города: так, кажется, и видишь Симбирск. «Было за полдень давно; над городом лежало оцепенение покоя, штиль на суше, какой бывает на море, штиль широкой, степной, сельской и городской русской жизни. Это не город, а кладбище, как все эти города. Он не то умер, не то уснул или задумался. Растворенные окна зияли, как разверстые, но не говорящие уста, нет дыхания, не бьется пульс. Куда же убежала жизнь? Где глаза и язык у этого лежащего тела? Все пестро, зелено, и все молчит. Райский вошел в переулки и улицы: даже ветер не ходит. Пыль уже третий день нетронутая, одним узором от проехавших колес лежит по улицам: в тени забора отдыхает козел, да куры, вырыв ямки, уселись в них, а неутомимый петух ищет поживы, проворно раскапывая то одной, то другой ногой кучу пыли. Собаки, свернувшись по три, по четыре, лежат разношерстной кучей на любом дворе, бросаясь по временам от праздности с лаем на редкого прохожего, до которого им никакого дела нет. Простор и пустота – как в пустыне. Кое-где высунется из окна голова, с седой бородой, в красной рубашке, поглядит, зевая, на обе стороны плюнет и спрячется. В другое окно, с улицы, увидишь храпящего на кожаном диване человека в халате: подле него на столике лежат „ведомости“, очки и стоит графин кваса. Другой сидит по целым часам у ворот в картузе и в мирном бездействии смотрит в канаву с крапивой и на забор на противоположной стороне. Давно уже мнет носовой платок в руках – и все не решается высморкаться: лень! Там кто-то бездействует у окна с пенковой трубкой, и когда! бы кто ни прошел мимо, – всегда сидит он с довольным, ничего не желающим и не скучающим взглядом…»
Талант, большой талант! С замечательной наблюдательностью г. Гончаров изучал внешнюю природу, привычки и поведение животных и человека. Он подметил, что лошадь никогда не фыркает, не оскалив зубов, и не обойдет молчанием этого обстоятельства. Он знает, что у породистых лошадей спины и шеи длинные, и на езде они крупно кивают головами, и вот читателю указывает и на это. Он знает, что собака, прежде чем ляжет, поворотится около себя несколько раз. Он подметил, что галка прыгает боком и отличается воровскими привычками, что голуби хлопают крыльями, точно ладонями, что куры в испуге скачут на стену, а простонародье выражает свое изумление разинутыми ртами. Нет такой мелочи, на которую бы г. Гончаров не обратил внимания. Он вам объясняет, что у дяди Адуева («Обыкновенная история») ногти были длинные и прозрачные; что Надежда Васильевна («Обрыв») сморкалась иногда от удовольствия и затем нюхала табак, что купец, почтительно кланявшийся бабушке Райского, держал шляпу на отлете, а голову наклонив немного в сторону, что какой-то прохожий, когда Райский спросил его, где живет Козлов, сначала подумал немного, потом оглядел Райского с ног до головы, затем отвернулся в сторону, высморкался в пальцы и только тогда отвечал.
Но эта мелочная отделка подробностей вас не подкупает. Вы видите за нею пружины, известный заученный механизм, резко бросающееся в глаза подражание Гоголю. Тут, пожалуй, даже нет таланта в смысле старой творческой силы, а просто известный, терпеливо выработанный прием, сделавшийся признаком гоголевской школы. Что такое заключение верно, читатель убедится из следующего рассуждения.
Белинский относился к автору «Обыкновенной историй» слишком мягко, точно он хотел пощадить молодого писателя и, не слишком задевая, навести его на истинный путь. Уж и тогда г. Гончаров пускался в подробное, не подходящее к делу описание несущественного, не имеющее ровно никакого отношения к основному вопросу. Белинский указывал ему на это; Белинский говорил, что ему недостает нечто, что он отстал неизмеримо от современных ему писателей. Но г. Гончаров не понял этого предостережения. Вместо того чтобы поработать над собою, он усилил в себе свои старые недостатки, не прибавив ни одного из тех существенных достоинств, без которых невозможно быть писателем с плодотворным, прогрессивным значением.
Как будто бы талант только в том, чтобы изображать с поразительной верностью кудахтанье кур, рысь старых породистых лошадей, прием кучера, державшего вожжи в кулаках, или те клубничные сцены, которые делают «Обрыв» романом, назначенным по преимуществу для старых холостяков? Неужели, чтобы прослыть талантливым, достаточно одной способности копировать до мелочных подробностей все, что подвернется под руку, не справляясь, вяжется ли это с главной идеей, или нет? Белинский был неправ в своей деликатности, если только он ясно сознавал сам, что он говорил. Белинский как будто отделял талант от идеи, строго разграничивая поэтическое творчество от сознательной мысли. Но существует ли такая черта? Можно ли быть талантом без мысли? Не будет ли это бессвязным, хотя и красивым бредом сумасшедшего?
Никто не живет в пространстве. У всякого человека есть свое место на земле, свои мысли, свой опыт, свое мировоззрение, свой круг деятельности. У каждого человека есть, что он любит, и есть, что он ненавидит, и эта ненависть и любовь скажутся в каждом его действии, в каждом его произведении, если он талант. Подборами сцен, характеров, обстоятельств талант выразит непременно себя, выкажет свою душу, постарается передать вам свои симпатии и антипатии, поставит вас на свою точку зрения, и это-то будет идеей его труда, его произведения. Поэтому чисто объективное, поэтическое творчество, в котором бы не высказался писатель, как человек, как член общества, совершенно немыслимо; ибо каждый писатель как бы он ни был силен, как поэт и художник, прежде всего человек, существо, привязанное к земле, к людям, стремящееся к личному счастью. Дурак, как бы он ни был талантлив, обнаружит немедленно свою дураковатость социальной бесполезностью своего произведения, и эта бесполезность будет опять его идеей. Без идеи, без мысли никакое произведение невозможно. И эта социальная мысль или нечто, как выражается Белинский, есть единственное мерило таланта, есть основная его сила. Не силой поэтического творчества определяется размер таланта, а силой, воодушевляющей его мысли, силой ее социальной, прогрессивной полезности.
Неужели талант и искусство нужны только для того, чтобы рисовать необычно живописно всякие житейские бесполезности? Поэт рисует вам необычно верно завывание ветра в пустыне или ночной вой шакалов. Если при описании этих сцен у вас в уме не возникает никакой полезной параллели, к чему служит такое описание? Станете ли вы читать книгу, не возбуждающую у нас никакого интереса? А что такое интерес, как не ваше ближайшее отношение к жизни? Во всем вы ищете себя, во всем вы ищете ответов на свои вопросы.
Описание природы имеет смысл настолько, насколько рисует ум или глупость коллективной жизни человека, силу и власть человека над этой природой. Почему весьма хитро измышленная статья г. Страхова[3 - Страхов Николай Николаевич (1828–1896) – философ-идеалист, реакционный публицист и критик, представитель «почвеннического направления», сотрудник «Времени» и «Эпохи».] «О жителях луны» осталась незамеченной, несмотря на всю ловкость ее логического построения? А только потому, что вам нет никакого дела до жителей луны, пока к ним не будет проведена железная дорога. Описание природы вам важно лишь в прогрессивно-историческом смысле, то есть насколько человек в борьбе с природой торжествует или падает в бессилии. Природа важна для нас настолько, насколько человек зависит от нее. Безотносительной природы нет, и, как бы ни были велики ураганы у жителей луны г. Страхова, вам нет до них никакого дела, пока лунный ураган не заденет вас, пока он не заставит вас справиться о целости крыши вашего дома или не заставит вас подумать о более теплом одеяле.
Степной город г. Гончарова важен для вас не потому, что в вашем воображении возникает картина знойной пустыни с собаками, лежащими ленивыми кучками, и с людьми, истомленными жаром до того, что им трудно высморкаться; важен он вам потому, что возбуждает ассоциацию идей социального характера, рисует вам спячку мозга, покой могилы, отсутствие активности, дичь, невежество, отсталость. Вам хочется понять, почему эти люди так жалки, так глупы и бедны, почему для них счастье в том, в чем каждый умственно развитый человек увидел бы свое несчастье? Но вот тут-то и возникает истинная задача таланта. Пусть он стоит за занавесом, и вы не замечаете его приемов. Но талант должен представить вам именно все данные, которые должны возбудить в вас правильное, прогрессивно социальное мышление. Талант должен подобрать все факты, все обстоятельства, все особенности, чтобы сконцентрировать ваши мысли в известном, точно определенном направлении и привести вас к правильному логическому выводу. Все постороннее, мешающее быстроте и силе вашего мышления в данном направлении, будет уже не задачей таланта, а признаком бесталанности. Для чего вам нужно знать, что собака, прежде чем легла, повернулась несколько раз вокруг себя, или что куры прыгали в испуге на стену, если эти факты не помогают вашему мышлению в известном данном направлении и не усиливают вашего социального вывода? Пропустите их – проиграете или выиграете вы в своем знании? Если умственное безразличие несомненно, то к чему приводить факты, только мешающие вашему мышлению, только затемняющие его своею постороннею примесью?
Талант есть только та сила, которая умеет концентрировать данные для известного положительного вывода, и непременно вывода высокой общественной полезности, вывода, очищающего понятия и имеющего руководящее значение. Талант есть сила образного изображения в широко захватывающих картинах, сильнее действующих на воображение, борьбы и умственного торжества человека над мраком и невежеством. Борьба может быть с природой, борьба может быть социальная, но все ради этой борьбы, все ради торжества света над тьмою. В иной форме, в ином значении талант немыслим, ибо он иначе талантливая бесталанность, красивое пустословие, поэтическая безделка. Если обыкновенному человеку рассказать обыкновенным, простым языком о пытке и ее гнусности, рассказ может пропасть холостым зарядом; но вот талант, поэт, живописец, изобразит вам пытку с такими подробностями физиологически верными и сконцентрированными, что у вас захватывает дух, точно вас самого жарят на огне или распинают на кресте, и вы проникаетесь негодованием против изуверства и глубоким сочувствием к страдающим, – вот в чем его задача. Если талант не имеет подобной прогрессивной, просвещающей тенденции, – он не талант, а неудавшаяся сила. Бывали даже неудавшиеся гении, почему же г. Гончарову не быть неудавшимся талантом? А неудавшимся талантом будет всякий писатель, который не в силах иметь воспитательного значения, который не в состоянии пробуждать хороших, благородных чувств и гуманных мыслей.
Сам г. Гончаров произнес себе приговор, конечно, не подозревая того, что можно вывести из его слов. Он говорит: «Глупая красота – не красота. Вглядись в тупую красавицу, всмотрись глубоко в каждую черту лица, в улыбку ее, взгляд – красота ее мало-помалу превратится в поразительное безобразие: воображение может на минуту увлечься, но ум и чувство не удовлетворятся такой красотой: ее место в гареме. Красота, исполненная ума, – необычайная сила: она движет миром, она делает историю, строит судьбы; она явно или тайно присутствует в каждом событии. Красота и грация – это своего рода воплощение ума. От этого дура никогда не может быть красавицей, а дурная собой, но умная женщина, часто блестит красотой. Красота, про которую я говорю, прежде всего будит в человеке человека, шевелит мысль, поднимает дух, оплодотворяет творческую силу гения, не тратит лучи свои на мелочь, не грязнит чистоту…»[4 - Цитата из конца второй части «Обрыва» (гл. XXII).]
О какой красоте говорите вы, г. Гончаров? Уж, конечно, не о красоте смазливого женского личика. Вы признаете, что красота есть какая-то таинственная сила, двигающая человека на все хорошее, честное и благородное, делающая его гуманным, доброжелательным и потому великим. Что же это такое, как не ум, выводящий человека из лабиринта житейской запутанности, созданной человеческой глупостью, на светлый и прямой путь к благополучию? Вы не признаете красоты без ума; поверьте, что нет без ума и таланта.
Г. Гончаров предпослал своему роману весьма наивное объяснение. Он говорит, что программа этого романа была набросана им еще в 1856 и 1857 годах, то есть двенадцать лет назад. Все характеры были им обдуманы, кроме Марка Волохова, которому под конец романа он придал более современный оттенок; что задача, которой он задался, казалась ему не по силам. Но лестное участие к его прежним трудам возлагало на него обязанность или сознаться в своей несостоятельности и уничтожить рукопись или напечатать то, что написалось, и таким образом представить публике запоздалый труд.
Поистине печальная судьба являться постоянно пред публикой с запоздалыми трудами! Когда появилось первое произведение г. Гончарова, его преследовал тот же рок. «Говорят, – писал Белинский, – тип молодого Адуева – устарелый; говорят, что такие характеры уже не существуют…» И хотя Белинский пытается уверить читателя, что подобные типы на Руси еще не вывелись, но Белинский в этом случае был подкуплен красотою изложения, то есть тем самым, что заставляет и теперь еще всю Россию читать «Обрыв», не подозревая всей талантливой бесталанности этого произведения[5 - Здесь Шелгунов глубоко ошибается. Его мнение опровергается в частности воспоминаниями современников первого появления романа «Обыкновенная история». См., например, высказывание Скабичевского, приведенное нами в примечаниях к его статье «Старая правда» в настоящем сборнике.].
Уже в сороковых годах г. Гончаров стоял особняком и неизмеримо позади литературных деятелей того времени. Это было почти тридцать лет назад. И вот этот, уже в молодости отстававший, писатель снова привлекает внимание русской читающей публики. Снова носятся с его «Обрывом», как некогда с его «Обыкновенной историей». Так ли мы зрелы, как были тогда; так ли нас легко подкупить теперь одной красивой формой и бессодержательной внешностью; даром ли пропали для нас последние пятнадцать лет; нужны ли нашему обществу подобные писатели; или время требует других талантов, не заставляющих нас думать бесполезно? Посмотрим!
II
Есть разные способы мышления. Можно думать образами и картинами, как думают романисты, художники, поэты; можно думать афоризмами, как думает большинство женщин; можно думать последовательным логическим мышлением. Сила всех этих родов мышления бывает различная, прямо выходящая из качества человеческого мозга. От этого бывают слабые и сильные романисты, поэты, художники, слабые или сильные мыслители. Логичность мышления, в какой бы форме она ни выражалась, есть сила неотразимая, всесокрушающая, влекущая, против нее устоять невозможно. Где же нет этой неотразимой силы, там нет логики, там нет прогрессивного мышления.
Вся соль романа г. Гончарова заключается в его герое Марке. Вычеркните Марка – и романа нет, нет жизни, нет страстей, нет интереса. «Обрыв» невозможен[6 - Ср. со статьей Скабичевского, где высказывается прямо противоположное мнение.]. Марк – это сосуд, вмещающий в себе всю сумму русских заблуждений. Это черное пятно на светлом горизонте русской патриархальной добродетели; это темная сила, идущая по ложному пути и губящая все, к чему она ни прикасается. Г. Гончаров, рисуя Марка, хотел сказать будущей России: вот чем ты можешь быть – спасайся!
Прототипом Марка служит Базаров. Но Базаров лучезарнее, чище, светлее. Для изображения же Марка г. Гончаров опустил кисть в сажу и сплеча, вершковыми полосами, нарисовал всклокоченную фигуру, вроде бежавшего из рудников каторжного.
Люди, считающие себя представителями новых понятий, при появлении в литературе типов, подобных Марку, обнаруживали постоянно непростительную запальчивость. Базаров чуть не произвел междоусобной войны. Карикатуру и глумление каждый принимал за портрет. Один лагерь вламывался в амбицию; другой тыкал в карикатуру пальцем, с злобной укоризной поглядывая на всякого молодого человека.
По отношению к г. Гончарову обидчивость менее всего простительна. Г. Гончаров еще молодым не умел стоять в передовом полку Белинского, неужели мы будем настолько нерассудительны, чтобы требовать от него передового человека через тридцать лет? Предположите, что современная критика воспылала бы негодованием против направления Карамзина, Загоскина, Лажечникова. Разве к деятелям карамзинского и пушкинского периода может быть другое отношение, кроме рассудочного, спокойного, исторического? Из-за чего негодование к этим призракам? Вы скажете, что есть из них и не призраки, а живые люди, которые сердятся, пишут, бранятся. Ну, и пусть себе. Оттого они и бранятся, что чувствуют свое бессилие: оттого они и сердятся, что не понимают. Задача современной критики вовсе не в запальчивой личной борьбе с отжившими писателями. По отношению к ним ей следует лишь произнести надгробное слово и отпустить их с миром. Истинная задача критики в том, чтобы спасти читателя от губительного обаяния формы, показать, что у позолоченного ореха гнилое ядро, что за красивыми словами скрывается полнейший обскурантизм и маломыслие, этот самый ужаснейший яд, от которого нужно спасать современное русское общество. «Обрыв» читают все, но многие ли в состоянии отличить в нем форму от сущности, указать разницу между Марком и Райским, увидеть скверность под позолотой.
Как только г. Гончарову впервые пришлось сказать к слову о Марке, читатель узнает, что Марк Волохов нечто более ужасное, чем Атилла, Чингис-хан и Омар, взятые вместе: что для него нет ничего святого, что из самых драгоценных книг он, по прочтении, выдирает листы и закуривает ими сигары или, скатав трубочку, чистит ею ногти или уши. Этот Волохов – чудо степного города. Его никто не любит и все боятся. Он сослан под надзор полиции, и с тех пор город – нельзя сказать, чтоб был в безопасности. Так писал о Марке Леонтий Козлов Райскому.
Рекомендация, сделанная Татьяной Марковной, была несколько определительнее, но зато и хуже. Райский узнал, что Волохов – Маркушка, да еще и бездомный: что, где бы его ни увидеть, следует бежать от него, как от сатаны, потому что он собьет с пути; что он груб и невежа; что он чуть не застрелил Нила Андреевича; что на Крицкую напустил собак, которые оборвали ей шлейф, и что вообще он человек пропащий.
Но портрет, рисуемый самим автором романа, еще грандиознее. «Марк был лет двадцати семи, среднего роста, сложенный крепко, точно из металла, и пропорционально. Он был не блондин, а бледный лицом; волосы бледно-русые, закинутые густой гривой на уши и на затылок, открывали большой выпуклый лоб. Усы и борода жидкие. Открытое, как будто дерзкое лицо далеко выходило вперед. Черты лица не совсем правильные, довольно крупные. Руки у него длинные, кисти рук большие, правильные и цепкие. Взгляд серых глаз был или смелый, вызывающий, или по большей части холодный и ко всему небрежный. Сжавшись в комок, он сидел неподвижен; ноги, руки не шевелились, точно замерли; глаза смотрели на все спокойно или холодно. Но под этой неподвижностью таилась зоркость, чуткость и тревожность, какая заметна иногда в лежащей, по-видимому, покойно и беззаботно собаке…» Затем идет подробное описание собаки, лежащей, по-видимому, спокойно, а между тем готовой каждую минуту вскочить и залаять. Маркушка-бездомный, как называла Волохова Татьяна Марковна, оказывается прозвищем весьма деликатного свойства пред букетом, преподнесенным герою романа самим автором. И вот что значит сила таланта: вполне от автора зависело обозвать Марка львом, тигром, крокодилом, змеей, свиньей, кошкой, смотря по тому, какое представление требовалось возбудить в уме читателя. Автор нашел, что лучше и пристойнее всего сравнить Марка с собакой, несмотря на то, что грива, большой лоб и смелые серые глаза давали ему некоторое и, как кажется, не малое право на сходство со львом. Если бы автор задался мыслью похвалить Марка и выставить его образцом житейских добродетелей, то, конечно, он сравнил бы его со львом; но как имелось в виду выругать, то и большая соответственность была найдена в сравнении с собакой. Отделяется ли талант от идеи? Сознательно или бессознательно подбираются сравнения?
Из дальнейшего жизнеописания Марка мы узнаем, что он ничего не делает по-людски. Подступит ли к нему голод ночью, он, нисколько не соображая, что весь город спит и нигде ничего достать невозможно, предполагает поднять тревогу, крикнуть «пожар» и ворваться в трактир. Когда на такое смелое предложение ему отвечают, что его могут из трактира выгнать, Марк отвечает: «Нет, уже это напрасно: не впустить меня еще можно, а когда я войду, так уж не выгонишь!» Для Марка не существует ни дверей, ни ворот, – он лазит в окна и через заборы; ест он за четвертых, пьет, как медведь; живет на конце города в клетушке у огородника, спит в телеге, под рогожей, хоть и владеет тоненьким старым тюфяком, тощим ваточным одеялом и маленькой подушкой; средств для существования у него нет никаких, и чем он живет – неизвестно; увидев в первый раз человека, у которого он знает, что есть деньги, Марк немедленно просит в долг рублей триста, не менее, и объявляет, что он долга платить не будет; так прямо и говорит: «Я вам… никогда не отдам, разве только, будете в моем положении, а я в вашем…» Износится ли его платье, – а у вас он видит платье хорошее, – он поступает с такою же нецеремонностью и чуть не силой отнимает ваше платье и дает вам свое. Собственность, сколько видно, он не особенно уважает. Когда Вера поймала его на краже яблоков и упрекнула в том, что он берет тихонько, чужие яблоки, Марк ответил ей: «Они – мои, а не чужие, – вы воруете их у меня!» Образованное население степного города называло его отщепенцем, отверженцем, Карлом Моором, Варравой. Хозяйка дома – огородница – говорила, что он – благой, какой-то чудной, и что без мужа ей жутко с ним одной.
Остановимся пока на этих внешних чертах, изображаемых г. Гончаровым с такой талантливостью, что вами овладевает решительное недоуменье, о ком тут речь – о Горкине или Кореневе в юности, о букеевской орде или о государстве, сложившем известный, внешний порядок?
Идите вперед последовательно, без лукавства, в которое маскируется г. Гончаров, и скажите, возможны ли у нас подобные типы? Предположим, что возможны отдельные люди: но ведь г. Гончаров ставит «вопрос»; он обобщает, он создает тип, он пророчествует. Нам прежде всего объясняют, что Марк живет под надзором полиции. Вы знаете, что это значит; положим, вы, как читатель, можете этого и не знать, но г. Гончаров, как писатель, знать это должен. Лет двадцать в Новоузенске жил молодой доктор, который, подобно Марку, лазил вечно в окна, а когда отправлялся купаться, то, раздевшись дома, шел нагишом через весь город до реки и в таком же костюме возвращался домой. Предположите, что подобную особенность какой-нибудь автор вздумал бы изобразить, как типический признак всего молодого поколения того времени. Что бы вы подумали о наблюдательной способности и о сообразительности автора? И в чем пикантность этой особенности, в чем ее внутренняя суть? Белинский говорит, что г. Гончаров, как замечательный талант, только рисует то, что он видит; а добираться до сути, делать вывод обязан уже сам читатель. Мы задаемся вопросом: повсюду и ко всем Марк путешествует этим прямым, кратчайшим путем или нет? И как он посещает своих знакомых, живущих во втором или третьем этаже, и как он минует ворота, если двор окружен высоким забором? Г. Гончаров молчит. Сокращение труда руководит Марком или другие соображения? Г. Гончаров опять молчит: он – талант, – делайте вывод сами. Или имелось в виду нарисовать картину грандиозного отрицания, не признающего даже архитектуры и попирающего решительно все. Но ведь прежде всего всякое отрицание есть логическое построение: оно есть стремление к замене худшего лучшим. Конечно, отрицатель может ошибаться, и такую ошибку г. Гончаров, вероятно, и хотел изобразить. Но можно ли ошибаться до того, чтобы отрицать ворота и двери? При той бедности, в которой обретался Марк, это было уже совсем нерассудительно, ибо он рисковал оставить на заборе свои последние штаны. А г. Гончаров уверяет, что Марк смотрел умно и говорил логически!
Г. Гончаров говорит, что Марк стрелял в Нила Андреевича, что он напустил собак на Крицкую, что он врывался силой в трактиры. Во-первых, нужно ли это? Нил Андреевич был председатель какой-то палаты, генерал, лицо почетное и всеми уважаемое; Крицкая принадлежала тоже к губернской аристократии. И вы думаете, что человек, находящийся под надзором полиции, мог бы оставаться прежним Варравой после таких пассажей и посмел бы думать о штурмовании трактиров? Не русским читателям рассказывайте, г. Гончаров, подобные небывальщины. Кисейная барышня, увидев Марка в вашей картине на базаре, с чужими яблоками, скажет: «Фи, какой противный!» Но мы знаем, что г. Гончаров – талант, и что он измыслил эту сцену для эффекта, что в действительности она никогда не бывала, да и невозможна. Тип не должен уважать ничьих заборов и ничьих яблоков. И вы думаете, что местные мещане не переломали бы Марку все ребра. Дело другое, если Марк взлез на забор Татьяны Марковны, чтобы порисоваться перед Верой и завести с нею знакомство. Но разве это типическая черта, разве обобщение возможно? А отрицание собственности! Марк прямо объявляет, что долгов не отдает, – и находятся все-таки люди, которые дают ему деньги. Г. Гончаров, подумайте! Предположите, что какой-нибудь господин приходит к вам и просит у вас триста рублей на условии никогда не отдавать долга. Дадите вы ему или нет? За кого же вы принимаете своих читателей?
Наконец, помимо всего этого, обратимся к личной наблюдательности читателя. Скажите, случалось ли вам встречать молодых людей, отрицающих двери и ворота, штурмующих трактиры, напускающих собак на элегантных барынь, стреляющих в почетных лиц, ворующих яблоки и овощи, занимающих деньги без отдачи и присваивающих себе чужое платье, если оно лучше собственного? И когда Марк колобродит у г. Гончарова? Когда об освобождении, крестьян в русском обществе толковали еще шепотом, – это значит около 1859 года. Видели ли вы в этом году не только законченный тип, но даже и отдельных людей Маркова пошиба?
Белинский был прав, когда предостерегал г. Гончарова не забираться в неподлежащую ему область сознательной мысли[7 - Шелгунов произвольно толкует высказывание Белинского.]. Как хорош, неподражаемо хорош г. Гончаров, когда рисует старых мосек, старых лошадей, кивающих крупно головами, собак, лежащих от жара ленивыми кучами, кур, прыгающих на стены, и голубей, хлопающих в ладоши. В животном мире нам все загадка. Нас пленяет верно схваченная внешность, и мы с упоением говорим: о, какой талант г. Гончаров! Но с человеком иное. Нам мало знать фасон и качество его платья, бесцеремонность обращения и вольное поведение вообще, – мы хотим забраться непременно в душу человека и распластать ее так, чтобы причина каждого его побуждения, каждого его поступка лежала перед нами как на тарелке. Что же сделал г. Гончаров с добродушным и доверчивым русским читателем? Он просто над ним насмеялся. Г. Гончарову кто-то наговорил, что завелись в России злодеи, и попросил его принять против них литературные меры. И вот г. Гончаров уподобился молодому неразумному петуху, прыгающему со страха на стену. Страх большой, но действительной опасности не имеется. Данных нет, факта нет, типа не существует. Г. Гончаров отправился в неподлежащую ему область и там начал измышлять. Но ведь сила не во внешности, – сила во внутреннем содержании. Как человек исключительно формы, г. Гончаров придумал внешние несообразности, но вложить в них душу был не в состоянии потому, что ее не выдумаешь. Для такого поверхностного таланта, как г. Гончаров, нужно, чтобы перед его глазами стояла готовая картина, и он ее опишет действительно мастерски и во всех малейших подробностях.
Но чтобы прозреть на будущее, чтобы заглянуть в самую глубь того, что шевелится на дне человеческой души, что происходит в его уме, что управляет его желаниями и стремлениями, – у г. Гончарова никогда не было силы. Посмотрите, как хорош Гончаров, когда он рисует знатных тетушек и их мосек, старых беспутных волокит, камелий и простых распутных женщин. В этом мире он как рыба в воде. Ему известно все, все до последней мелочи. Пред вами стоят живые люди. Но чуть человек выходит из пределов существующей действительности – и вы видите ложь, выдумку, инсинуацию. Если внешними фактами отрицания собственности г. Гончаров хотел изобличить несостоятельность известного экономического учения, или пока доктрины, то он трудился даже не менее напрасно, чем молодой петух, прыгающий со страха на стену. Во-первых, русское общество знает на этот счет гораздо больше того, что сообщил ему г. Гончаров; а во-вторых, выводить на сцену приемы наглой беззастенчивости вовсе не значит опровергать логические построения. Неловкость г. Гончарова в неподлежащей ему области обнаружилась в настоящем случае гораздо резче, чем когда еще Белинский предостерег его не садиться не в свои сани.
Впрочем, г. Гончаров, изображая внешние подвиги Марка, не относится к ним, по-видимому, с особенной настойчивостью. Конечно, это можно объяснить, пожалуй, и тем, что г. Гончаров вовсе не мыслитель и недостаточно знаком с теоретическою сущностью того, о чем он взялся трактовать.
Но иначе относится автор к вопросу, когда выводит на сцену Веру. До сих пор кидались какие-то крупные и хотя очень черные, но тем не менее все-таки неясные черты. Но с появлением Веры и с изложением истории ее любви и падения начинается, собственно, роман, криминальное обвинение Марка, – вот где вся его чудовищность. До сих пор о Марке говорилось как бы вскользь. Читатель подготовлялся к тому, что на сцену должно выступить нечто очень ужасное, невозможное, поразительное, вроде мастодонта или ихтиозавра. Теперь же этот ихтиозавр рисуется во всей своей страшной красе.
Почему Юлия («Обыкновенной истории») вышла такой нежной, чувствительной особой, помешанной на вечной любви, автор дал нам некоторую возможность догадываться. Ее воспитывал француз на романах, наделавших в то время большого шума: de manuscript vert, des sept pеch?s capitaux, d’?ne mort [8 - Незрелая рукопись, Семь смертных грехов, Мертвый осел. – фр.] и т. д. и т. п. Венера, похождения которой были очень хорошо известны Юлии от того же француза, оказывалась агнцем невинности сравнительно с героинями этих романов. Юлия жадно читала новую школу. С эмбриологией Веры нас почти не знакомят: заставляют догадываться, как бы намеренно накидывают на нее вуаль таинственности.
С заученной талантливостью, прежде чем показать Веру, нам показывают ее комнату. Но в комнате решительно нет ничего, что бы указывало на вкус и склонности хозяйки. Загадка осталась загадкой. Интерес возбуждается.
Потом нам показывают очень красивую девушку, в чертах которой не видно ни чистосердечия, ни детского, херувимского дыхания свежести, но на которой лежит какая-то тайна, мелькает не высказывающаяся сразу прелесть в луче взгляда, в внезапном повороте головы, в сдержанной грации движений, что-то неудержимо прокрадывающееся в душу во всей фигуре.