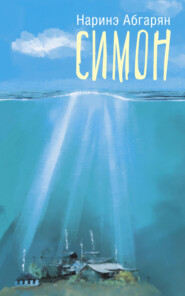По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Молчание цвета
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Молчание цвета
Наринэ Юриковна Абгарян
Мне всегда везло на хороших людей. Каждый из них вставлял важный кусочек мозаики в ту неоконченную картину мира, которую я себе рисовала. Каждый привносил то, чего не хватало именно мне. Каждый обязательно чему-то учил. По большому счету, я – результат их стараний, их бледная тень.
Время течет, и жизнь непозволительно убыстряется, великодушно оставляя рядом самых близких, самых важных. Самых любящих и милосердных. Им не нужно ничего объяснять, с ними можно не бояться быть слабой или глупой. Перед ними нет необходимости оправдываться – они простили меня накануне дня моего рождения, без условий и навсегда.
Потому все, что есть у меня сейчас на душе, – благодарность и любовь. Благодарность и любовь.
Наринэ Абгарян
Молчание цвета
Сборник
© Наринэ Абгарян, текст, ил., 2022
© Сона Абгарян, ил., 2022
© Юлия Межова, обложка, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022
Молчание цвета
Часть 1
Четыре: зеленый
– Где этот Астцу зулумат? – причитает бабо Софа, теребя в руках недовязанный шерстяной носок – гулпа. Растопыренный круглыми петлями носок распорот ровно на треть: остался синий низ, оранжевая пятка, желтая полоска и край фиолетовой. Зеленая и едва начатая красная полосы отсутствуют, только мелкие петли торчат.
Виновник торжества, семилетний внук Левон, спешно покинув эпицентр событий, прячется в саду. Перед тем как выскочить из дома, он предусмотрительно натянул отцовскую толстовку и обмотался дедушкиным шарфом: неизвестно, сколько придется отсиживаться в укрытии, пока бабо Софа перекипит. На дворе южная зима – влажно-промозглая, крепчающая к ночи до пронизывающего кусачего холода.
Гулпа повторяли расцветку деревянной пирамиды, которую кропотливо и преданно, деталь к детали, собирает старший брат Левона, Гево. Нижний круг пирамидки синий, а далее, в порядке уменьшения, следуют ярко-оранжевый, желтый, фиолетовый и красный. Конструкцию венчает конус цвета смуглой зимней ели – Левон называет темно-зеленый именно так, да и как по-другому можно называть цвет, который точь-в-точь воспроизводит припорошенный снежной крупой еловый! Если осторожно, стараясь не смахнуть робкий снег, залезть под растущую на самом отшибе сада ель – сучковатый ствол, ржавая шелуха веток, согнутая крючком верхушка, – и расположиться поудобнее (одна рука под головой, другая греется в кармане, ноги же свободно раскинуты), крепко зажмуриться, вдохнуть сыроватый, мигом проникающий в легкие аромат хвои, а потом, спустя долгие мгновения, медленно выдохнуть и разжмурить глаза, то обязательно поймаешь именно тот серовато-мглистый, пасмурный, отдающий свежим и в то же время лежалым зеленый, который Левон упорно называет смуглым. Такой смуглостью, пожалуй, отдает еще мшистый подол летней реки, перед самым закатом, когда вода, прекратив отражать свет, принимается ненасытно вбирать его в себя, судорожно и взахлеб, словно пугаясь того, что следующего раза может не случиться.
– Где этот Астцу зулумат? – надрывается бабо Софа.
Левон лежит на мерзлой земле и, ощущая затылком ее безразличное дыхание, разглядывает сквозь бурые прожилки продрогших еловых лап блеклый звездный первоцвет. Он уже знает, что никогда не скучаешь по весне так, как зимой, когда до солнца еще далеко, два месяца с лишним, а то и дольше. Настанет тепло только за трендезом[1 - Армянская Масленица.], на пороге большого поста, придет разом и нежданно, так всегда бывает, вчера еще снег лежал, а сегодня уже вылупилась первая крапива – нежно-сочная, совсем не кусачая, бабо Софа припорашивает ее каменной солью, растирает в ладонях и кормит всех, кто попадется ей на глаза: внуков, мужа, сына с невесткой, шумную домашнюю птицу… И даже собаку Ашун пытается кормить, но та отползает, резво орудуя кривоватыми лапами, сгребая круглым пузом дворовый сор.
«Зачем собаке крапива?!» – откровенно недоумевает всем своим толстеньким, курчаво-волосатым телом она.
– Разве кому-нибудь свежая трава причинила вред? – возражает бабо Софа, переводя мятежную собакину позу в слова. И выжидательно умолкает, словно добиваясь ответа.
Ашун прячется за конуру и оттуда дипломатично виляет хвостом.
– Дурья твоя башка! Окачу ледяной водой – будешь знать! – не дождавшись мало-мальски вразумительного объяснения, ворчит бабо Софа. Ашун тут же выскакивает из-за конуры и летит опрометью к любимой хозяйке, потому что знает: нет в ее обращении ничего обидного, а только ласка и любовь. В Тавушском регионе Армении, где обитает семья Левона, нежные чувства принято выражать словами, которые, казалось бы, совсем не приспособлены для того, чтобы обнаруживать привязанность. Всякое слово здесь имеет множество значений зачастую совершенно противоположных, и все эти объяснения зависят не от прямого смысла произнесенного, а от того, с какой интонацией оно было сказано. Потому, если, к примеру, девушка говорит молодому человеку – сейчас так звездану, что дух испустишь, – вполне возможно, что она не расправой ему грозит, а совсем наоборот – признается в нежных чувствах.
– Барабанная ты шкура! Один толк от тебя – бессмысленный лай и клочья шерсти по всему двору, – приговаривает бабо Софа, делано хмурясь и почесывая собаку за мохнатыми ломаными ушами. Ашун счастливо повизгивает и подскакивает, норовя лизнуть хозяйку в морщинистую щеку.
– Где этот Астцу зулумат? – голос бабушки, набирая силу, гремит по дому, заполняя собой два верхних этажа и гулко отзываясь эхом в погребах – большом и малом. Интонации такие, что сомнений не остается – она еле сдерживает гнев. Гулпа распорота почти на треть, некоторые из петель успели уползти, и теперь придется их подбирать английскими булавками, подслеповато щурясь в толстенные стекла очков, а потом довязывать, неустанно причитая и призывая в свидетели предков – живых и мертвых, и проводить обличающие параллели. Из мертвых за поведение Левона держит ответ прапрадед Мамикон, которого в свое время прозвали Безумным и благодаря которому их род окрестили Анхатанц, то бишь Собственниками (так ругали людей старого, дореволюционного кроя и мышления). В годы коллективизации, когда по требованию новоявленной советской власти, назначившей своим главным врагом частную собственность, крестьяне вынуждены были сдавать в колхозное хозяйство домашнюю живность, среди них находились такие, кто отказывался это делать. Прапрадед Мамикон тоже оказался одним из этих строптивцев. Будучи человеком вспыльчивым и в гневе неуправляемым, он, после долгого и напрасного разговора, увещеваний и просьб образумиться – ну где это видано, чтобы отбирали кормилицу-корову! – избил до полусмерти председателя колхоза, пламенного большевика Чагаранц Вилика, а ночью спалил его дом. За подобный проступок Мамикона сослали в Сибирь, откуда он так и не вернулся. А его семья, в которой из семи детей из-за голода выжили только двое, вынуждена была существовать в крайней нищете, с клеймом врага народа.
Когда Левон беспричинно артачился и упрямился (а делал он это, говоря по правде, по сто раз на дню), бабо Софа возводила глаза к потолку и призывала к ответу того самого Безумного Мамикона.
– Почему из всех предков этот ребенок унаследовал именно твой дрянной нрав?! – возмущенно выговаривала она, попеременно колотя кулаком себя в грудь и указывая комком влажной тряпки, которой протирала с комода пыль, на Левона. И непременно добавляла, горестно вздохнув: – Нет чтобы ему достался чей-нибудь другой, ангельский характер!
Под чьим-нибудь ангельским характером бабушка, несомненно, подразумевала свой.
Левон, делано потупившись и с нетерпением переминаясь с ноги на ногу, ожидал конца отповеди – в кармане копошился цыпленок, которого он увел у наседки. Двух других цыплят бабушка отобрала и вернула в птичник, а про третьего не подозревала. Догадалась бы – ответ за Левона пришлось бы держать не только прапрадеду Мамикону, но и деду Геворгу. А он, в отличие от Мамикона, предусмотрительно почившего в бозе до рождения правнука, не только жив, но еще и женат на бабо Софе. Целых сорок девять лет и восемь месяцев.
У бабо Софы три врага: соль, сахар и собственный муж. Соль в ответе за плохую работу почек, сахар – за лишний вес и испорченные зубы, а за все остальные беды и испытания, сыплющиеся словно из рога изобилия на голову человечества, отдувается дед Геворг. И не имеет значения, какого рода это беды: природный катаклизм, птичий мор или покореженная из-за дождевой влаги деревянная крышка бочки. Широко и якобы отстраненно порассуждав о произошедшем (не забывая притом делать непрозрачные намеки), бабушка всегда завершает свою речь одними и теми же словами: «Если бы в свое время я вышла замуж за нормального человека, ничего этого не случилось бы!»
Дед Геворг пропускает ее пчелиное жужжание мимо ушей. Высказывается, лишь дождавшись традиционного заключительного аккорда.
– На пятидесятилетие нашего брака схожу в управу и потребую за ущерб, причиненный долгими годами супружества, килограмм золота! – торжественно объявляет он.
– Изумрудами лучше возьми! – не сдается бабушка.
– Изумрудами ты возьмешь. В день моих похорон! – нагнетает дед.
– Тебя похоронишь! – сбавляет обороты бабо Софа, но следом, вспомнив очередной порочащий мужа факт, сразу же заводится по новой. – Да ты меня, бессовестный, несколько раз переживешь! И на этой бесстыжей Марине женишься! Я что, не вижу, как ты на нее заглядываешься?
– Это ко-огда я на нее за-аглядывался-то? – дед от изумления аж заикаться начинает.
– Да хоть сегодня! Кто ей калитку чинил? Битый час провозился.
– Я же с калиткой, а не с Мариной провозился!
– Геворг!
– Джан! Ревнуешь поди.
– Ревную, а как же! Много чести!
Раньше Левон, заслышав перепалку бабушки и деда, расстраивался, но потом перестал, потому что сообразил, что это глупая, но безвредная привычка. Бабо Софа, хоть и ела мужа поедом, но любила его (правда, весьма оригинально, сообразно поговорке «от любви до ненависти один шаг») и заботилась неустанно: внимательно следила, чтобы тот таблетки от сердца и давления принял, вовремя поел, не простыл, не переутомился. Дед огрызался и артачился, но уступал. Ну или притворялся, что уступал, особенно когда дело касалось лекарств. Левон часто застукивал его за тем, что из двух положенных таблеток он принимал только одну. Поймав деда в первый раз за подобным преступлением, он припер его к стенке и потребовал объяснений. Дед кхекнул, смущенно рассмеялся, потом промямлил, что от таблеток, которые лечат сердце, в желудке изжога, потому он вынужден принимать только те, что от давления.
– Я папе скажу, – пригрозил Левон.
– Ишь, вылупилось яйцо! – возмутился дед.
– И маме скажу! Или же обещай принимать таблетки. Обещаешь?
Дед ничего отвечать не стал, зато сгреб его в объятия и чмокнул в макушку. «Отлынивает», – вдыхая знакомый табачно-дымный аромат его кусачей бороды, подумал Левон, но выдавать деда родителям все-таки не стал – пожалел. Не хватало только, чтобы наравне с денно и нощно пилящей женой, сын со снохой тоже его пилили!
– Где этот Астцу зулумат?! – взывает меж тем к совести предков бабушка Софа, цепляя убежавшие петли распоротых гулпа булавками. Позже она аккуратно поднимет их с помощью изогнутого коротконосого крючка до края вязки, соберет на спицы и примется довязывать.
Объяснение проступку Левона очень простое: у бабушки память до того прохудилась, что она постоянно забывает очередность кругов деревянной пирамидки Гево. Недавно связала для него свитер и, снова перепутав цвета, сделала горловину синей. Так Гево отказался надевать обновку, пока она не перевязала ее.
– Кто бы мне объяснил, что ему за разница, какого цвета горловина? – бухтела возмущенно бабушка, обращаясь в третьем лице к Гево. Тот, поглощенный сборкой пирамиды, рассеянно улыбнулся уголком губ. На тарелке с золотистой каемкой лежал полукруг недоеденного слоеного пирожного – вытекший из середки сливовый джем распустился по дну крохотными лепестками трилистника. Левон хотел смахнуть прилипшие к подбородку брата крупицы сахарной помадки и даже руку протянул, но сразу же отдернул – больше всего на свете Гево не выносил прикосновений, а еще – когда его отвлекали от любимого занятия – собирания деревянной пирамидки.
С гулпа вышла та же история – бабушка снова все перепутала и вместо зеленого сделала верх красным. Ну, Левону и пришлось распускать неправильные полосы. Надо было, конечно, не своевольничать, а предупредить бабушку, но рука сама потянулась выдернуть четыре коротенькие спицы и отмотать шерстяную нить. Левон проделал это, завороженно наблюдая, как исчезает ряд за рядом мелкий бисер петель.
Наринэ Юриковна Абгарян
Мне всегда везло на хороших людей. Каждый из них вставлял важный кусочек мозаики в ту неоконченную картину мира, которую я себе рисовала. Каждый привносил то, чего не хватало именно мне. Каждый обязательно чему-то учил. По большому счету, я – результат их стараний, их бледная тень.
Время течет, и жизнь непозволительно убыстряется, великодушно оставляя рядом самых близких, самых важных. Самых любящих и милосердных. Им не нужно ничего объяснять, с ними можно не бояться быть слабой или глупой. Перед ними нет необходимости оправдываться – они простили меня накануне дня моего рождения, без условий и навсегда.
Потому все, что есть у меня сейчас на душе, – благодарность и любовь. Благодарность и любовь.
Наринэ Абгарян
Молчание цвета
Сборник
© Наринэ Абгарян, текст, ил., 2022
© Сона Абгарян, ил., 2022
© Юлия Межова, обложка, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022
Молчание цвета
Часть 1
Четыре: зеленый
– Где этот Астцу зулумат? – причитает бабо Софа, теребя в руках недовязанный шерстяной носок – гулпа. Растопыренный круглыми петлями носок распорот ровно на треть: остался синий низ, оранжевая пятка, желтая полоска и край фиолетовой. Зеленая и едва начатая красная полосы отсутствуют, только мелкие петли торчат.
Виновник торжества, семилетний внук Левон, спешно покинув эпицентр событий, прячется в саду. Перед тем как выскочить из дома, он предусмотрительно натянул отцовскую толстовку и обмотался дедушкиным шарфом: неизвестно, сколько придется отсиживаться в укрытии, пока бабо Софа перекипит. На дворе южная зима – влажно-промозглая, крепчающая к ночи до пронизывающего кусачего холода.
Гулпа повторяли расцветку деревянной пирамиды, которую кропотливо и преданно, деталь к детали, собирает старший брат Левона, Гево. Нижний круг пирамидки синий, а далее, в порядке уменьшения, следуют ярко-оранжевый, желтый, фиолетовый и красный. Конструкцию венчает конус цвета смуглой зимней ели – Левон называет темно-зеленый именно так, да и как по-другому можно называть цвет, который точь-в-точь воспроизводит припорошенный снежной крупой еловый! Если осторожно, стараясь не смахнуть робкий снег, залезть под растущую на самом отшибе сада ель – сучковатый ствол, ржавая шелуха веток, согнутая крючком верхушка, – и расположиться поудобнее (одна рука под головой, другая греется в кармане, ноги же свободно раскинуты), крепко зажмуриться, вдохнуть сыроватый, мигом проникающий в легкие аромат хвои, а потом, спустя долгие мгновения, медленно выдохнуть и разжмурить глаза, то обязательно поймаешь именно тот серовато-мглистый, пасмурный, отдающий свежим и в то же время лежалым зеленый, который Левон упорно называет смуглым. Такой смуглостью, пожалуй, отдает еще мшистый подол летней реки, перед самым закатом, когда вода, прекратив отражать свет, принимается ненасытно вбирать его в себя, судорожно и взахлеб, словно пугаясь того, что следующего раза может не случиться.
– Где этот Астцу зулумат? – надрывается бабо Софа.
Левон лежит на мерзлой земле и, ощущая затылком ее безразличное дыхание, разглядывает сквозь бурые прожилки продрогших еловых лап блеклый звездный первоцвет. Он уже знает, что никогда не скучаешь по весне так, как зимой, когда до солнца еще далеко, два месяца с лишним, а то и дольше. Настанет тепло только за трендезом[1 - Армянская Масленица.], на пороге большого поста, придет разом и нежданно, так всегда бывает, вчера еще снег лежал, а сегодня уже вылупилась первая крапива – нежно-сочная, совсем не кусачая, бабо Софа припорашивает ее каменной солью, растирает в ладонях и кормит всех, кто попадется ей на глаза: внуков, мужа, сына с невесткой, шумную домашнюю птицу… И даже собаку Ашун пытается кормить, но та отползает, резво орудуя кривоватыми лапами, сгребая круглым пузом дворовый сор.
«Зачем собаке крапива?!» – откровенно недоумевает всем своим толстеньким, курчаво-волосатым телом она.
– Разве кому-нибудь свежая трава причинила вред? – возражает бабо Софа, переводя мятежную собакину позу в слова. И выжидательно умолкает, словно добиваясь ответа.
Ашун прячется за конуру и оттуда дипломатично виляет хвостом.
– Дурья твоя башка! Окачу ледяной водой – будешь знать! – не дождавшись мало-мальски вразумительного объяснения, ворчит бабо Софа. Ашун тут же выскакивает из-за конуры и летит опрометью к любимой хозяйке, потому что знает: нет в ее обращении ничего обидного, а только ласка и любовь. В Тавушском регионе Армении, где обитает семья Левона, нежные чувства принято выражать словами, которые, казалось бы, совсем не приспособлены для того, чтобы обнаруживать привязанность. Всякое слово здесь имеет множество значений зачастую совершенно противоположных, и все эти объяснения зависят не от прямого смысла произнесенного, а от того, с какой интонацией оно было сказано. Потому, если, к примеру, девушка говорит молодому человеку – сейчас так звездану, что дух испустишь, – вполне возможно, что она не расправой ему грозит, а совсем наоборот – признается в нежных чувствах.
– Барабанная ты шкура! Один толк от тебя – бессмысленный лай и клочья шерсти по всему двору, – приговаривает бабо Софа, делано хмурясь и почесывая собаку за мохнатыми ломаными ушами. Ашун счастливо повизгивает и подскакивает, норовя лизнуть хозяйку в морщинистую щеку.
– Где этот Астцу зулумат? – голос бабушки, набирая силу, гремит по дому, заполняя собой два верхних этажа и гулко отзываясь эхом в погребах – большом и малом. Интонации такие, что сомнений не остается – она еле сдерживает гнев. Гулпа распорота почти на треть, некоторые из петель успели уползти, и теперь придется их подбирать английскими булавками, подслеповато щурясь в толстенные стекла очков, а потом довязывать, неустанно причитая и призывая в свидетели предков – живых и мертвых, и проводить обличающие параллели. Из мертвых за поведение Левона держит ответ прапрадед Мамикон, которого в свое время прозвали Безумным и благодаря которому их род окрестили Анхатанц, то бишь Собственниками (так ругали людей старого, дореволюционного кроя и мышления). В годы коллективизации, когда по требованию новоявленной советской власти, назначившей своим главным врагом частную собственность, крестьяне вынуждены были сдавать в колхозное хозяйство домашнюю живность, среди них находились такие, кто отказывался это делать. Прапрадед Мамикон тоже оказался одним из этих строптивцев. Будучи человеком вспыльчивым и в гневе неуправляемым, он, после долгого и напрасного разговора, увещеваний и просьб образумиться – ну где это видано, чтобы отбирали кормилицу-корову! – избил до полусмерти председателя колхоза, пламенного большевика Чагаранц Вилика, а ночью спалил его дом. За подобный проступок Мамикона сослали в Сибирь, откуда он так и не вернулся. А его семья, в которой из семи детей из-за голода выжили только двое, вынуждена была существовать в крайней нищете, с клеймом врага народа.
Когда Левон беспричинно артачился и упрямился (а делал он это, говоря по правде, по сто раз на дню), бабо Софа возводила глаза к потолку и призывала к ответу того самого Безумного Мамикона.
– Почему из всех предков этот ребенок унаследовал именно твой дрянной нрав?! – возмущенно выговаривала она, попеременно колотя кулаком себя в грудь и указывая комком влажной тряпки, которой протирала с комода пыль, на Левона. И непременно добавляла, горестно вздохнув: – Нет чтобы ему достался чей-нибудь другой, ангельский характер!
Под чьим-нибудь ангельским характером бабушка, несомненно, подразумевала свой.
Левон, делано потупившись и с нетерпением переминаясь с ноги на ногу, ожидал конца отповеди – в кармане копошился цыпленок, которого он увел у наседки. Двух других цыплят бабушка отобрала и вернула в птичник, а про третьего не подозревала. Догадалась бы – ответ за Левона пришлось бы держать не только прапрадеду Мамикону, но и деду Геворгу. А он, в отличие от Мамикона, предусмотрительно почившего в бозе до рождения правнука, не только жив, но еще и женат на бабо Софе. Целых сорок девять лет и восемь месяцев.
У бабо Софы три врага: соль, сахар и собственный муж. Соль в ответе за плохую работу почек, сахар – за лишний вес и испорченные зубы, а за все остальные беды и испытания, сыплющиеся словно из рога изобилия на голову человечества, отдувается дед Геворг. И не имеет значения, какого рода это беды: природный катаклизм, птичий мор или покореженная из-за дождевой влаги деревянная крышка бочки. Широко и якобы отстраненно порассуждав о произошедшем (не забывая притом делать непрозрачные намеки), бабушка всегда завершает свою речь одними и теми же словами: «Если бы в свое время я вышла замуж за нормального человека, ничего этого не случилось бы!»
Дед Геворг пропускает ее пчелиное жужжание мимо ушей. Высказывается, лишь дождавшись традиционного заключительного аккорда.
– На пятидесятилетие нашего брака схожу в управу и потребую за ущерб, причиненный долгими годами супружества, килограмм золота! – торжественно объявляет он.
– Изумрудами лучше возьми! – не сдается бабушка.
– Изумрудами ты возьмешь. В день моих похорон! – нагнетает дед.
– Тебя похоронишь! – сбавляет обороты бабо Софа, но следом, вспомнив очередной порочащий мужа факт, сразу же заводится по новой. – Да ты меня, бессовестный, несколько раз переживешь! И на этой бесстыжей Марине женишься! Я что, не вижу, как ты на нее заглядываешься?
– Это ко-огда я на нее за-аглядывался-то? – дед от изумления аж заикаться начинает.
– Да хоть сегодня! Кто ей калитку чинил? Битый час провозился.
– Я же с калиткой, а не с Мариной провозился!
– Геворг!
– Джан! Ревнуешь поди.
– Ревную, а как же! Много чести!
Раньше Левон, заслышав перепалку бабушки и деда, расстраивался, но потом перестал, потому что сообразил, что это глупая, но безвредная привычка. Бабо Софа, хоть и ела мужа поедом, но любила его (правда, весьма оригинально, сообразно поговорке «от любви до ненависти один шаг») и заботилась неустанно: внимательно следила, чтобы тот таблетки от сердца и давления принял, вовремя поел, не простыл, не переутомился. Дед огрызался и артачился, но уступал. Ну или притворялся, что уступал, особенно когда дело касалось лекарств. Левон часто застукивал его за тем, что из двух положенных таблеток он принимал только одну. Поймав деда в первый раз за подобным преступлением, он припер его к стенке и потребовал объяснений. Дед кхекнул, смущенно рассмеялся, потом промямлил, что от таблеток, которые лечат сердце, в желудке изжога, потому он вынужден принимать только те, что от давления.
– Я папе скажу, – пригрозил Левон.
– Ишь, вылупилось яйцо! – возмутился дед.
– И маме скажу! Или же обещай принимать таблетки. Обещаешь?
Дед ничего отвечать не стал, зато сгреб его в объятия и чмокнул в макушку. «Отлынивает», – вдыхая знакомый табачно-дымный аромат его кусачей бороды, подумал Левон, но выдавать деда родителям все-таки не стал – пожалел. Не хватало только, чтобы наравне с денно и нощно пилящей женой, сын со снохой тоже его пилили!
– Где этот Астцу зулумат?! – взывает меж тем к совести предков бабушка Софа, цепляя убежавшие петли распоротых гулпа булавками. Позже она аккуратно поднимет их с помощью изогнутого коротконосого крючка до края вязки, соберет на спицы и примется довязывать.
Объяснение проступку Левона очень простое: у бабушки память до того прохудилась, что она постоянно забывает очередность кругов деревянной пирамидки Гево. Недавно связала для него свитер и, снова перепутав цвета, сделала горловину синей. Так Гево отказался надевать обновку, пока она не перевязала ее.
– Кто бы мне объяснил, что ему за разница, какого цвета горловина? – бухтела возмущенно бабушка, обращаясь в третьем лице к Гево. Тот, поглощенный сборкой пирамиды, рассеянно улыбнулся уголком губ. На тарелке с золотистой каемкой лежал полукруг недоеденного слоеного пирожного – вытекший из середки сливовый джем распустился по дну крохотными лепестками трилистника. Левон хотел смахнуть прилипшие к подбородку брата крупицы сахарной помадки и даже руку протянул, но сразу же отдернул – больше всего на свете Гево не выносил прикосновений, а еще – когда его отвлекали от любимого занятия – собирания деревянной пирамидки.
С гулпа вышла та же история – бабушка снова все перепутала и вместо зеленого сделала верх красным. Ну, Левону и пришлось распускать неправильные полосы. Надо было, конечно, не своевольничать, а предупредить бабушку, но рука сама потянулась выдернуть четыре коротенькие спицы и отмотать шерстяную нить. Левон проделал это, завороженно наблюдая, как исчезает ряд за рядом мелкий бисер петель.