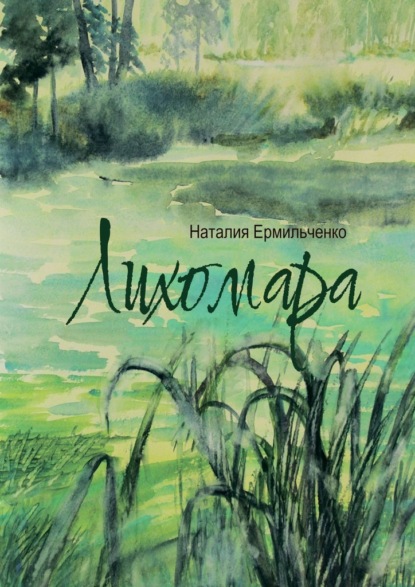По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лихомара
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И как быть с душистым горошком? Он цвел торопливо – как чувствовал! Но так пышно, что за неделю отцвести никак не успевал. А ведь уже появился стручочек с семенами, и на будущий год горошек бы, глядишь, разросся… А тут… «Нет бабушка бы этого не перенесла!» – подумала лихомара.
Ведь не выкопать его и не забрать с собой на чужбину! Надо было и это растеньице отдать Маше. «Цветников тебе захотелось! – упрекала себя лихомара. – Какие у лихомар цветники! Сказать ей, чтобы забрала, пока не поздно? Но ведь это надо опять на дачи… О-о-о… Хорошо, что бабушка всего этого не видит!»
Утром заявилась подруга из деревни Зайцево.
– Бреховская! Чтой-то тебя давно не видно!
Разговаривать ни с кем не хотелось.
– Меня выселяют, – промямлила лихомара.
Хотелось повертеть что-нибудь в пальцах, – травинку, платочек, – но принимать вид графини при подруге было неудобно.
– Здесь построят новые дачи, и мое болотце решено засыпать.
Подруга на этот раз не сказала: «Вот ненормальная!» Она воскликнула:
– Вот горемыка! Да чтоб они пересохли со своими дачами! У тебя и так-то не хоромы… Ну, давай, перебирайся в Зайцево. Сосед ко мне в пруд свой диван спихнул, так я его не стану знобить, чтоб вытаскивал обратно. Будет, на чем тебе в графиню играть.
Лихомара не прослезилась только потому, что кругом и так была вода. Пробулькала:
– Что ты, что ты! Тебе самой тесно. Я поищу что-нибудь, время есть…
– Хватит булькать! – велела подруга. – Айда в Ямищево. Там три пруда; может, туда тебя пристроим.
Ямищевская приятельница утверждала, что графья у них там не жили, только обычные помещики. Но все-таки графского в Ямищеве было больше, чем в окрестностях Брехова. Тамошние огромные пруды на краю деревни бывшими никто бы не назвал, воды в них хватало. Два полностью заросли ряской, и в них хозяйничала местная лихомара, а третий зарос только частично, в основном водяными лилиями. В нем деревенские купались.
Из двух заросших прудов ямищевская лихомара предпочитала тот, что ближе к деревне: говорила, что обожает старину. Рядом с ее жильем стояла часовенка – по виду явно из графских времен. Кирпичи облупились, главки пропали, то, то было нарисовано над входом, почти стерлось, на кованой черной двери вечно висел замок. Между створками осталась щель, но лихомара в нее не заглядывала, а Ямищевская заглядывала и даже пролезала и вроде бы ничего, кроме хлама, не обнаружила.
У Ямищевской и дома была старина: дубовый резной буфет. Части его так удачно легли на дно, что оказались недалеко друг от друга. В одной из них хранился белый заварной чайничек. Лихомара наглядеться на него не могла. «Какое счастье, – думала она, – что он, падая в воду, угодил именно в буфет! Вон, самовар не угодил, и его уже почти не видно в иле». Но это Ямищевская сейчас говорила, что обожает старину. Когда все эти вещи появились у нее в пруду, она даже слов таких не знала, – «буфет», «самовар» и «чайник», – это лихомара ей сказала. «Ты-то откуда набралась?» – спрашивала Ямищевская. «Да как же их не знать?» – удивлялась лихомара.
Хоть лихомара и слыла ненормальной, а все же, как собирались они втроем, так и становилось видно, кто тут самый ладный. У нее-то фигура – как дымок от костра, – в тихую, конечно, погоду, когда он стройно поднимается кверху. А зайцевская подруга – пухленькая, вроде облачка. А ямищевская приятельница вроде и не пухлая, зато какая-то лохматая, – совсем за собой не следит… Все равно, лихомара ее побаивалась: вечно уставится, да так внимательно, чуть искоса, будто ворона на стеклышко. Словно догадывается, что лихомара ни знобить не умеет, ни туману напускать.
«Перееду, так она, уж точно, поймет», – думала лихомара по дороге в Ямищево.
А Ямищевская все выслушала (говорила, в основном, Зайцевская) и сказала добродушно:
– Да хоть завтра! Мне этот средний пруд и ни к чему. Раньше-то я бы тебя, Бреховская близко не подпустила, уж больно ты была вредная. Зато теперь ты прямо ангел, а не лихомара. Откуда что взялось? Мы ведь не зря с тобой одно время знакомство поддерживать перестали…
Лихомара опешила:
– То есть как – перестали? Я же помню: Зайцевская примчалась, мол, пожар у нас, того гляди, деревенские весь пруд ведрами вычерпают. «Можно, – говорит, – я у тебя пережду?» Так и познакомились. А потом она меня к тебе привела…
– Вот ненормальная! – воскликнула зайцевская подруга. – Да мы уже были знакомы. Я к тебе как к знакомой-то и примчалась тогда, Ямищевская от меня дальше.
– Да нет же, не были!
Ямищевская переглянулась с Зайцевской.
– Я ж говорила: что-то с ней тогда случилось. Помнишь? Ну, говорила же. Напрягись!
Зайцевская напряглась и из просто пухленькой стала кругленькой. Наконец, сказала:
– То-то она графиню начала изображать!
А Ямищевская из просто лохматой стала косматой:
– Бреховская, может, это после того, как у вас графский дом спалили?
– Может, – вздохнула лихомара.
– Вот! Наверно, подействовало.
Что с ними спорить! Как сгорел графский дом, она не помнила. Помнила, что до появления Зайцевской жила у себя в болоте затворницей. Это Зайцевская ее вывела в свет…
Подруга сказала:
– Да ладно! Это все уже в прошлом. Мы пруд-то смотреть будем?
Что касается Мони, то никакого желания смотреть на ямищевские пруды у нее не было. Ни при каких обстоятельствах. А уж тем более в это воскресенье.
В два часа ночи Горошина проснулась с воплем: «Мама!! Почему рыбки уснули в пруду?!» Все вскочили и помчались ее успокаивать. Она-то успокоилась, а мама, папа и Моня поняли, что теперь без чая не уснут.
Папа нервно ел бутерброды и приговаривал:
– Ну, что, хорошая моя, теперь ты понимаешь, как вредно включать детям колыбельные? В следующий раз она тебя спросит, почему птички уснули в саду.
Только чай подействовал, и Моня начала задремывать, как на иве заорали коты. Она испугалась, что это Мурик поругался с Ах-Ты, кинулась к окну, но в темноте, да еще со второго этажа ничего, разумеется, не разглядела. А под утро ей приснилось, будто к ним заявляется в гости Буланкина. Хватает чайник и всем наливает в чашки тумана. И переливает через край, и этот туман сперва разливается по столу, а потом заливает всю кухню до потолка, так что уже ничего не видно, и Буланкину тоже. Короче, в шесть уже можно было вставать, просто Моня боялась разбудить остальных.
Поэтому когда родители собрались в Ямищево купаться, она сказала:
– Ой, да ну!..
– Монь, ты чего? – удивился папа. – Может, сегодня последнее жаркое воскресенье в этом году!
Мама тоже удивилась:
– Машуня, тебе разве не хочется искупаться?
– Хочется, но не в Ямищеве.
– А где?
– Речка и то лучше.
– А пиявки?
– Уж лучше пиявки, чем тащиться сто лет по жаре. Сначала туда, потом обратно. Да еще идти по деревне!