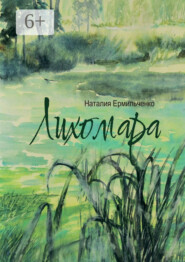По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ахейя. Сказка, рассказанная в лифте
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Из шахты сильнее повеяло машинным маслом, Федор Коныч выпрямился, и вовремя. Створки приоткрылись, и в кабину вплыла новая порция «дыма». На Федора Коныча уставилась еще одна пара глаз, только эти блестели мягче – как латунь, а не как нержавейка.
– Напарник мой, Шуроня, – представил Вахрамей.
– Доброго здоровья, – вздохнул Федор Коныч.
– Доброго, – согласился Шуроня. – Ну что, сидите?
Федор Коныч понял, что с удовольствием бы сейчас присел на что-нибудь, и загрустил.
– Надо диспетчеру звонить, – сказал Вахрамей. – Пускай мастеров присылает.
– А я уже вызвал, – сообщил Шуроня.
– Приедут? – оживился Федор Коныч. – Скоро?
– Ну, подождать-то придется…
– Мне нельзя, – сказал Федор Коныч. – Мойва потечет…
– Что?
– Я рыбу коту купил, – объяснил Федор Коныч, – Мурику. У него еда кончилась.
И Федор Коныч представил себе, как жена Лёлечка говорит: «Мурик! Ты моя ласточка! Федь, он рыбки хочет. Ты ему принес рыбку? Это что такое? Мойва? А почему не пикша? Да не будет он твою мойву, он пикшу ест, я тебе сколько раз говорила! Старый колпак! Денег для кота пожалел. Чем вот его теперь кормить?» Почему же это – «старый колпак»? Разве по-другому нельзя? Все на нервах, понимаете, все на нервах… Теперь вот еще и в лифте застрял.
Федору Конычу и прежде случалось застревать в лифте, но не в темном. В темном страшнее. При свете он себя не чувствовал таким беспомощным. Можно было побеседовать с диспетчером, потыкать кнопки; иногда это помогало. Если нет – можно было постучать погромче по стенке кабины, и в конце концов кто-нибудь из жильцов откликался. А сейчас он в лифте вроде не один, но что это за существа? Явно не люди. Больше всего ему хотелось оказаться дома, и не с этой мойвой, а раньше, еще до того, как Лёлечка послала его за рыбой.
– Он и сам бы поехал, только ему время надо, чтобы успокоиться, – ворчал между тем Вахрамей. – Так-то он исправен, просто старенький стал, из-за всякой ерунды дергается.
– А как его успокоить? – заинтересовался Федор Коныч.
– На него сказки хорошо действуют, – ответил Шуроня.
Ответ озадачил Федора Коныча. Сказки – это же для детишек, понимаете ли, причем тут лифт? А! Старенький стал – впадает в детство, как говорится? Найдя неожиданное объяснение, Федор Коныч сам себе удивился, а вслух сказал:
– Так может, и сейчас, я извиняюсь… если это ускорит…
– Рассказать, что ли, попробовать?.. – обратился Шуроня к напарнику.
Вахрамей встряхнулся, отчего стал напоминать пружину, широкую по краям и чуть зауженную в «талии».
– По сказкам ты специалист.
– Тогда не перебивай…
Шуроня поморгал, поплескал «дымом» и разместился напротив Федора Коныча, на стене, у панели с кнопками.
– Жил в одном городе… – начал Вахрамей.
– Я тебе что сказал! – возмутился Шуроня. – Не лезь!
Жил в одном городе хороший человек Ленюшка Мамохин. У него была поливальная машина Серафима. Машина видная, исправная, да характер непростой.
Мэр его, бывало, к себе вызывал и говорил:
– Ну что, Мамохин, опять вы с Серафимой характер свой выказывали?
– Паша, – отвечал ему на это Ленюшка Мамохин, – мы ВСЕ полили, что надо, даже памятник адмиралу Нельсону освежили. И в дождь выезжали, как ты просил. Ну, что ты от нас хочешь?
– Да верю я тебе, Ленюшка, – вздыхал мэр, – верю, что ВСЕ, но ВСЕХ-то зачем? Это вроде в твои обязанности не входит.
– Кого ж это «всех», Паша? – спрашивал Ленюшка Мамохин.
Мэр тогда вынимал из стола «Книгу жалоб».
– А вот, – говорил он. – Том пятый вчера начал. Весь город тут. Никто не забыт. Еще группа туристов иностранных и два бизнесмена со станции Дно. А хочешь, сам посмотри: может, кого и не хватает.
На это Ленюшка Мамохин качал головой.
– Маршрут у меня такой, Паша, по трамвайным путям проходит. А Серафима общительная, никак ей мимо остановок спокойно не проехать – обязательно народ водой окатит. Но она по-другому-то общаться не умеет.
– Интересное дело, – настаивал мэр. – Ты, Ленюшка, человек хороший, это в городе все знают, и я знаю. А машина твоя, Серафима, ну прямо выдра!
А Ленюшка ему:
– У каждой машины, Паша, свой характер.
– Знаю, сам вожу, – соглашался мэр. – Только спрашивают не с машины, а с водителя.
– Вот я тебе и отвечаю: со старой машиной такого не было, а Серафиму не я объезжал; ты ее приобрел подержанную, сэкономить решил.
– Йох-мох! – говорил на это мэр. – Значит, перевоспитай! К тебе даже по радио взывали. Может, еще воззвать?
– А что? – отвечал ему Ленюшка. – Мне понравилось. Ветеран труда, заслуженный кондуктор Полина Федотовна, которую с детства знаю, мне по радио говорит: «Ленюшка! Ты ведь человек хороший, все поймешь правильно!» И на следующее утро ко мне уже весь город ласково обращается. Не вижу ничего плохого.
– Может, хоть имя ей поменять? – уговаривал мэр. – Пишут же, что это на характер влияет. А то и вовсе без имени оставить. Зачем оно сдалось поливальной машине?
– Меняй – не меняй, а зовут ее Серафимой. Сто процентов. К тому же, она не поливальная, а поливомоечная.
– Какая разница?
– Большая. У Серафимы щетки есть; мы с ней не просто поливаем, а чистим.
– В общем, люди жалуются, и я тебя, Мамохин, штрафовать начну,
– Делай, Паша, как знаешь, – пожимал плечами Ленюшка и смотрел в раскрытое мэрово окно.
Под окном на площади, у позеленевшего памятника адмиралу Нельсону стояла поливальная машина Серафима с самым что ни на есть невоспитанным видом.