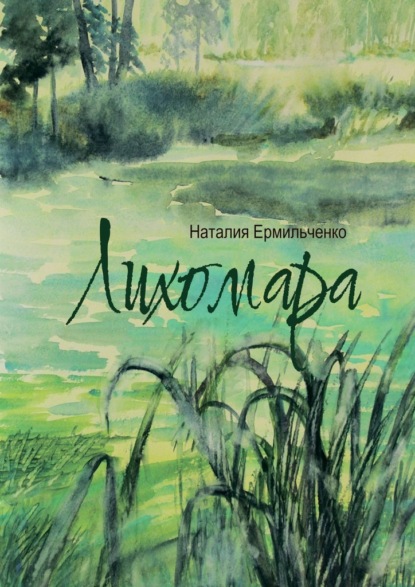По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лихомара
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот это туманище! – сказала она, запахивая поглубже вязаную кофту. – Я к вам иду спасаться. Деточка, а где твой душистый горошек?
Кофта была кирпичного цвета. «Хоть вблизи еще что-то видно!» – подумала Моня и спрыгнула с крыльца в туман.
– Бабуля говорит, что нам в этом году достался крупноцветный сорт. У него самые крупные цветы размером примерно с бабочку-адмирала, а те, что помельче, не меньше капустницы!
В сумерках и тумане горошек смотрелся не так нарядно, как на солнце, но зато его было много.
– Волшебно! – воскликнула Алевтина Семеновна, поднимая глаза к крыше сарая. – Как же ты все это донесла?
– Как обычный букет, – объяснила Моня. – Это он всего за несколько дней так вырос.
– Волшебно! – повторила Алевтина Семеновна. – Он совсем такого цвета, как мои розы сорта «Барбара Остин», или вроде того. Надо, чтоб ты на них посмотрела!
– Маша, ты где? – крикнула Бабуля с крыльца.
– Идем, идем! – застрекотала Алевтина Семеновна. – Это я ее задержала. Я к вам пришла проситься на ночлег. На веранде спать невозможно.
Она взяла Моню за локоть.
– Скорее, скорее в дом! А то сейчас мы с тобой отсыреем!
Моня вполголоса спросила:
– А вы не знаете, кроме детей и кошек, лихомар еще кто-нибудь может видеть?
– Думаю, что нет, деточка. Только другие лихомары.
Отсутствие тумана лихомара обнаружила случайно, в тот же вечер, в какой Моня отметила его присутствие. Высунулась на минутку из болота – посмотреть, как там душистый горошек, – а небо ясное! А воздух прозрачный! А за дачные домики, что на том берегу бывшего пруда, садится солнце! Как давно она не видела заката – с начала мая. Все из-за этого вечного вечернего тумана. «Неужели уехала? Как хорошо!» – обрадовалась лихомара, имея в виду Буланкину.
Сразу стало спокойнее. Хоть лихомара и уговаривала себя, что привыкла к этим летним туманам, а все же побаивалась их. Она выбралась из воды, полюбовалась горошком. «Красавец! – подумала с гордостью. – Горошище! А ведь совсем еще недавно маленьким был горошулечкой». Была бы у него опора, он бы еще лучше смотрелся, да где ж ее взять. Без опоры ему приходилось цепляться усиками за что попало, – за мятлик, за траву тимофеевку, за розовый клевер, – и расти вдоль берега, не в высоту, а в длину. Зато уж рос он не по дням, а по часам. Особенно стручок. Лихомара смотрела на этот могучий стручок и гадала, какие же в нем горошины: с орех-лещину, или все-таки с каштанчик? Если с каштанчик, то унести их с собой в Ямищево она бы не смогла: каштаны – уж точно не то, что ветер носит.
Налюбовавшись, Лихомара подумала, не махнуть ли теперь к Зайцевской в гости. Но не махнула. Все-таки не всегда удается сразу поверить в удачу. Мало ли, вдруг туман начнется позже. Лучше для начала просто погулять в леске, а уж завтра, если тоже будет ясно… Она обвела взглядом лесок, справа налево. Какое счастье: вечер, а все видно! И задворки Брехова с коровой, и за осинками дачный забор с воротами, и, чуть левее, несколько дубов. И совсем уже слева еще один забор, покороче, где ближняя к болоту калитка принадлежала, оказывается, коменданту.
«Зачем дачникам комендант? – удивилась про себя лихомара. – Разве у них там военная крепость?» Моня, например, не смогла бы ответить ей на этот вопрос. Она сказала бы только, что комендант – это важный, не очень симпатичный дядька по фамилии не то Можайцев, не то Казанцев или даже Смоленцев, который иногда появляется у них на перекрестке. И раз это не просто дядька, а комендант, с ним надо обязательно здороваться, хоть они и не знакомы. А что комендантом называют еще начальника военной крепости, который следит там за порядком, Моня не знала. Зато это знала лихомара, но не могла сказать, откуда.
Комендантский забор не просто доходил до болота, но и переходил его. Болото он переходил в виде металлической сетки, а на другом берегу становился снова деревянным и глухим и тянулся вдоль воды, отгораживая от всех, кроме коменданта, половину болота. И еще он портил вид. Лихомара хорошо помнила, как его строили, и как Зайцевская возмущалась: «Да они у тебя полдома оттяпали и глазом не моргнули! Тряси и зноби!» Но она не стала тогда никого трясти и знобить, потому что не умела и потому что все равно уже оттяпали. Перестала заглядывать в ту часть болота, да и все. «А надо бы заглянуть, – подумала лихомара. – Попрощаться. Переезжать скоро, а там и вовсе засыплют мою канаву…»
Лихомара поднырнула под металлическую сетку. Грустно возвращаться в дом, который был когда-то твоим, а теперь живет своей жизнью. Там стало темнее из-за этого забора, как будто даже прохладнее, прибавилось комариных личинок, а так, в общем, мало что изменилось. «Ну, и ладно! – сказала себе лихомара. – Ну, и не жалко!». И, поскольку снова подныривать под эту противную сетку не хотелось, решила: «Посмотрю-ка, что теперь наверху».
Как это она раньше не знала, что лихомар видят только дети и кошки! Гуляла бы, где хотела. Спасибо Зайцевской, надоумила. «Конечно, неприлично заявляться без приглашения, – подумала она, – но я ведь ничего не украду и никого не напугаю. Пройдусь немного по дорожкам, как будто тоже дачница, а потом через забор – и в лесок, гулять!»
Лихомара полетала над комендантским болотом: вода в нем была аж черной. Мало того, что сумерки, так еще с одной стороны загораживал остатки света глухой забор, а с другой их заслоняли пышные кусты черноплодной рябины. Зато из темной воды получается самое лучшее, самое четкое зеркало – там, где нет ряски, разумеется. Лихомара посмотрелась в воду, подумала немного насчет шляпки, поняла, что обойдется без нее, и взлетела повыше. Жаль было растрепать рюши на блузке и красивые складки на юбке, протискиваясь сквозь кусты черноплодной рябины. Да и настроение было приподнятое – прямо летать и летать.
У себя на участке комендант точно был комендантом, то есть следил за порядком. Дом его, сложенный из красного кирпича, в сравнении с Мониным дощатым домиком выглядел крепостью. Ни одна травинка не посмела прорасти между плитками, которым выложил комендант дорожки. А яблони с намазанными побелкой стволами стояли слева и справа ровно, как на параде. Между яблонями протянулись широкие, ровные-преровные грядки, накрытые прозрачной пленкой. Что там росло, под пленкой, лихомара не разглядела, потому как заметила по ту сторону грядок крупного, не очень-то симпатичного дядьку. Это и был комендант. Он сидел на лавочке у кирпичной стены, смотрел на грядки и как будто принимал садово-огородный парад.
У самого коменданта вид, однако, был не парадный: тренировочные штаны, да расстегнутая рубашка, да матерчатая кепка на голове – белая, но это смотря относительно чего. Надо сказать, что в таком виде он появлялся и на перекрестке, поэтому Моня бы, например, не удивилась. А лихомара, глядя на него поверх куста черноплодной рябины, прошептала: «Фи! Уж рубашку-то мог бы и застегнуть! И о чем он только думает!»
А комендант ни о чем особенно и не думал.
Жил он не один-одинешенек, как Буланкина. Просто семейство его уехало на пару дней в Москву, вон он и сидел на лавочке один, довольный наведенным порядком. О том, что на месте засыпанного болота можно бы посадить еще две-три яблони, он уже подумал, и не раз. О дроздах и черноплодной рябине тоже.
Год был не яблочным, зато черноплодно-рябиновым, и комендант готовился собирать урожай. Урожаю радовался не он один. Дрозды-рябинники тоже ему радовались, чуть не каждый день. Так радовались, что даже не хотели подождать, пока черноплодка дозреет. Комендант лично гонял их с кустов. Но так как они не предупреждали заранее о своем появлении, приходилось все время быть начеку. Из-за дроздов ему случалось оставлять на столе недоеденный обед, выскакивать из дома с зубной пастой во рту и отбегать от телевизора, не дослушав прогноз погоды. И как раз в тот день, когда лихомара отправилась прощаться со второй половиной болота, только утром, комендант решил, что неудобствам пора положить конец.
Он взял две палки, одну длинную, другую покороче и, связал их крест-накрест. Длинную воткнул одним концом в землю рядом с кустами черноплодной рябины, а на короткую накинул свой старый пиджак цвета чайной заварки. «Правильно я сделал, что не дал вам его выбросить! – сказал он своему семейству, пока оно еще не уехало. – Видите, как пригодился!» Семейство смерило взглядами одетое в пиджак огородное пугало у кустов черноплодки и посоветовало: «А ты еще кепку свою на него повесь». Но зря семейство надеялось избавить Коменданта от его относительно белой кепки: у него была запасная, точно такая же. В запасной относительно белой кепке и пиджаке пугало как бы замещало коменданта, и дрозды, увидев это, должны были немедленно развернуться и улететь восвояси.
Так что, сидя на лавочке, комендант мог ни о чем не думать – разве что немного о комарах, которым, в отличие от лихомары, очень нравилось, что рубашка у него не застегнута, а сандалии обуты на босу ногу.
Он поглядывал и на яблони, и на грядки, но больше всего на пугало. Потому что именно поглядывая на пугало, которое сам придумал, сам смастерил, сам нарядил, комендант чувствовал себя молодцом. Неожиданно что-то светлое промелькнуло над кустами черноплодки, и рядом с пугалом встала стройная дамочка, опустившаяся сверху.
Комендант Можайцев (если только не Казанцев и не Смоленцев) до того чувствовал себя молодцом, что на остальные чувства места в нем не хватало, и поначалу он совсем не испугался. Он остался сидеть на лавочке и смотреть на пугало – и теперь еще на дамочку, бродившую вдоль кустов.
Дамочкой комендант назвал ее (про себя, разумеется) из-за «пучка» на голове, который одобрил, потому что короткие стрижки у дам не любил. И длинной юбки, которая выглядела больше по-городскому, чем по-дачному, но прилично. А уж чтобы дамой называться, таких дамочек, по его мнению, нужно было три, не меньше. «Две дощечки сложены, и кишочки вложены», – отметил про себя комендант, по-прежнему сидя на лавочке. Вот не очень было понятно, как это она перепрыгнула куст черноплодной рябины. Может, все же не перепрыгнула, а между ветками пролезла? Такую сквозняком под дверью пронесет, не то, что между ветками. Но вечер стоял на редкость тихий. Пока комендант старался уловить хоть какие-то признаки сквозняка, дамочка подошла к пугалу совсем близко и вдруг втянулась в пиджак, а «пучок» свой подставила под относительно белую кепку.
Лихомара все же не сразу решилась перелететь куст черноплодной рябины. Ну, не привыкла она расхаживать у людей на виду! Раз всего и высунулась, и то в виде кошки. И, кстати, Бабушка Домашняя Обыкновенная ее не увидела, только девочки. «Все, хватит трусить! – велела она себе. – Зайцевская, в отличие от тебя, нормальная лихомара. Если она говорит, что нас видят только дети и кошки, значит, так и есть».
Лихомара походила немного по траве у кустов черноплодки. Подумала, что пугал теперь не часто на дачах ставят. И что пиджак этот слишком тяжел, шевелиться на ветру не сможет, и птицы, пожалуй, не обратят на него никого внимания.
Поначалу было неуютно. Но неряшливо одетый тип, что сидел на лавочке, не сказал ни слова. Значит, не увидел. И она почувствовала себя гораздо свободнее. Вот чего ей так не хватало! С людьми боишься, что тебя увидят, с другими лихомарами боишься показаться не такой, как они… «А ведь надо иногда и подурачиться, не так ли? – сказала она себе. – Вот он там сидит, а я сейчас возьму, да и примерю этот нелепый пиджак!»
Пиджак оказался просто громадным, не удалось даже вытянуть руки так, чтобы они высунулись из рукавов. А кепка висела неудобно, закрывала половину лица. И очень не хватало зеркала. Но было забавно, а то все юбка, да блузка. И еще веселило, что вот она вертится тут, а этот тип смотрит прямо на нее и не видит.
Но, как это ни удивительно, комендант ее видел. Видел, хотя совершенно точно не был ни кошкой, ни ребенком, ни другой лихомарой. Возможно, коменданты тоже способны видеть лихомар, просто никто этого специально не проверял. А возможно, дело было в фамилии – Можайцев (ну, или Казанцев, если только не Смоленцев). А может, он просто таким уродился – видящим лихомар, хоть и думал всю жизнь, что никаких лихомар нету, – так, слово одно.
Грядки, накрытые прозрачной пленкой, немного загораживали от коменданта нижнюю часть пугала, и он не заметил, что лихомарина юбка не касалась земли. Поэтому, наблюдая в своем пиджаке постороннюю дамочку, он все еще чувствовал себя молодцом, только очень и очень удивленным.
А вот когда лихомара выпорхнула из пиджака (между прочим, застегнутого на все пуговицы) в проем между лацканами, комендант начисто забыл, что он молодец. В голове зашумело, как будто туда прилетела стая дроздов-рябинников, только вместо птиц в ней образовался вопрос: «Чего это она летает?!» Но тут же и умчался, потому как оказалось, что дамочка больше не летит, а, поправляя прическу, медленно идет по дорожке к дому. Конечно, комендант мог бы крикнуть: «А что это вы тут делаете, дамочка, на моем участке?» Но это если бы она была не летающей; кричать на летающих комендант пока не пробовал. Да и не очень-то хотелось: вроде и прическа у нее приличная, и юбка длинная, а все равно, вид странный. Вся одного цвета, – что юбка, что волосы. И словно из одного материала сделана: вата – не вата, марля – не марля; туман какой-то. «Тьфу, лихомара!» – пробормотал комендант и не стал наводить порядок. Встал с лавочки, ушел в дом и запер дверь изнутри – на всякий случай.
А если бы не ушел, то увидел бы, как лихомара кружилась над садовой дорожкой, потому что настроение у нее было расчудесное. Если ей чего и не хватало в тот момент, так это настоящей юбки, чтоб красиво развевался подол. И настоящей блузки, чтобы рюши не разматывались. Накружившись, она уселась на освободившуюся лавочку, но смотреть на яблони и грядки быстро надоело. «Вот у графа была – дача, – размышляла она. – Парк, цветники, пруды, сирень… И дом, а не домик! Здесь домик хотя бы кирпичный, но… интересно, сколько в нем комнат?»
Комнат у коменданта было три: две на втором этаже, одна на первом. И кухня. Запершись в доме, он пошел в ту, что на первом, и включил телевизор. По телевизору показывали коралловый риф. Голос за кадром звучал ласково, и комендант немного успокоился. Он подумал, что надо хлебнуть чайку да ложиться спать, потому что, как известно, утро вечера мудренее, и уж утром-то никакие туманные дамочки у черноплодки точно летать не будут. Только дрозды.
Комендант пошел на кухню и там включил радио, чтоб окончательно успокоиться. Собрался еще включить электрический чайник, но вместо этого хлопнул себя по лбу: «Вот лихомара! Дверь запер, а про окно забыл!» Окно на кухне было распахнуто по случаю жаркой погоды, – точнее, открыта была половинка окна, хотя хотелось распахнуть его целиком. Но, как бы этого ни хотелось, распахивать его полностью было опасно: комары только того и ждали. Они околачивались за стеклом, заглядывая в кухню, и вились у марли, которой семейство затянуло отрытую половину. Комендант, в свою очередь, взглянул на комаров, а заодно и на скамейку под окном, на грядки под пленкой и пугало за ними. Никого постороннего не увидел. Комары не в счет: они не покидали коменданта до самых заморозков. «Может, не закрывать? – подумал он. – А то духотища».
Осмотр кухни лихомара оставила напоследок. Просто отметила, влетев в окно, что много интересных и непонятных мелочей, а мелочи надо рассматривать не спеша. Остальной дом показался ей тесноватым и ужасно неуютным. Но порядок был, это да. Немного удивил аквариум в гостиной, прозрачный только с одно стороны. Кто-то невидимый объяснял, что за рыбки в нем плавают. Лихомара немного посмотрела и расстроилась. К морю бы! В Коктебель! А она тут из одной лужи переезжает в другую, побольше.
Она вернулась на кухню. Там стоял этот тип в расстегнутой рубашке. Граф бы никогда себе такого не позволил, даже оставшись один. Лихомара скорчила презрительную мину и потом еще покрутила пальцем у виска, – все равно, тип не видит. Думала напоследок сделать ему «козу», но тип отправился открывать вторую половинку окна, и лихомара выскользнула сквозь марлю, потому что разглядывать кухню уже не хотелось. Она даже не заметила, что комендант выпрыгнул в окно почти одновременно с ней (только, конечно, не через марлю). До темноты пробродила среди осинок и дубов, и настроение было так себе.
Комары в тот раз ночевали в доме, а где ночевал комендант, неизвестно. Возможно, в Москве. Моня, например, до самого отъезда вообще не видела его на перекрестке. А следующим летом выяснилось, что дачу свою он продал, и комендант теперь другой.
Кажется, еще ни разу не видела Моня утром такого густого тумана вокруг дачного дома. И не густого-то не видела – а тут густой, будто в воздухе разлили молоко. Опять, что ли, Буланкина прошла?
Алевтина Семеновна поохала, что туман нарушает ее планы, и побрела к себе. К Носкову Бабуля не отпустила. А так хотелось поговорить с кем-нибудь про тетю Машу! Значит, Буланкина врет не всегда, и тетя Маша действительно лихомара? Куда же она, бедняжка, пойдет, если засыплют болото? Может, правда, в Ямищево? Моня и в Зайцеве видела пруд, но мимо него машины ездят. Вроде бы есть еще пруд у станции, по ту сторону железной дороги, но Моня там не была. «А надо бы взглянуть, – подумала она. – Может, тете Маше подойдет». И еще подумала: «Во всяком случае, Горошине из-за нее ничего не будет, потому что лихомары милые. А если правда, что единственная плохая лихомара до сих пор кому-то портит жизнь, то это точно Буланкина!»
Только как это объяснить Бабуле?
Бабуля, у которой тоже планы были нарушены, сидела с Горошиной. Моня могла заниматься, чем хотела, но что летом делать в доме? Было сумеречно, скучно и очень тихо. Разве что иногда в невидимом теперь небе пролетали невидимые самолеты, и им вдогонку летела сквозь туман «песня» Диты.
Почти до самого обеда Моня просидела у себя, а когда спустилась, Горошина спала, а Бабуля была на кухне. «Ага! – подумала Моня. – Попробуем поговорить».