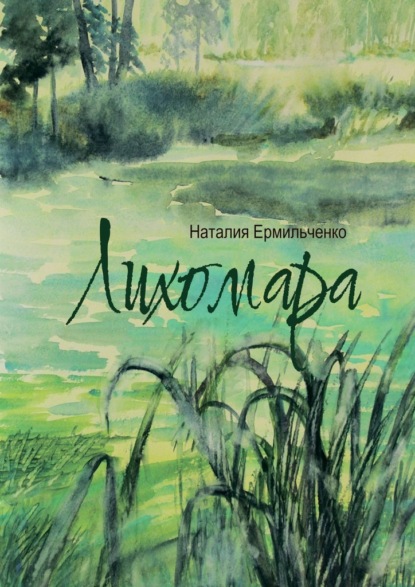По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лихомара
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ужас! – объявила Моня. – Надеюсь, при графе было получше. Моя сестра такие места называет глубжей.
– Да? – снова улыбнулась лихомара. – Как поживает душистый горошек?
– Очень хорошо, – ответила Моня. – Вьется по веревочкам, – папа для него натянул, – и уже довился почти до крыши сарая. Всем нравится, кроме Буланкиной.
– Буланкина не в счет, – заметил Носков, – ей ничего не нравится, один туман.
– После нее гулять уже не выйдешь, – сказала лихомара, так как знала теперь, кто такая Буланкина. – Такой начинается туман, что островов не видно.
– Вы тоже заметили? – обрадовался Носков.
– А вы не были в субботу на собрании? – перебила Моня.
– Н-нет, – растерялась Лихомара.
Но Моня не удивилась, потому что если бы сама жила во втором секторе, то на собрания бы точно не ходила.
– Она хочет засыпать наше болото, представляете? – продолжала она. – А папа говорит, что это историческое болото, еще от графа осталось. И про него, между прочим, легенда есть. Что одну родственницу графа, не то сестру, не то племянницу, лихомара заманила в туман. Это была какая-то злющая лихомара вроде Буланкиной, а вообще, они, говорят, добрые. И, короче, родственница упала в болото и тут же сама стала лихомарой, а настоящая лихомара превратилась в сестру или племянницу и пошла себе к графу, а он ничего не понял.
– Боже мой! – прошептала лихомара.
– А если родственница до сих пор живет в болоте? А его из-за этой Буланкиной засыплют, представляете?
– Боже мой! – повторила лихомара, и рюши на ее блузке затрепетали, хотя ветра не было вообще.
Моня даже не ожидала, что произведет такое впечатление. Захотелось сказать тете Маше что-нибудь хорошее, и она сказала:
– А знаете, у вас очень красивая блузка. Я такую видела только в альбоме Серова, больше нигде. Вы ее тоже там увидели, или сами придумали?
– Что? – всколыхнулась лихомара. – Да просто блузка, обычная. А Серов… это ведь такой… молодой, способный художник, верно?
– Ну, не очень молодой, – возразила Моня. – Мама говорит, он жил сто лет назад. И еще говорит, что тогда не умели делать репродукции с картин. Жалко. Если бы я была Серовым, мне бы понравился такой альбомище, где на каждой странице что-нибудь мое!
– И мне жаль, – пробормотала лихомара. – Я бы с удовольствием посмотрела эти… репродукции.
Чуть только речь зашла о картинах и блузках, Носков заскучал. Все-таки никакой он не Нарский и даже не Апрелевский, если ему наплевать на искусство!
– Маш, тебя уже, наверно, Бабуля ищет, – напомнил он.
Ну, вот, только разговорились…
– Э-э… извините, теть Маш, мне, кажется, придется сейчас пробежаться по кочкам, – сказала Моня. – Пора читать сестре книжку. Приходите в гости, альбом Серова у нас тут. Мы недалеко от ворот, где две елки у калитки.
Прыгать с кочки на кочку Моне показалось проще, чем шагать. Главное, не отвлекаться. И до самого берега они с Носковым прыгали молча, потому что сплошные кочки. А когда перешли по жердочкам на нормальный берег, Моня спросила:
– Правда, тетя Маша классная?
Носков проворчал:
– Ну, по крайней мере, не спросила про мое имя, и то хорошо. Странная она, эта твоя тетя Маша. Кажется, что лицо – а это туман!
Моня остановилась.
– Ты прямо как Буланкина! Она тоже так говорила: «Кажется, что лицо, а это туман»!
– Значит, я прав!
– Носков! – рассердилась Моня. – Лихомар, чтоб ты знал, видят только дети и кошки. А Буланкина кто?
«Что же я не сказала ей про душистый горошек!» – спохватилась в эту самую минуту лихомара.
Она метнулась было за Моней следом, но, вылетев из бухты, остановилась. «Вот ненормальная! – одернула она саму себя. – Тети Маши не летают». А прогулочно-парковым шагом никакая тетя Маша Моню с Носковым уже бы не догнала.
– А что ты себе хозяев каких-нибудь не найдешь? – спросил Мурик. – Они б тебя кормили.
– Ну, ты красавец! Ты думаешь, все так просто! – отозвался Ах-Ты. – Они меня будут кормить, а я буду жить по их правилам? Захотят – выпустят из дома, не захотят – не выпустят?
– Почему это? – удивился Мурик. – Спишь, где нравится. Еду дают, какую любишь, иначе выбрасывать придется. А из дома выходить в плохую погоду и так ни к чему. Летом – сюда. В электричке-то, честно говоря, не очень. Грохот стоит, на нервы действует. Зато всю дорогу они тебя несут, лапами перебирать не надо. Вот только молока с фермы не стало, плохо. Много дачников развелось, на всех не хватает. Так Петя взял и мое молоко какой-то Буланкиной уступил! Валечка его за это ругала-ругала, ругала-ругала… Да-а, Петя у нас от лап отбился…
– Вот скажи: тебя кто-нибудь кисой называл?
– Кисой? Вроде нет… Петя все время: «Мурик, Мурик», а Валечка еще говорит: «Ты моя л-ласточка!» Наверно, думает, что ласточки – это лучше некуда. А чего в них хорошего? Не знаю. Ты их не пробовал?
– А меня вот называли, – сказал Ах-Ты. – Кисой. К ней бы я, может, жить и пошел. Но она лихомара, понимаешь ли! А лихомары вообще ничего не едят. И живет она в болоте, а это не дом. Это вовсе никакой не дом…
– Ой, лихомары эти… Я их стараюсь не замечать. От них сыростью тянет. Чего они так низко летают! Летали бы повыше, как ласточки.
– Тянет, это верно. Она как-то так делает, что у нее появляется человеческая фигура. Лучше дачниц выглядит, между прочим. Но и тогда с ней рядом сыро, будто туман лег. А скажет «киса» – и не уйти!
– Может, тебе к Буланкиной? – предложил Мурик. – Петя говорит, она одна-одинешенька. Хоть молоко не кому попало достанется.
Ах-Ты дернул хвостом.
– Ты ее хоть раз видел? Вот то-то и оно. Она вообще не человек!
Неожиданно коты замолчали, и, к Мониному удивлению, мимо забора прошла Буланкина. Шла она со стороны Носкова, как и всегда, наверно, делала в это время. Только всегда она гуляла в леске, а тут решила пройтись по улице. Странно! Рискуя спугнуть котов, Моня высунулась в окно. Вместо того, чтобы на перекрестке свернуть в лесок, Буланкина обогнула Монин участок и отправилась на соседнюю улицу. «Хм… – подумала Моня. – К Носкову, что ли, сбегать?»
Но ведь и котов хотелось дослушать.
– Вон твоя «одна-одинешенька»! – сказал Ах-Ты. – Потомки Оцараписа с такими не связываются.
– Это она?! – изумился Мурик. – Великий Муррус! Оплошал Петя наш, оплошал… Одного не пойму: молоко-то ей зачем?
Пока он говорил, нижняя ветка, на которой сидели коты, как будто повисла в воздухе. От нижней части ствола осталась только тень среди тумана, который поднимался снизу. Коты его тоже заметили и, не прощаясь, спрыгнули с ивы: Мурик на улицу, Ах-Ты – к Моне на участок. А Моня осталась смотреть. Туман уже не просто поднимался, а прямо-таки валом валил из канавы, быстро заполняя улицу, пролезая между штакетинами, перетекая через забор, подбираясь к чубушнику.
– Машенька, закрой окно, туману в дом напустишь! – крикнула снизу Бабуля.
Моня закрыла окно, спустилась по лестнице, вышла на крыльцо. Туман быстро густел. Вот почти исчез из виду столб на перекрестке. Дом Алевтины Семеновны превратился в мутное темное пятно, а боярышник, который рос у нее вдоль забора, стал едва заметной полосой. Тетя Валя с дядей Петей включили свет, и кроме этого света, довольно тусклого, у них там ничего видно не было. Только елкам у калитки туман оказался нипочем. Из-под них вынырнула вдруг Алевтина Семеновна.