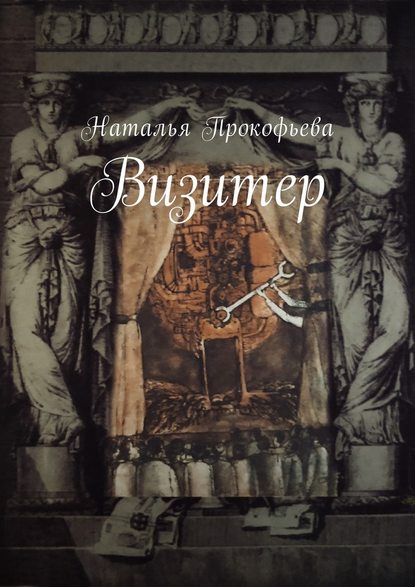По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Визитер
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Подхватив трость и цилиндр, он заспешил к дверям. Я зачем-то пошел следом. Он двигался быстро, и когда я вышел из пропахшего кошками подъезда, его фигура маячила уже где-то вдалеке на пустынной улице, и в тумане вступающего в свои права пасмурного дня мне показалось, что на нем и не сюртук вовсе, а короткий плащ, и из подмышки торчит не трость, а шпага. Непонятный головной убор, который он на ходу нахлобучил на голову, теперь смотрелся мятым беретом.
ххх
Вернувшись, я первым делом сварил еще кофе, налил его в большую кружку и закурил. Обычно я поступал так, когда возникала необходимость сосредоточится и что-то обдумать. Но и сегодняшний утренний визит, и весь разговор представлялись совершенно бредовыми, а потому для обдумывания затруднительными, и я пребывал в полной растерянности. Мысли, роящиеся в голове, казались мало того, что странными, но и просто невероятными, и самой невероятной была – неужели все-таки мой ранний визитер и есть тот самый персонаж? Но тот появляется в произведениях великих, менее великих и вовсе не великих как некий символ, а на самом деле его нет и быть не может, потому что не может быть никогда. Не случайно он так многолик, авторское, так сказать, видение. Его придумывали, как я придумал своего героя, физика-теоретика, влюбленного в юную фотомодель, развитию чьего романа так мешала старая дама. А тут вдруг звонок в дверь, и – нате вам! Ерунда какая-то.
Но если его нет, то кто сидел полчаса назад на угловом диване и пил кофе? Грязная чашка-то осталась на том же месте! Значит, я должен поверить, что он материализовался в спальном районе нашего довольно крупного города, в панельной пятиэтажке в десять утра? С какого такого испуга? Ему следовало бы в полночь выйти из-за полок со старинными книгами, на страницах которых хранились тайны изготовления редчайших ядов, и отразиться в помутневших от времени зеркалах, мешаясь с фамильными портретами владельцев замка. Я еще понимаю, если бы он возник в просторном холле загородного коттеджа на шести сотках, украшенного высокими башнями, где лунный свет, проникая через стрельчатые окна, ложится на драгоценный афганский ковер ручной работы, привезенный хозяином из последней турпоездки… Все более подходящий антураж!
А моя скромная персона зачем ему понадобилась? Есть и попримечательнее фигуры! И все он, видите ли, про меня знает! И одинок я, и несчастен, и болен. Правда, удача последнее время меня действительно не преследовала. Да и болезнь в наличии имелась – проклятущая язва двенадцатиперстной кишки, которую, когда особенно доставала, я подозревал в чем-то еще худшем. Кстати, что он имел в виду под совместным владением? Разве можно владеть совместно тем, на что он намекал? Да и покупка должна переходить новому владельцу когда-то потом, понятно, когда, а если сейчас, то какой дурак на это согласится, так ведь и вознаграждением воспользоваться не успеешь!
Нет, это, конечно же, был актер и мой приятель Валентин Журавлев, нос он приклеил, у них в гримерной носов полно, да и парик не проблема, таких лысин в жизни не бывает, диккенсовская какая-то лысина. Но с другой стороны, образ-то он создать может, но вот разговор тонко построить, это вряд ли. Хотя если предположить, что это отрывок из какой-то его новой роли… Эта мысль меня успокоила, и я решил на ней остановиться.
Почувствовав усталость, я перешел в комнату, прилег на диван и понемногу задремал. И приснилось мне что-то совсем уж несусветное. Приснился мне Валька, изображающий маленьких лебедей, и его было несколько. То есть танцевали несколько балерин с лицом Вальки и его телосложением. А он, хоть и не богатырь, но ноги у него волосатые, да и плечи отнюдь не женского покроя. Так что выходило очень даже забавно.
Проснулся я от собственного смеха. Утренний визит ушел куда-то далеко, и не очень понятно, действительно он имел место, или пригрезился перед тем, как я окончательно заснул. Во всяком случае, яркая картинка Валькиных лебединых шалостей его заслонила.
Для работы сегодняшний день был потерян, и я стал думать, чем себя занять. Я понял, что не против немного выпить и хорошо пообедать, а заодно позавтракать и поужинать, но для этого нужна была такая небольшая малость, как деньги, а их-то как раз сейчас у меня не было.
До того, как я открыл в себе литературный талант и решил не зарывать его в землю, я работал в рекламном агентстве, числился старшим редактором и имел дело с авторами, распределяя между ними заказы, если нужно, правил, а иногда и переделывал сценарии, организовывал съемки и являлся той самой последней инстанцией, которая принимает готовую продукцию. Оплачивалось это вполне прилично, известно, что все, кто работает в рекламе, зарабатывают хорошо. Хоть я и не умею экономить, за три года я набрал денег на дешевую однокомнатную клетушку с совмещенным санузлом в панельном доме спального района, обеспечивающую независимость от родителей c их оставшейся от прежних времен четырехкомнатной обкомовской хатой, все удобства и приятности которой не компенсировали постоянных упреков в безалаберном образе жизни.
Пока я работал в агентстве, меня постоянно окружала толпа приятелей – сценаристов и актеров, благодарных за то, что давал им заработать. Из этого следовали бесконечные подарочные бутылки, которые вместе и распивались, приглашения в рестораны и ночные клубы. Тогда я познакомился и с Валентином Журавлевым, который время от времени снимался в наших роликах. Он-то и сбил меня с толку. Как-то я показал ему несколько своих рассказов, я писал просто так, для себя, когда было настроение. Ему понравилось. Про два из них он сказал, что это готовые пьесы, которые надо лишь перевести в диалог, что есть и действие, и характеры сделать по ярче.
Разговор, изменивший мою жизнь, произошел за несколько дней до Нового года. Мы сидели на кухне, и стоявшая между нами бутылка подходила к концу. Наверное, как всякий тайный графоман, в глубине души графоманом себя не считающий, я чувствовал потребность хотя бы в одном читателе. А Валька подходил на эту роль лучше других – он относился к редкому типу людей, которым мучительно сделать больно другому. В любом случае он нашел бы какие-нибудь слова, смягчающие удар, и мне легче было бы перенести разочарование. А я бы уж как-то истолковал их – я относился к себе достаточно нежно и в собственную бездарность всерьез не верил.
Не зная, как начать разговор, я посмотрел на почти пустую бутылку. В холодильнике лежала еще одна, но об этом знал только я. Разливая остатки, я сказал:
– Пожалуй, надо бы продолжить. Погода способствует, да и настроение соответствует. Я сбегаю в магазир?
– А, может, хватит? – приятель с удивлением посмотрел на меня, сморщив короткий нос, отчего очки его слегка приподнялись. Ни он, ни я не отличались неудержимой склонностью к алкоголю. – Да и морозец крепчает, выходить неохота.
– У тебя что, поутру репетиция?
– Да нет.
– Тогда в чем вопрос? Я с удовольствием пробегусь по морозу. А ты пока посмотри кое-что. – Я протянул ему тонкую папку.
– Что это?
– Увидишь!
Купив бутылку и погуляв полчаса вокруг дома, я, окончательно промерзший, не раздеваясь, ввалился на кухню. Валька дочитывал последнюю страницу.
– А знаешь, здорово! – сказал он, поднимая глаза и морща нос. – Тебе надо бросать рекламную фигню и заниматься именно этим. Нет, честное слово! – И он произнес ту самую сакраментальную фразу о том, что два рассказа – почти готовые пьесы. Я понял, что Валька говорит искренне, к тому же поверить очень хотелось. Настроение стало подниматься и достигло праздничного градуса, я вспомнил, что приближается Новый год, заметил причудливые ледяные узоры на окне, искрящиеся в свете уличного фонаря, почувствовал запах елки, которого не было и быть не могло, потому что не было никакого намека на елку, и пожалел, что не сообразил купить мандаринов. Мы выпили по рюмке за будущего писателя, который начинался сегодня вечером на моей кухне.
Мне не хватало именно этого небольшого толчка, чтобы начать новую жизнь. Наверное, внутренне я был к этому готов к такому повороту – я вступал в возраст, в котором некоторые великие уходили из жизни, чтобы войти в школьные учебники. Посещавшая меня порой мысль, что зря растрачиваются лучшие годы, начинала переходила в уверенность. Я был честолюбив, и не хотел покинуть этот мир, не оставив в нем своего следа. Если бы я знал тогда, на какую стезю я ступаю, я бы сто раз подумал. И все равно, скорее всего, ступил.
Однажды утром, находясь в приятном состоянии между сном и явью, когда понимаешь, что сон уже ушел, но можно еще немного поваляться, лениво перескакивая с мысли на мысль, я вдруг придумал начало повести. Даже не придумал, а увидел. А увидел я человека в номере маленькой гостиницы. Он сидел у распахнутого окна, недавно закончился дождь, на вечернем небе, сквозь расплывающиеся, как акварель на плохой бумаге, облака уже просвечивали звезды. Остро пахло свежей листвой и морем, значит, город был приморский, под окном, совсем близко проходили люди, доносились обрывки разговоров и короткий смех, и вспыхивали огоньки сигарет. Чтобы оказаться в этом городке, в этой гостинице, человек летел на самолете, а потом долго трясся в автобусе, оставив в большом городе узел туго переплетенных проблем, который он должен был развязать, и он был уверен, что разрешение могло придти только здесь…
Я быстро встал, и пока умывался и заваривал кофе, действие продолжало развиваться и обрастать подробностями. Решив, что я могу отложить намеченные на утро дела, я сел за компьютер и легко написал пару страниц. Но дальнейшие дела откладывать было невозможно. С трудом оторвавшись от компьютера, я уже понимал, что будет происходить, по крайней мере, на пяти ближайших страницах и знал примерно, чем должна закончится повесть.
Через некоторое время я уволился из агентства, договорившись, что останусь в числе постоянных авторов. Теперь было достаточно времени, чтобы писать. Но вскоре стало понятно, что это много труднее, чем представлялось вначале. Иногда мне казалось, что я поднимаюсь на высоченную гору, продираясь сквозь терновник, рискуя сорваться в пропасть. Зато порой я бежал по счастливой дороге, пригреваемый солнцем и окруженный пением птиц. Но до вершины было еще очень и очень далеко, и часто приходилось возвращаться назад, потому что пока я писал, я узнавал про своих героев многое, о чем вначале и не догадывался, и начало приходилось переделывать.
Теперь ни на что другое у меня почти не оставалось времени. Я стал раздражаться на отвлекающие от работы звонки, с большинством приятелей почти раззнакомился, да и они потеряли ко мне интерес с тех пор, как я перестал быть для них редактором, работодателем и собутыльником. К счастью, великая любовь обходила меня стороной, я не встретил женщины, на которой хотел бы жениться, а временные подружки возникали и исчезали, не отнимая много времени и не оставляя в сердце следа.
С публикациями мне не везло. Я не ждал быстрого успеха, понимая, что так не бывает, но хронические неудачи, продолжавшиеся уже более двух лет, раздражали, временами я ощущал в себе мизантропа, копящего обиды на мир и людей, А обиды начинающий и никому не известный автор собирает корзинами, как опята в сезон. Рассказы, которые я посылал в журналы, оставлялись без внимания, я предполагал, что их просто никто не читал. Редактор издательства, куда я самолично завез повесть, сообщил, что с нераскрученными авторами они стараются дел не иметь, это коммерчески себя не оправдывает, но все-таки рукопись предложил оставить, а через две недели выяснилось, что он ее потерял. Я поторопился предложить, что привезу другой экземпляр. В ответ услышал небрежное: «Завезите при случае, если меня не будет, оставьте у секретаря». Разговор был телефонный, а по телефону такие слова произносятся легко.
По мере накапливания неудач, менялось и отношение окружающих. Люди, которые еще недавно были приветливы, и даже чрезмерно, теперь на ходу бросали: «Как дела?» и торопливо пробегали мимо, словно опасаясь, что я действительно начну рассказывать о своих делах.
В последнее время у меня появилась еще и своеобразная мания – я стал бояться, что умру раньше, чем добьюсь признания, и это сделает мои усилия и жертвы бесполезными. В такие минуты хотелось за неимением камина выбросить все написанное в мусоропровод и вернуться к прежней беззаботной жизни, но отказаться от того счастья и тех мук, которые я испытывал, пробираясь через тернии сюжета и роясь в грудах слов, чтобы найти наиболее адекватные моим мыслям и ощущениям, я уже не мог. По сравнению с этим, участь редактора рекламного агентства казалась жалкой и скучной, как позавчерашний хлеб. К тому же, несмотря на все обиды и сомнения, я был уверен, что рано или поздно моя звезда выведет меня к сияющим вершинам успеха.
На жизнь я зарабатывал тем, что продолжал время от времени сочинять рекламные сценарии. Правда, с новым редактором, пришедшим на мое место, приходилось делиться, отдавая ему половину гонорара. Я не спорил, хотя мне в свое время такое и в голову не приходило, но времена меняются. Тех денег, что я получал за сценарий, хватало на месяц, а то и больше безбедной жизни. К сожалению, заказы не были регулярными – то сразу три привалит, а потом долгое время ни одного. Сейчас как раз было то самое долгое время.
Между тем голод все настойчивее давал о себе знать. В холодильник и заглядывать было бесполезно, последние два яйца я доел вчера вечером. Знал я, правда, одно место, где и накормят, и обогреют, а если повезет, то и рюмку нальют – отчий дом. Но для этого предстояло одеваться, ехать на трамвае, а потом и на автобусе на другой конец города, а проделывать это все было лень. Главное же, эти ужины обычно сопровождались вопросами, отвечать на которые не хотелось, и просто было затруднительно, и намеками на то, что пора, наконец, бросать графоманствовать и приниматься за какое-нибудь серьезное дело. В пример ставились мой одноклассник Володя Бордин, который создал свою компьютерную фирму, или Оля Носова, работающая в престижной турфирме. Я ничего не имел ни против Володи, ни против Оли, но мое писательское самолюбие, и без того исколотое неудачами, страдало, тем более что возразить было нечего. За три года мне удалось напечатать всего два рассказа во второстепенных журналах, в издательстве без движения лежала повесть, в театре, куда я отнес пьесу, никак не удосуживались ее прочитать. Я пытался утешить себя тем, что такова судьба многих великих, чьи автографы после смерти стоят сотни тысячи, но утешение было слабым, потому что после смерти тот бифштекс, которого мне хотелось сегодня, терял всякий смысл, и это наводило на мысль о несовершенстве мирозданья.
Вспомнив утреннего гостя и снова ощутив реальность его визита, я подумал: «А ведь ничего конкретного не предлагал, стервец. Интересно, что он подразумевал, говоря о благосостоянии? Может быть, на благосостояние стоило бы и согласиться, а то вдруг заказов больше не будет? Но о чем я думаю, ведь я уже решил, что не было его, морок это, или сон. Ладно, надо собираться и ехать. Мама попилит-попилит, но накормит, и денег, наверное, даст».
ххх
Но судьба не назначила мне в тот вечер повидать родителей. Я уже переоделся и завязывал шнурки на ботинках, когда позвонила Дашка.
– Привет, – сказала она тонким от волнения голосом. – У меня забойные новости. Я тут недалеко от тебя обретаюсь. Может, выйдешь?
– Постоим у калитки? Не могу, спина опять болит, – сам удивляясь, почему именно спина и почему опять, соврал я. – Может, лучше ты зайдешь? Кстати, купи что-нибудь поесть. И бутылку, водка боль хорошо снимает. Дверь закрывать не буду. Деньги на той неделе отдам, когда за сценарий получу.
– Забей, блин, на деньги. Я мигом.
Быстро переодевшись в домашние джинсы и толстовку, я прилег на диван. Минут через двадцать на пороге появилось довольно хорошенькое белокурое восемнадцатилетнее существо, одетое в высоченные сапоги, крошечную юбчонку и куртку до пояса. Я взял из ее рук пакет и попробовал на вес. Судя по тяжести, ужин нам предстоял приличный.
Снимая куртку, Дашка рассказывала:
– Представляешь, захожу я сегодня к Лидии с почтой, реально, а у нее в кабинете сам Анатолий Петрович гужуется, и толковище идет о твоей пьесе. Типа круто, правда?
«Типа круто» – это выше моего понимания, но начало рассказа предвещало, возможно, любопытное продолжение, и я не стал ее тормозить.
– Короче. Он спрашивает, почему она не дала ему до сих пор прочитать пьесу этого, как его, так и сказал, блин, Александра Травина. А она отвечает: «не думаю, чтобы она Вас заинтересовала», в том смысле, что забейте, мол, не нее. – Дашка сделала театральную паузу.
– Ну и что?
– А он говорит, хочу, мол, посмотреть, и все тут, мне говорили, что из нее что-то можно сделать. Она пожала плечами, достала из стола и отдала.
– И все?
– Ну да. Он упадет на твою пьесу, сто пудов!
Я представил, как известный в нашем городе режиссер, респектабельный Анатолий Петрович Замыслов, раздувшись до необъятных размеров, падает на мою пьесу и развеселился.
То, что рассказала Дашка, еще ничего не значило, прочитать не значит принять, но все-таки что-то сдвинулось с места. Появилась надежда – верный спутник неудачников. И я уже представлял себе, как, приехав в отчий дом, небрежно скажу, как бы между прочим, выбрав удобный момент: «Да, кстати, мою пьесу ставят. Конечно, сам Анатолий Петрович».
В театр меня привел все тот же Валька Журавлев, решивший взять надо мной по мере своих скромных возможностей шефство. Он же познакомил с Главным режиссером Анатолием Петровичем Замысловым, которого за глаза все называли «Сам», зав. литчастью Лидией Сицкой, 30-летней чрезвычайно привлекательной женщиной и с Дашкой, которая работала кем-то вроде секретаря или курьера. «Сам» и Лидия, скорее всего, не очень даже и запомнили, что Валька нас знакомил, тем более что Валька был в театре отнюдь не на первых ролях. Но я решил, что это знакомство дает мне право через несколько дней позвонить в литчасть и предложить пьесу – все-таки не с улицы человек пришел.