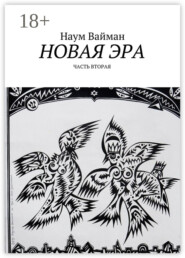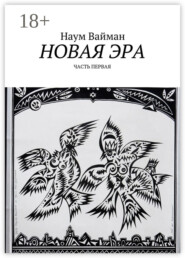По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Похвала любви. Истории и притчи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– По-моему, тебе надо отдохнуть, – сказала Лена, разговор ей не нравился.
Но Петр Наумович гнул своё:
– Мы должны молиться (его «мы» не прошло мимо моих ушей, и я опять подумал, что может он действительно «скрытый»?), молиться! чтобы у них хватило решимости. Евреи должны воевать каждое десятилетие, чтобы хребет выпрямился. Впрочем, у них нет выбора. Есть эпохи, когда уже не люди, а боги вступают в спор…
Обмен книгами на этот раз не произошел, генерал, прочитав мне лекцию о значении Библии для мировой культуры, пообещал достать «нормальную» книгу («эту надо с лупой читать»). Перечить не было смысла: я был теперь заинтересован развивать контакты.
Лена, попрощавшись, ушла к себе. Генерал проводил меня до двери, однако, уже взявшись за ручку, неожиданно продолжил разговор:
– А вот интересно, Наум, у вас есть желание творить историю? Когда мы были молодые, это было для нас самым главным, а нынешняя молодежь… как-то стремится «уйти в частную жизнь». Или я не прав?
– Ну, – говорю, – тогда время было другое, и захочешь – не спрячешься. Да и вообще история нас не спрашивает.
– Ой-ли, ой-ли… Разве история – это не деяния людей?
– Нас учили роль личности в истории не преувеличивать.
– Как вам сказать… известно, например, что иногда одна единственная битва решала исход войны и определяла исторический путь народов: при Пуатье был положен предел арабскому вторжению в Европу, при Грюнвальде – германской экспансии на Восток, битва при Гастингсе решила судьбу Англии, и так далее. А судьба битвы, это я могу сказать и по личному опыту, зачастую решается на каком-то узком, но ключевом участке, где сталкивается ограниченное число людей, и в этой схватке все зависит иногда от одного человека, способного увлечь за собой других или проявить примерное, а то и беспримерное личное мужество. Вот и получается, что один человек может решить судьбу сражения, войны, определить историческую судьбу, и не будучи полководцем или государственным деятелем. Не зря же люди славят героев. Но что интересно: даже те, кто сознательно от ответственности уходят, решают, так сказать, сугубо частные задачи – все равно определяют судьбы других, и безответственность столь же судьбоносна, как и героизм, вот ведь какая штука…
– А существует ли вообще История Человечества?
– Оо, вопрос не мальчика, но мужа! – Петр Наумович хитро прищурился. – Мне почему-то кажется, что вы интересуетесь историей не меньше, чем электроникой?
– Да мне эта электроника вообще до фени, – признался я в сердцах.
– Прекрасно! Конечно, История – это понятие, и понятие определенной культуры. В сущности иудео-христианской, чего греха таить. А Гегель вообще сделал историю Вавилонской башней бытия, которую человечеству предназначено строить. Но есть народы и культуры, не признающие «исторических перспектив»… По мне, так у народов, как и у людей, есть судьба, а значит и…
– А мне кажется, – я наконец-то нашел собеседника, с которым захотелось поделиться сокровенными мыслями, – что история, и даже судьба, это вопрос рассказа, историю создают рассказчики, и рассказывают они, как правило, не то, что было, а то, что, по их мнению, может быть интересно слушателям…
– Это хорошая мысль. Но рассказ и потребность в нем – это и есть культура. Вот Библия как раз – первая в мире историческая книга, книга, где описывается История, история взаимоотношений целого народа, с его Богом, такой роман с Богом…
На дверь осторожно нажали, она медленно открылась и на пороге появилась высокая женщина лет пятидесяти, может, чуть меньше, я тогда плохо разбирался в подобном возрасте, белокурая, со вкусом одетая, короткая стрижка с челкой, а-ля Мирей Матье, мне даже показалось, что «со свиданки».
Произошло несколько суетливое и неловкое знакомство с Верой Петровной, которая мне тоже понравилась, выглядела она в тот вечер довольно моложаво, и, рассказав под занавес анекдот про разницу между англичанами и евреями, что англичане уходят, не попрощавшись, а евреи прощаются, но не уходят (и этот анекдот вызвал бурный восторг Петра Наумовича), я откланялся и всю дорогу домой, довольный собой, до ушей улыбался, весело повторяя, как припев, хлестаковское: а мамаша тоже ничего, аппетитная!
Генерал-майор Петр Наумович Харитонов, до недавнего времени еще преподававший в Академии историю войн, вел замкнутый образ жизни, выбираясь только на книжную толкучку, где время от времени сближался с разными чудиками, в основном – евреями, владельцами нужных ему книг или материалов. Дело в том, что Петр Наумович писал книгу о решающей, да-да, именно решающей роли евреев в победе над гитлеровской Германией. Основной тезис книги доказывался немалой, понадернутой отовсюду и творчески обработанной статистикой. Был здесь и краткий обзор важной роли евреев в технических достижениях Англии и Америки, в политической поддержке вступлению Америки в войну и в непосредственном участии в военных действиях на фронтах (по сведениям, взятым им из какой-то немецкой книги – он владел немецким – на стороне антигитлеровской коалиции воевало полтора миллиона евреев). Но главное внимание было, конечно, уделено Великой Отечественной войне. По его подсчетам, на советско-германском фронте воевало полмиллиона евреев, примерно 12 % еврейского населения СССР, из которых погибло более двухсот тысяч). Процент офицеров и Героев Советского Союза среди евреев был на много больше процента их численности и пропорционально превосходил долю всех других национальностей (при этом он хитроумно опровергал ухищрения официальной статистики), но определяющий вклад был не на фронтах, а в интеллектуальной сфере: составляя перед войной 13 % научных работников, 16 % врачей и 10 % инженеров (при двух с лишним процентах населения), евреи были административной, научно-технической и пропагандистской элитой страны. Он скрупулезно собирал имена директоров заводов, главных инженеров, главных конструкторов, директоров КБ и начальников лабораторий, даже простых инженеров, определявших ситуацию на главных направлениях научно-технических разработок. На этих «главных направлениях» (авиа- и танкостроение, электроника, ядерные исследования) «про?цент» просто зашкаливал, особенно если считать с полукровками, которых он не исключал из «общего вклада». Официальная статистика существовала лишь частично, так что он собирал сведения по крупицам, иногда судьба сводила его (на ловца и зверь бежит) с евреями – энтузиастами этой темы, собравшими, каждый в своей области, необъятный материал (у одного была подробная, по годам, статистика Героев СССР по национальностям, у другого – поименный список всех офицеров-евреев, от лейтенантов до генералов армии, составленный по публикациям советских газет за десятки лет). Он и меня попросил заполнить анкеты на всех известных мне родственников, ближних и дальних: годы жизни, место рождения, социальное происхождение, образование, брак (особо указать, если смешанный, статистика полукровок была его особым коньком), служба в армии, род занятий и т. п., и распространить такие же анкеты среди знакомых. Особо подробно нужно было отметить тех, кому удалось сделать карьеру. Он говорил, что у него сотни таких анкет.
В его погруженности в эту тему было что-то маниакальное, заставлявшее подозревать какую-то тайну. Лена мне рассказала, что в 53-ем он был настолько возмущен антисемитской кампанией, что написал какое-то письмо Сталину, его арестовали, но через несколько месяцев выпустили и восстановили в правах – Сталин вовремя умер.
Однажды я спросил его напрямик:
– А почему вас так интересуют евреи?
– Здрасти. Кто ж ими не интересуется? Про Вечного Жида слыхал (он давно был со мной на ты)? И вечности его секрет разгадке жизни равносилен… Ты как-то говорил об истории как рассказе, так вот, можно сказать, что увлек меня этот рассказ… Мне в детстве бабушка Библию читала на старо-славянском, и я думал: какая красивая сказка… Ну и потом, так получилось, что самые интересные люди, с которыми мне пришлось в жизни столкнуться, были евреями…
– Не знаю, мне пока не очень-то везет в этом смысле. Да и вообще, советские евреи в сущности и не евреи уже, они не несут с собой какого-то особого культурного багажа, наследия, не хранят какой-то особый культурный опыт. Тем более «полукровки», ну что, будем считать процент еврейской крови? Это уже какой-то, извините, расизм.
Настала тишина, как перед артобстрелом, который ждать себя не заставил.
– А ты кем себя считаешь?
– Ну, мне-то выбирать, к сожалению, не приходится… – я засмущался. – Но в смысле культуры…
– Ну да… А вот скажи мне, тебя обрезали?
– При чем тут обрезание?
– А что, по-твоему, культура – это романы? «Анна Каренина»? Культура – это обрезание. Культура – это символы и обряды расы, а история – борьба рас.
– Да? А я думал – борьба идей.
– Идеи – цветы рас, дети мифов. И история не просто рассказ, а миф. История – это мифология. Мифы народов – это смысл их существования и гарант выживания. Поэтому люди сочиняют мифы и воюют за них. Воюют насмерть. Настоящие войны – это войны мифов, и последняя война в этом смысле была иудеогерманской, и никакой другой. А мы живем не просто в Истории, а в христианской истории, то есть наша история – это еврейский миф. Нас заставили поверить в него, мы его пленники. Конец этого мифа – и наш конец. Так что участвовать в истории для нас – это участвовать в еврейской судьбе. А этот магнит всех затянет, и полукровок, и «чужих». Вот и меня намагнитило…
– Осталось только принять иудаизм, – усмехнулся я.
Он неожиданно посерьезнел и даже как-то замер, но потом «отошел». И произнес с печальной задумчивостью:
– Мою судьбу это уже не изменит… Вот если бы книгу удалось дописать. Может быть, в Израиль поехать, взглянуть хоть одним глазком…
Мы сблизились, я стал у них частым гостем, хотя так до конца и не преодолел некоторой настороженности и не всегда врубался в его вдохновенные речи. Меня покоряло ощущение равенства и подлинного интереса к моей персоне, если бы не разница в возрасте, можно было бы считать это дружбой, и я гордился нашим сближением, мне нравилось помогать ему: разбирать книги, выполнять мелкие поручения, иногда – переводить с английского. К тому же я получил доступ к совершенно фантастической библиотеке, в которой были не только магически звучавшие имена Ницше, Иосифа Флавия, Моммзена (когда я похвалялся прочитанным среди книгочеев, на меня падали лучи славы и зависти, как на царедворца, принятого монархом), но и немало литературных раритетов, в том числе прижизненные издания тех, кого лишили жизни или только читателей, кто теперь входил в моду или был известен еще только в «узких кругах». Отношение Петра Наумовича к книгам было благоговейным. Место каждой (в каком шкафу, на какой полке, с какого краю) было аккуратно записано, для чего имелось несколько толстых тетрадей, доставалась книга не спеша, сначала освобождалось место, так, чтобы не тянуть за корешок, потом она перекладывалась с ладони на ладонь, как горячий пирожок, чтобы дать рукам ощутить ее ласковый вес, материю переплета, потом она обнюхивалась: так алкоголик, прежде чем хлобыстнуть, пьянея от предчувствия, наслаждается ароматом многообещающего напитка. Страницы переворачивались бережно: не дай Бог, повредить, особенно пожелтевшие страницы старинных книг, и после каждого поворота его жесткая ладонь нежно, едва касаясь, проводила по буквам… Собственно, тут мы и сошлись, на этой общей любви к письменности.
И все же самым главным моим «интересом» во всей этой системе отношений была близость к Лене. Тогда, на следующий день после нашего неожиданного знакомства, она пришла-таки на соревнования, с каким-то парнем, который, презрительно улыбаясь, демонстративно отворачивался от ринга. Нет нужды говорить, что это был лучший бой в моей жизни. Пусть я его проиграл, противник был явно сильнее, но дрался я вдохновенно! Никифоров лично мне ассистировал: утирал мокрым полотенцем лицо своими дрожащими руками (он страдал Паркинсоном) и что-то кричал, показывая, как, мол, надо с противником разобраться: крюка ему, крюка снизу, он руки высоко держит. Руки-то плечистый и тонконогий враг держал высоко, это я и сам понял, да больно шустро башкой крутил, не попадешь, да и не мог я сосредоточиться на том, что разгневанно кричал мне Никифоров, голова гудела – и от ударов, и от какого-то пьяного вдохновения, сродни поэтическому, будто перед тобой стадион ревущий, и никак нельзя ударить лицом в грязь… После боя Никифоров сказал, что если я продолжу в таком же духе, он меня через полгода запустит в серьезные турниры. Я быстро-быстро ополоснулся в душе, оглядел опухшую губу и ссадину под бровью – синяк будет, махнул рукой (в общем, легко отделался) и выбежал из раздевалки, но ее не было. Я тут же «поплыл», как говорят боксеры, еще не научился держать такие удары, но на следующий день она меня по-королевски вознаградила: подошла к нашей компании, поздоровалась со всеми, сказала мне спасибо, она не думала, что ей будет так интересно, ну, и всякое такое. Если бы вдруг объявили, что я получил Нобелевскую по литературе, мои акции среди приятелей не смогли бы подняться выше. Даже год спустя ко мне еще подходили малознакомые люди и спрашивали: ну что, трахнул Харитонову? Я реагировал с неизменной драчливостью, что для сметливых было неопровержимым доказательством моего успеха.
Потом я пригласил ее на вечер Вознесенского: после ринга уже можно переходить к стихам – сочетание действует безотказно, потом на «Евангелие от Матфея» Пазолини, в Дом актера, закрытый просмотр, уж я расстарался, уж я надыбал билетики! Пазолини и его евангелие я «догнал» только через тридцать лет, а тогда эти черно-белые (а они палевые, палевые!) каменистые пейзажи, по которым я потом буду ползать с винтовочкой (кто бы знал!), и этот пророк ресентимента, который в последнее время дразнит мое воображение, мало меня занимали, я сидел рядом с ней не дыша и думал: если я возьму ее за руку, это будет смелостью или ребячеством?
Увы, на этом совместные выходы в свет прервались – у нее началась финишная прямая перед защитой диплома, но мы виделись, когда я заходил в гости к Петру Наумовичу.
Конечно, я был влюблен, но при этом ощущал какую-то странную атрофию чувственности. В ее присутствии я будто погружался в эфирное облако радости, которая действовала на «нижний этаж», как анестезия. Но когда мы расставались, и я, приходя в себя, начинал анализировать свое поведение, то не мог объяснить его иначе как нерешительностью, страхом, а здесь действительно присутствовал какой-то глубинный страх, я это чувствовал, и бичевал себя, и ненавидел за «слабость», боялся, что и она в глубине души меня презирает, считает мальчишкой… Но когда мы встречались, все отступало, все страхи, сомнения и самобичевания, я погружался в это облако радости, и мне казалось, как сказал поэт, что «нет иного счастья и не надо».
В начале июня Лена вдруг предложила мне поехать на дачу. Надо было что-то приготовить для лета, что-то отвезти, что-то забрать в Москву, не мог бы я помочь, и потом она одна боится.
Я помню этот день до мельчайших подробностей. На вокзале моросил дождь, но потом распогодилось, и пролетающие за окном леса, сады, избы, платформы – все было вымыто, забрызгано солнцем, разлетевшимся на мириады сияющих капель, блестело глянцевой зеленью, куталось в нежно-белый и розоватый дым цветения… На станции, у туго спеленатых в серые платки мумий, купили свежий лук, редиску, помидоры (бутерброды с сыром везли с собой), потом долго шли по расхлябанной, вспаханной шинами дороге, мои новые ботинки («Ты что, в новых ботинках?! Мы ж не на танцы!») облипли грязью, никто не попадался навстречу. Она, подражая деревенским, стянула лицо серебристо-синей косынкой, которая до этого была повязана на шее, как пионерский галстук, и, демонстрируя мне новый наряд, весело улыбнулась, и вдруг ее лицо показалось мне таким милым в своей неожиданной простоте, таким родным и близким, что я тут же, посреди дороги, которая шла по окраине луга, за лугом – лес, посреди весеннего, безлюдного мира, неожиданно для самого себя обнял ее.
Может быть, потому, что это произошло так внезапно (внезапное счастье – самое сладкое) а, главное, так естественно, я с радостным удивлением, в первый и единственный раз в жизни почувствовал, что больше ничего не боюсь и что жизнь не враг мне, которого нужно обмануть, подчинить, победить, я почувствовал какую-то – иного слова не подберешь – гармонию с миром, какую-то странную легкость. Я даже и не знал, что так может быть, мне и сейчас с трудом в это верится. (Но интересно: от этой радости не осталось стихов, вдохновляла меня только печаль.) Я все время смотрелся в зеркало, пытаясь понять, чем же оказался столь привлекателен? Хотелось петь и танцевать, и все эти дни я пел и танцевал, и крутился перед зеркалом, так что даже папа спросил: «Влюбился, что ль? Смотри, шиксу[1 - Уничижительное название женщины-нееврейки (идиш).] не приведи».
Я позвонил на следующий день вечером. Ее не было. Вера Петровна сказала, что она ушла к подруге заниматься. На следующий день ее тоже не было. На этот раз подошел Петр Наумович. Я попросил его передать Лене, что я звонил. «Заходи», – сказал он. Я сказал, что сегодня никак не могу, но на неделе заскочу. Не хотелось как-то в обход лезть ей на глаза. Тем более, что она не позвонила. Я обиделся. Позвонил через два дня, уже озабоченный. Что-то здесь не так. Ну да, у нее защита на носу, но по телефону-то можно поговорить… Трубку поднял Петр Наумович. Я и в тот раз заметил, что голос у него был какой-то… виноватый что ли, а на этот раз он был и не такой приветливый, как обычно, даже неискренний: «Нет ее. Всё с этим… дипломом…»
Я пошел к ним на защиту, увидел ее издалека, в возбужденной толпе дипломников. Как бы проходя мимо, помахал рукой, она заметила меня и приветливо улыбнулась. Крикнул: «Ни пуха ни пера!» «Иди, сам знаешь куда!» – крикнула она в ответ, нервно смеясь. Потом я вернулся, надеясь перехватить её после защиты, но удача от меня отвернулась, крутиться же среди ее однокашников, тем более расспрашивать, намекая тем самым на особые с ней отношения, я не решился. Позвонил вечером, ну просто, по-товарищески, узнать, как прошла защита. Голос Веры Петровны был радостный: «Защитилась, защитилась! Спасибо, что позвонили! Я непременно ей передам». Ну, допустим, день она «обмывала», день отсыпалась. Вечером я попытался напроситься к Петру Наумовичу, сказал, что хочу вернуть ему Дельбрука. Но к моему изумлению Петр Наумович сказал, что он приболел. «А как Лена, – спросил я, – спит еще?» – «Спит? Да она уж два дня как уехала». – «Уехала?!» – я был ошарашен. – «На недельку», – успокоил меня Петр Наумович. «Куда?» – спросил я бесчувственно, почти машинально. «В Таллин, путевка какая-то». До меня, наконец, дошло, что меня не хотят видеть. Не важно, по какой причине. И, цепляясь за крохи мужской гордости, я решил, что всё. Это помогло мне кое-как сдать оставшиеся экзамены и не вылететь из проклятого института.
Я не звонил две недели, за это время прошла война, «наша взяла», и меня тянуло позвонить Петру Наумовичу, поделиться, расспросить, и потом я должен был вернуть ему Дельбрука, но я «держал себя в руках». А когда эти две недели прошли, она вдруг позвонила сама. Как ни в чем не бывало. Спросила: «Ну, сдал сессию?»
– Со скрипом. Лишили стипендии…
– Ничего, на следующей сессии вернешь, ты же способный.
– Да? Не знаю…
– Способный, способный. А срывы – это бывает.