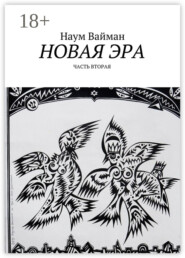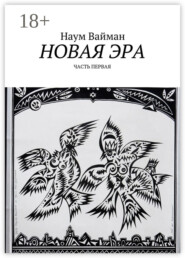По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Похвала любви. Истории и притчи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Похвала любви. Истории и притчи
Наум Исаакович Вайман
Наум Вайман, известный писатель, автор дневниковой эпопеи «Ханаанские хроники», а также глубокий и неожиданный в своих выводах исследователь творчества Мандельштама («Черное солнце Мандельштама», «Преображения Мандельштама» и другие книги), поэт, переводчик, публицист, на этот раз предстает в новой ипостаси – как автор рассказов. По словам очень известного и авторитетного в российской литературе критика Ольги Балла: «Рассказы Наума Ваймана – почти притчи. А иногда, кажется, притчи вполне настоящие… Они – о границах, в которые упирается человек… о тоске по большой настоящей жизни, о ее недостижимости и тайной возможности. Тут, на самом деле, что ни история – то формула. И все – о самом существенном. Не только об уязвимости и беде – хотя тень их, кажется, постоянно следует за героями рассказов… Не переставая быть притчами-формулами, эти истории конкретны до осязаемости, зримы до кинематографичности, каждая – почти сценарий».
Книга содержит нецензурную брань.
Наум Вайман
Похвала любви
Истории и притчи
© Н. И. Вайман, 2021
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021
* * *
Любовь с первого взгляда
– Ты же знаешь, что у меня никогда не было ни собак, ни кошек, я их терпеть не могу, а в эту пятницу я как всегда спустилась утром в свое кафе, выпить кофе с их фирменной булочкой, посмотреть почту и новости, в эту рань еще только открывают, и воздух даже летом еще свежий, и улицы пустые, сын хозяина поливает шлангом тротуар перед витриной, раскрывает зонты, переворачивает стулья, а он как раз собачник, и собаки его любят, всегда крутятся возле него, а в этот раз какая-то новая псина, я в породах не разбираюсь, лохматая такая, и вдруг подошла ко мне и села рядом, смотрит так… И я посмотрела ей в глаза, и знаешь, странная вещь, никогда со мной такого не было, какой-то вдруг «клик», как с человеком, какая-то вдруг неожиданная близость, как будто узнали друг друга. И она еще так голову наклонила… В общем, теперь каждый раз, как я заходила утром в кафе, она уже ждала меня, подходила к столику и садилась, или ложилась рядом. Меня это так тронуло, что я сказала Ади, сыну хозяина, странно, говорю, никогда я собак не любила и даже внимания на них не обращала, а эта так странно смотрит, как в душу заглядывает, и привязалась…
А он говорит: «Да она слепая».
Юдофил
«История не кормит, а убивает», – сказал отец, когда я вознамерился идти в Университет на исторический, и тут же перечислил сгинувших родственников, неосмотрительно вступивших на скользкую «идеологическую» стезю. «Хватит с нас историков», добавил он. А я зачитывался университетскими учебниками и хрестоматиями по древней истории, как романами.
Тяга к первоисточникам завела в лабиринт нелегальной торговли книгами. Здесь велась волнующая охота за объявленными и сразу исчезающими изданиями Светония, Плутарха, Тацита в «литпамятниках» или за раритетами «ACADEMIA» начала тридцатых (однажды мне достался «Макиавелли» 34-го года с предисловием Каменева и стал с тех пор одним из моих любимцев), за дореволюционными изданиями энциклопедий и классиков философии. В этой погоне за книгами было все: страсть открытий, вызов тоталитаризму, жажда приключений, пороки зависти, жадности и азарта, даже мелкая уголовщина, ибо в ход, кроме обычного и малоэффективного накопления средств, шли надувательства, кражи, карточная игра и любовные обольщения, и всё – ради сладчайшего из наслаждений: ты и книга поутру, в перекрученных простынях…
Как-то я наткнулся у Февра, в его «Боях за историю», на обидный абзац: «Я люблю историю. Если бы не любил – не стал бы историком. Разрывая жизнь на две части, одну из них отдавая ремеслу, сбывая, так сказать, эту часть с рук долой, а другую – посвящая удовлетворению своих глубоко личных потребностей, – вот что кажется мне ужасным…». Отец тому же учил: сначала ремесло, а в свободное время – делай что хочешь. Согласный с ним в оценке текущего исторического момента – воспитал-таки потомственный пролетарий антисоветчика и махрового реалиста – я понуро отправился «приобретать специальность» в Электротехнический институт Связи, и получил «внутреннюю раздвоенность» по полной программе.
Униженный компромиссом, я возненавидел этот институт, кишевший жизнерадостными соплеменниками, увлекавшимися турпоходами и дозволенной задушевностью студенческой песни, и детьми военных, слегка фрондирующих на тему «роли армии в государстве» (опала Жукова была не случайной: дряхлеющий отец народов обезглавил победившую армию). Если бы не Вадим и еще два-три маргинала, не чуждых гуманитарных интересов, и поговорить было б не с кем. А поскольку я глубоко презирал «технарей», то и девицы в институте меня отталкивали: в их преданности учебе мне чудилось раболепие.
Но одна достойная внимания особа в институте все же была. Лена Харитонова. Она училась на пятом курсе параллельного факультета и на «филодроме», огромном балконе на втором этаже, где на переменках собирался институтский бомонд покурить, позлословить, всегда была окружена стайкой поклонников, а на выходе из института ее частенько встречали уже совсем взрослые ухажеры, иногда на машинах. Трудно указать на что-то определенное в ее внешности, что объясняло бы причину такой популярности: красоткой она не была, впрочем, дружно утверждалось, что фигура – «классная». Мне она нравилась независимостью, тем, чего у меня отродясь не было, а ей, судя по осанке, походке, по улыбке – просто далось в наследство. Я глаз с неё не сводил.
На втором курсе розовые мечты перейти в Историко-Архивный (я жил ими весь первый курс) потускнели, от тоски я стал сочинять стихи, поселившись на последней парте и заглядываясь в окно, то на дождь, то на снег, то на листопад. Друг Вадим, который тоже «пописывал», беспощадно одобрял мои пробы пера, и, прогуливаясь по бульварам от театра Советской Армии до Рождественского монастыря с выходом в конце концов к Малому, мы читали друг другу стихи, делились сердечными тайнами, философствовали.
Стихи были все больше об осени («Осень медная, надменная, ведьма милая моя…»). Теперь, перечитывая, мне кажется, что их писал какой-то другой человек… «Только змеи сбрасывают кожи, чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи, мы меняем души, не тела». Вадим очень любил Гумилева, переписывал ходившие по рукам машинописные копии и эту «Память» («Память, ты рукою великанши жизнь ведешь, как под уздцы коня, ты расскажешь мне о тех, что раньше в этом теле жили до меня») читал мне сотни раз, потому и запомнилось. Я Гумилеву не поклонялся: демонстративный романтизм отпугивал меня, романтика «в душе», как публичный дом – мечтателя-девственника, но Вадим декламировал его, особенно выпив, с таким вдохновением, порой со слезами, а слезы поэта, черт возьми, заразительны, что и я умилялся. Особенно трогало меня это: «Сердце будет пламенем палимо вплоть до дня, когда взойдут, ясны, стены… стены Иерусалима…» В этом месте мы уже не сдерживали дружных рыданий, только я «тайно», вместо «стены Нового Иерусалима» (здесь я слышал неправильный размер, да и руины Нового Иерусалима, куда я таскался к Тане на электричке, не будили во мне слезы «святой любви») повторял дважды слово «стены», шепча: «стены… стены Иерусалима…». Тем более что в стихотворении речь шла, конечно, о горнем Иерусалиме, а мне хотелось плакать о дольнем. Так что мы рыдали дружно, но каждый о своем.
(А здесь осенью зреют на пальмах финики, и их могучие красные гроздья среди серых, иссушенных бесконечным летом, надломленных под тяжестью урожая ветвей, горят в вышине, в беспросветной лазури…)
Осень – мистерия смерти. Чтоб не забывали о том, что смерть – это всего лишь жатва. Не таков ли и труд историка? Когда тебе житейские бразды, труд бытия вознаграждая, готовятся подать свои плоды и спеет жатва дорогая, и в зернах дум ее сбираешь ты, судеб людских достигнув полноты…
В молодости смерть людей или увядание природы только подчеркивает победоносную силу собственной жизни. И любовные ритуалы особенно сладостно справлять осенью: целуешь румяную от холода деву, а под ногами похрустывают иссохшие жилы «багровых сердец», сброшенные с ветвей где-нибудь в Филях, или в Сокольниках. Осень – ритуал вечного возвращения. «И с каждой осенью я расцветаю вновь…» Природа нас утешает.
Стал ли я с тех пор меланхоликом? Нет, пожалуй. Но я меланхолию возлюбил.
Экклезиаст решил польстить меланхоликам насчет «сердце мудрых – в доме плача, сердце глупых – в доме веселия». Так-то оно так, однако, и у «веселия» своя мудрость. Веселые живут сегодняшним днем, а грустные вечно заглядывают в будущее или оглядываются на прошлое. Но мечтательность не мудрость, скорее, страх перед каждодневной жизнью, которая – как прогулка по брёвнам, сплавляемым по реке: каждый шаг грозит падением в хладную влагу Леты. Веселые любят всех, а грустные – только себя и потустороннее, к которому приводит мечта обрести незыблемое. Даже в женщине эти «узники плоти» ищут какую-то тайну, магию. Продление рода для них оскорбительно, они жаждут продлить себя. В вечность. Усилием творческой воли. «Горче смерти женщина, потому что она – сеть, и сердце ее – силки, руки ее – оковы». Проклятый дуализм. Не иначе как единобожие поломало нам здоровую сексуальную жизнь.
Теперь я думаю, что русские – самый меланхолический народ, и русская словесность, та, старая, ядовито меланхолична. Для них и любовь к истории – лишь дань меланхолии. Нет в ней «пафоса Пути», как говаривал Петр Наумович, нет этой еврейской воли к обновлению. Даже среди евреев-русских поэтов меланхолия не господствует. Мандельштам торжественен. Крутая соль торжественных обид. А Пастернак и вовсе был оптимистом (хлёсткое словечко), «сестра моя, жизнь» – более еврейского названия для книги не выдумаешь… Разве что Исаак Левитан вместе с осенним дымом наглотался тоски тусклых просторов.
Со временем, уже в Израиле, меланхолия у меня прошла. Усохла на этой жаре и потеряла вкус. Только запах остался, внезапный, головокружительный запах разбуженной памяти, гниющих листьев…
Как-то раз в солнечный апрельский день я поехал в Измайлово, где временно, после разгона на Пушкинской и около «Ивана Федорова» (власти, видно, решили взяться за книжный рынок), разместилась толкучка. Я искал Библию – пора было как-то прикрыть зияющую брешь в знакомстве с собственной историей и мировой культурой. Библия стоила минимум пятьдесят рублей, две стипендии, у меня была только двадцатка, но были книги на обмен; в крайнем случае, я был готов расстаться и с «кровными».
Толкучка расположилась по обе стороны протоптанной дорожки, вдоль которой еще чернели затвердевшие сугробы, сотни ног месили весеннюю грязь, поскользнувшись, кто-то иногда падал, вызывая короткое замешательство. Продавцы держали часть книг на газетках, расстеленных на подсохших залысинах земли или на заледеневшем снегу, часть – под мышкой, а особо ценные – в глубоких внутренних карманах старых пальто, на такие мероприятия народ одевался непритязательно. Я ходил вдоль разложенных книг, как сладострастник на рынке невольниц: каждую мне хотелось потрогать, полистать, почитать. При этом я не забывал о цели своего визита. Наконец, один небритый и неряшливый иудей посоветовал мне обратиться к «собирателю иудаики», которого он сегодня видел на рынке, иудей вкратце описал этого «собирателя» и то место, где он его видел. И я действительно нашел там мужичка, соответствующего описанию: небольшого роста, лет шестидесяти пяти, аккуратно одет, без шапки, с коротким седым бобриком. Подмышкой он держал несколько книг, прижав их предплечьем. (Диалоги и другие подробности я восстановил по старому дневнику.)
– Извините, мне сказали, что вы собираете иудаику…
– Вам нужны книги по еврейской истории? У меня есть Грец, Дубнов, Ренан…
Сердце моё встрепенулось, но это всё были вещи по цене неподъемные.
– Собственно я ищу Библию.
– Библия есть только миссионерская (карманный формат с мельчайшим шрифтом, он-то и стоил полтинник), цена стандартная. Не здесь, дома. А на древнееврейском вам не нужно? – Он вскинул на меня иронический взгляд. – Есть роскошная.
– Если вы готовы на обмен, хотя бы частичный… – я пропустил его выпад насчет древнееврейского мимо ушей.
– А что у вас есть на обмен?
Мы все еще выясняли возможности сделки, когда на толкучку, внезапно, как ветер, налетела тревога облавы. Народ бросился по узкой протоптанной дорожке, толкаясь, падая, топча книги, «спекулянты» в панической спешке собирали товар со своих импровизированных прилавков, кидали в рюкзаки, распихивали по карманам, ныряя кто в толпу, кто в лес. Я видел, как книги падали в мокрый снег, беспомощно распахнувшись, нежными страницами в снег, сокровища, тут же затаптываемые в грязь. Мы побежали вместе с «собирателем иудаики» – я все еще рассчитывал на сделку – он бежал бодро, не отставая, почти деловито, чему-то ухмыляясь при этом. Незаметно было, чтобы он испугался.
Только в метро мы смогли перевести дух и познакомиться. «Петр Наумович», – представился он и дал мне свой телефон.
В назначенный день, в семь вечера, с двадцатником в кармане и Тютчевым 1913 года в сумке, я зашел по данному мне адресу, с удивлением отметив массивный сталинский дом с балконами на Проспекте Мира, просторное парадное и чистую лестницу. Каково же было мое изумление, когда дверь мне открыла Лена Харитонова. В небрежно расстегнутой кофточке и брюках. Я подумал, что грежу. Она подняла брови, узнав одного из своих вздыхателей, и улыбка едва тронула ее губы.
– Извините… – промямлил я, – Петр Наумович… здесь живет?
– А-а, вы к дедушке? Его сейчас нет.
– Он просил меня зайти к семи…
– Но еще без четверти.
– Да, действительно… Я боялся опоздать, извините…
– Да вы заходите. Подождите его. Раз он сказал, что будет к семи, значит будет.
Большая гостиная, старая, добротная мебель, два могучих книжных шкафа, к которым меня невольно потянуло.
– Вы не в институте Связи случайно учитесь? – спросила Лена.
Я улыбнулся, обрадованный разоблачению.
– Понятно, – кивнула головой Лена и тоже улыбнулась.
Разговорились. Потом она предложила закурить, но я сказал, что не курю. Она удивилась. Чтобы показать, что я не такой уж пай-мальчик и книжный червь, я сказал, что из-за спорта, боксом занимаюсь. Это признание тут же показалось мне самому хвастливым, и чтобы загладить это впечатление я стал скороговоркой рассказывать про нашего тренера Никифорова, какой он чудный старик, в 25-ом был чемпионом России в полутяжелом, да и сейчас еще, когда руку выбрасывает, лучше рожу не подставлять, а если ей интересно, то завтра в четыре в нашем спортзале будет матч с Энергетическим, первенство Москвы среди вузов, поскромничал (скромные знают, почему они скромны, говаривал Гете), что в сборную попал случайно: заболел наш постоянный, во втором полусреднем. Я как-то позабыл даже, что мне наверняка набьют морду (когда Никифоров предложил мне выступить, я даже думал отказаться – в сборной МЭИ мог попасться чуть ли не мастер спорта, а тогда – выносите мебель). Мое вдохновение прервал хлопок двери в прихожей. Через минуту в комнату вошел Петр Наумович, в распахнутой генеральской шинели, весь в орденах, как новогодняя елка, и немного подшофе. Щелкнув каблуками, он отвесил мне поклон. Я был совершенно поражен и застыл возле книжного шкафа. Лена помогала ему раздеться.
Наум Исаакович Вайман
Наум Вайман, известный писатель, автор дневниковой эпопеи «Ханаанские хроники», а также глубокий и неожиданный в своих выводах исследователь творчества Мандельштама («Черное солнце Мандельштама», «Преображения Мандельштама» и другие книги), поэт, переводчик, публицист, на этот раз предстает в новой ипостаси – как автор рассказов. По словам очень известного и авторитетного в российской литературе критика Ольги Балла: «Рассказы Наума Ваймана – почти притчи. А иногда, кажется, притчи вполне настоящие… Они – о границах, в которые упирается человек… о тоске по большой настоящей жизни, о ее недостижимости и тайной возможности. Тут, на самом деле, что ни история – то формула. И все – о самом существенном. Не только об уязвимости и беде – хотя тень их, кажется, постоянно следует за героями рассказов… Не переставая быть притчами-формулами, эти истории конкретны до осязаемости, зримы до кинематографичности, каждая – почти сценарий».
Книга содержит нецензурную брань.
Наум Вайман
Похвала любви
Истории и притчи
© Н. И. Вайман, 2021
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021
* * *
Любовь с первого взгляда
– Ты же знаешь, что у меня никогда не было ни собак, ни кошек, я их терпеть не могу, а в эту пятницу я как всегда спустилась утром в свое кафе, выпить кофе с их фирменной булочкой, посмотреть почту и новости, в эту рань еще только открывают, и воздух даже летом еще свежий, и улицы пустые, сын хозяина поливает шлангом тротуар перед витриной, раскрывает зонты, переворачивает стулья, а он как раз собачник, и собаки его любят, всегда крутятся возле него, а в этот раз какая-то новая псина, я в породах не разбираюсь, лохматая такая, и вдруг подошла ко мне и села рядом, смотрит так… И я посмотрела ей в глаза, и знаешь, странная вещь, никогда со мной такого не было, какой-то вдруг «клик», как с человеком, какая-то вдруг неожиданная близость, как будто узнали друг друга. И она еще так голову наклонила… В общем, теперь каждый раз, как я заходила утром в кафе, она уже ждала меня, подходила к столику и садилась, или ложилась рядом. Меня это так тронуло, что я сказала Ади, сыну хозяина, странно, говорю, никогда я собак не любила и даже внимания на них не обращала, а эта так странно смотрит, как в душу заглядывает, и привязалась…
А он говорит: «Да она слепая».
Юдофил
«История не кормит, а убивает», – сказал отец, когда я вознамерился идти в Университет на исторический, и тут же перечислил сгинувших родственников, неосмотрительно вступивших на скользкую «идеологическую» стезю. «Хватит с нас историков», добавил он. А я зачитывался университетскими учебниками и хрестоматиями по древней истории, как романами.
Тяга к первоисточникам завела в лабиринт нелегальной торговли книгами. Здесь велась волнующая охота за объявленными и сразу исчезающими изданиями Светония, Плутарха, Тацита в «литпамятниках» или за раритетами «ACADEMIA» начала тридцатых (однажды мне достался «Макиавелли» 34-го года с предисловием Каменева и стал с тех пор одним из моих любимцев), за дореволюционными изданиями энциклопедий и классиков философии. В этой погоне за книгами было все: страсть открытий, вызов тоталитаризму, жажда приключений, пороки зависти, жадности и азарта, даже мелкая уголовщина, ибо в ход, кроме обычного и малоэффективного накопления средств, шли надувательства, кражи, карточная игра и любовные обольщения, и всё – ради сладчайшего из наслаждений: ты и книга поутру, в перекрученных простынях…
Как-то я наткнулся у Февра, в его «Боях за историю», на обидный абзац: «Я люблю историю. Если бы не любил – не стал бы историком. Разрывая жизнь на две части, одну из них отдавая ремеслу, сбывая, так сказать, эту часть с рук долой, а другую – посвящая удовлетворению своих глубоко личных потребностей, – вот что кажется мне ужасным…». Отец тому же учил: сначала ремесло, а в свободное время – делай что хочешь. Согласный с ним в оценке текущего исторического момента – воспитал-таки потомственный пролетарий антисоветчика и махрового реалиста – я понуро отправился «приобретать специальность» в Электротехнический институт Связи, и получил «внутреннюю раздвоенность» по полной программе.
Униженный компромиссом, я возненавидел этот институт, кишевший жизнерадостными соплеменниками, увлекавшимися турпоходами и дозволенной задушевностью студенческой песни, и детьми военных, слегка фрондирующих на тему «роли армии в государстве» (опала Жукова была не случайной: дряхлеющий отец народов обезглавил победившую армию). Если бы не Вадим и еще два-три маргинала, не чуждых гуманитарных интересов, и поговорить было б не с кем. А поскольку я глубоко презирал «технарей», то и девицы в институте меня отталкивали: в их преданности учебе мне чудилось раболепие.
Но одна достойная внимания особа в институте все же была. Лена Харитонова. Она училась на пятом курсе параллельного факультета и на «филодроме», огромном балконе на втором этаже, где на переменках собирался институтский бомонд покурить, позлословить, всегда была окружена стайкой поклонников, а на выходе из института ее частенько встречали уже совсем взрослые ухажеры, иногда на машинах. Трудно указать на что-то определенное в ее внешности, что объясняло бы причину такой популярности: красоткой она не была, впрочем, дружно утверждалось, что фигура – «классная». Мне она нравилась независимостью, тем, чего у меня отродясь не было, а ей, судя по осанке, походке, по улыбке – просто далось в наследство. Я глаз с неё не сводил.
На втором курсе розовые мечты перейти в Историко-Архивный (я жил ими весь первый курс) потускнели, от тоски я стал сочинять стихи, поселившись на последней парте и заглядываясь в окно, то на дождь, то на снег, то на листопад. Друг Вадим, который тоже «пописывал», беспощадно одобрял мои пробы пера, и, прогуливаясь по бульварам от театра Советской Армии до Рождественского монастыря с выходом в конце концов к Малому, мы читали друг другу стихи, делились сердечными тайнами, философствовали.
Стихи были все больше об осени («Осень медная, надменная, ведьма милая моя…»). Теперь, перечитывая, мне кажется, что их писал какой-то другой человек… «Только змеи сбрасывают кожи, чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи, мы меняем души, не тела». Вадим очень любил Гумилева, переписывал ходившие по рукам машинописные копии и эту «Память» («Память, ты рукою великанши жизнь ведешь, как под уздцы коня, ты расскажешь мне о тех, что раньше в этом теле жили до меня») читал мне сотни раз, потому и запомнилось. Я Гумилеву не поклонялся: демонстративный романтизм отпугивал меня, романтика «в душе», как публичный дом – мечтателя-девственника, но Вадим декламировал его, особенно выпив, с таким вдохновением, порой со слезами, а слезы поэта, черт возьми, заразительны, что и я умилялся. Особенно трогало меня это: «Сердце будет пламенем палимо вплоть до дня, когда взойдут, ясны, стены… стены Иерусалима…» В этом месте мы уже не сдерживали дружных рыданий, только я «тайно», вместо «стены Нового Иерусалима» (здесь я слышал неправильный размер, да и руины Нового Иерусалима, куда я таскался к Тане на электричке, не будили во мне слезы «святой любви») повторял дважды слово «стены», шепча: «стены… стены Иерусалима…». Тем более что в стихотворении речь шла, конечно, о горнем Иерусалиме, а мне хотелось плакать о дольнем. Так что мы рыдали дружно, но каждый о своем.
(А здесь осенью зреют на пальмах финики, и их могучие красные гроздья среди серых, иссушенных бесконечным летом, надломленных под тяжестью урожая ветвей, горят в вышине, в беспросветной лазури…)
Осень – мистерия смерти. Чтоб не забывали о том, что смерть – это всего лишь жатва. Не таков ли и труд историка? Когда тебе житейские бразды, труд бытия вознаграждая, готовятся подать свои плоды и спеет жатва дорогая, и в зернах дум ее сбираешь ты, судеб людских достигнув полноты…
В молодости смерть людей или увядание природы только подчеркивает победоносную силу собственной жизни. И любовные ритуалы особенно сладостно справлять осенью: целуешь румяную от холода деву, а под ногами похрустывают иссохшие жилы «багровых сердец», сброшенные с ветвей где-нибудь в Филях, или в Сокольниках. Осень – ритуал вечного возвращения. «И с каждой осенью я расцветаю вновь…» Природа нас утешает.
Стал ли я с тех пор меланхоликом? Нет, пожалуй. Но я меланхолию возлюбил.
Экклезиаст решил польстить меланхоликам насчет «сердце мудрых – в доме плача, сердце глупых – в доме веселия». Так-то оно так, однако, и у «веселия» своя мудрость. Веселые живут сегодняшним днем, а грустные вечно заглядывают в будущее или оглядываются на прошлое. Но мечтательность не мудрость, скорее, страх перед каждодневной жизнью, которая – как прогулка по брёвнам, сплавляемым по реке: каждый шаг грозит падением в хладную влагу Леты. Веселые любят всех, а грустные – только себя и потустороннее, к которому приводит мечта обрести незыблемое. Даже в женщине эти «узники плоти» ищут какую-то тайну, магию. Продление рода для них оскорбительно, они жаждут продлить себя. В вечность. Усилием творческой воли. «Горче смерти женщина, потому что она – сеть, и сердце ее – силки, руки ее – оковы». Проклятый дуализм. Не иначе как единобожие поломало нам здоровую сексуальную жизнь.
Теперь я думаю, что русские – самый меланхолический народ, и русская словесность, та, старая, ядовито меланхолична. Для них и любовь к истории – лишь дань меланхолии. Нет в ней «пафоса Пути», как говаривал Петр Наумович, нет этой еврейской воли к обновлению. Даже среди евреев-русских поэтов меланхолия не господствует. Мандельштам торжественен. Крутая соль торжественных обид. А Пастернак и вовсе был оптимистом (хлёсткое словечко), «сестра моя, жизнь» – более еврейского названия для книги не выдумаешь… Разве что Исаак Левитан вместе с осенним дымом наглотался тоски тусклых просторов.
Со временем, уже в Израиле, меланхолия у меня прошла. Усохла на этой жаре и потеряла вкус. Только запах остался, внезапный, головокружительный запах разбуженной памяти, гниющих листьев…
Как-то раз в солнечный апрельский день я поехал в Измайлово, где временно, после разгона на Пушкинской и около «Ивана Федорова» (власти, видно, решили взяться за книжный рынок), разместилась толкучка. Я искал Библию – пора было как-то прикрыть зияющую брешь в знакомстве с собственной историей и мировой культурой. Библия стоила минимум пятьдесят рублей, две стипендии, у меня была только двадцатка, но были книги на обмен; в крайнем случае, я был готов расстаться и с «кровными».
Толкучка расположилась по обе стороны протоптанной дорожки, вдоль которой еще чернели затвердевшие сугробы, сотни ног месили весеннюю грязь, поскользнувшись, кто-то иногда падал, вызывая короткое замешательство. Продавцы держали часть книг на газетках, расстеленных на подсохших залысинах земли или на заледеневшем снегу, часть – под мышкой, а особо ценные – в глубоких внутренних карманах старых пальто, на такие мероприятия народ одевался непритязательно. Я ходил вдоль разложенных книг, как сладострастник на рынке невольниц: каждую мне хотелось потрогать, полистать, почитать. При этом я не забывал о цели своего визита. Наконец, один небритый и неряшливый иудей посоветовал мне обратиться к «собирателю иудаики», которого он сегодня видел на рынке, иудей вкратце описал этого «собирателя» и то место, где он его видел. И я действительно нашел там мужичка, соответствующего описанию: небольшого роста, лет шестидесяти пяти, аккуратно одет, без шапки, с коротким седым бобриком. Подмышкой он держал несколько книг, прижав их предплечьем. (Диалоги и другие подробности я восстановил по старому дневнику.)
– Извините, мне сказали, что вы собираете иудаику…
– Вам нужны книги по еврейской истории? У меня есть Грец, Дубнов, Ренан…
Сердце моё встрепенулось, но это всё были вещи по цене неподъемные.
– Собственно я ищу Библию.
– Библия есть только миссионерская (карманный формат с мельчайшим шрифтом, он-то и стоил полтинник), цена стандартная. Не здесь, дома. А на древнееврейском вам не нужно? – Он вскинул на меня иронический взгляд. – Есть роскошная.
– Если вы готовы на обмен, хотя бы частичный… – я пропустил его выпад насчет древнееврейского мимо ушей.
– А что у вас есть на обмен?
Мы все еще выясняли возможности сделки, когда на толкучку, внезапно, как ветер, налетела тревога облавы. Народ бросился по узкой протоптанной дорожке, толкаясь, падая, топча книги, «спекулянты» в панической спешке собирали товар со своих импровизированных прилавков, кидали в рюкзаки, распихивали по карманам, ныряя кто в толпу, кто в лес. Я видел, как книги падали в мокрый снег, беспомощно распахнувшись, нежными страницами в снег, сокровища, тут же затаптываемые в грязь. Мы побежали вместе с «собирателем иудаики» – я все еще рассчитывал на сделку – он бежал бодро, не отставая, почти деловито, чему-то ухмыляясь при этом. Незаметно было, чтобы он испугался.
Только в метро мы смогли перевести дух и познакомиться. «Петр Наумович», – представился он и дал мне свой телефон.
В назначенный день, в семь вечера, с двадцатником в кармане и Тютчевым 1913 года в сумке, я зашел по данному мне адресу, с удивлением отметив массивный сталинский дом с балконами на Проспекте Мира, просторное парадное и чистую лестницу. Каково же было мое изумление, когда дверь мне открыла Лена Харитонова. В небрежно расстегнутой кофточке и брюках. Я подумал, что грежу. Она подняла брови, узнав одного из своих вздыхателей, и улыбка едва тронула ее губы.
– Извините… – промямлил я, – Петр Наумович… здесь живет?
– А-а, вы к дедушке? Его сейчас нет.
– Он просил меня зайти к семи…
– Но еще без четверти.
– Да, действительно… Я боялся опоздать, извините…
– Да вы заходите. Подождите его. Раз он сказал, что будет к семи, значит будет.
Большая гостиная, старая, добротная мебель, два могучих книжных шкафа, к которым меня невольно потянуло.
– Вы не в институте Связи случайно учитесь? – спросила Лена.
Я улыбнулся, обрадованный разоблачению.
– Понятно, – кивнула головой Лена и тоже улыбнулась.
Разговорились. Потом она предложила закурить, но я сказал, что не курю. Она удивилась. Чтобы показать, что я не такой уж пай-мальчик и книжный червь, я сказал, что из-за спорта, боксом занимаюсь. Это признание тут же показалось мне самому хвастливым, и чтобы загладить это впечатление я стал скороговоркой рассказывать про нашего тренера Никифорова, какой он чудный старик, в 25-ом был чемпионом России в полутяжелом, да и сейчас еще, когда руку выбрасывает, лучше рожу не подставлять, а если ей интересно, то завтра в четыре в нашем спортзале будет матч с Энергетическим, первенство Москвы среди вузов, поскромничал (скромные знают, почему они скромны, говаривал Гете), что в сборную попал случайно: заболел наш постоянный, во втором полусреднем. Я как-то позабыл даже, что мне наверняка набьют морду (когда Никифоров предложил мне выступить, я даже думал отказаться – в сборной МЭИ мог попасться чуть ли не мастер спорта, а тогда – выносите мебель). Мое вдохновение прервал хлопок двери в прихожей. Через минуту в комнату вошел Петр Наумович, в распахнутой генеральской шинели, весь в орденах, как новогодняя елка, и немного подшофе. Щелкнув каблуками, он отвесил мне поклон. Я был совершенно поражен и застыл возле книжного шкафа. Лена помогала ему раздеться.