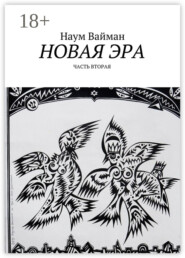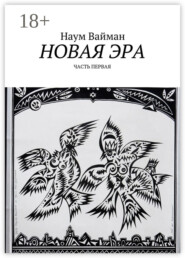По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Похвала любви. Истории и притчи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Запишите мой телефон.
Через пару дней я позвонил, пригласил в кино, но мне было сказано, что времени шляться по кино у научных работников нет, но я могу заскочить к ней домой, да хоть сегодня, и чтобы стихи не забыл. Окрыленный быстрым успехом (никаких сомнений в том, что меня не чаи гонять пригласили) и одурманенный фантазиями о пышнотелой и должно быть многопытной Эльвире (несколько беспокоило отсутствие разведданных о ее семейном положении, но, предположительно, оно должно было быть неопределенным), я трясся в заиндевевшем трамвае, дело было в морозном и ветреном феврале, и почти не заметил, как рядом со мной ухватилась за поручень чья-то рука в вязаной рукавичке, и при первом же резком торможении на меня упала ничем не примечательная девица в стареньком, небось ещё материнском пальто с пушистым воротником, с лицом, закутанным шарфом, который сбился и обнажил маленький ротик. Девица, покраснев, извинилась, мы разговорились. Оказалась лаборанткой на химическом заводе, и я потащился провожать ее на край Москвы, в какую-то жуткую рабочую коммуналку, плюнув на Эльвиру, отдав, так сказать, предпочтение молодости. И не прогадал. А когда, притомившись, попытался вздремнуть, то ее нежные и быстрые поцелуи вдруг запорхали по моей спине, как будто ее облюбовал рой бабочек – восхитительное ощущение, и я оказался совершенно пленен этой аристократической лаской. С этого момента мы с Женечкой миловались года два с перерывами, но с неизменным энтузиазмом: видимо, я как-то угадал под этим нелепым пальто гибкую, тоненькую фигурку и жадную щель, истекающую злым клеем. Энтузиазм, чисто физиологический, был так велик, что она даже решила, что я женюсь на ней, бедная деревенская девочка… Помню, как однажды встречал ее после работы, и когда приметил в клубке девиц ее юркую попку, все во мне, от пояса и ниже, замерло от вожделения и гордыни – моя!
А Эльвире я потом позвонил, извинился, сказал, что подвернул ногу и пока добрался домой уже поздно было и неудобно звонить… Поехал к ней через несколько дней. Она жила в однокомнатной аккуратной квартире: приличная мебель, стены – плотно-плотно в картинах и рисунках, книги, альбомы, в основном иностранные. Такие альбомы были в Москве социально значимы. Пока она готовила чай, я, сев на диван, впился в один из них, какого-то сюрреалиста (в живописи я был неразвит, но старательно «приобщался»). Живопись было не разглядеть: в комнате царил интимный полусумрак – горела только лампа на письменом столе, прикрытая абажуром —, но разрушать эту интимность вовсе не входило в мои намерения. «Что же вы в темноте!» – сказала она, подкатив к дивану столик на колесиках. Я сразу бросил альбом, а то еще, не дай Бог, свет включит, и взялся за чай. Столик на колесиках мне понравился: культурно. Она села рядом, и я, не откладывая дел в долгий ящик (отложив только чай), набросился на нее, как Шерхан на буйвола Раму: слишком долго воображал себе эти пышные телеса (да-да, рубенсовские!). В полных женщинах есть своя прелесть, в этом тайном желании утонуть, пропасть в волнах плоти…
Конечно, это был нерасчетливый, а значит и неправильный ход (не надо думать, что мы действовали тогда как-то особенно ловко, или продуманно, нет, скорее наоборот, и неудач было множество, метод был статистический, рыболовецкий: знай себе закидывай сети, кто попался, тот и молодец, а прорехи чинить – дело плебейское, чего мелочиться, вона рыбы-то в море сколько!).
Эльвира не то чтобы возмутилась, но отнеслась к моему наскоку со снисходительным пренебрежением, мол, понимаю, дело молодое, но я все-таки кандидат эстетических наук… Она мягко, но твердо стряхнула меня с себя, тем более что чисто технически трудно было обхватить ее и тиснуть как следует, выдохнула: «Однако», и перевела беседу на искусствоведческие рельсы. Показала большой иностранный альбом Ф., о котором пишет работу, сказала, что это великий художник, к сожалению, малодоступный для зрителя, назвала его Мандельштамом в живописи, что судьба его, после того как вернулся в СССР, была трагичной, а я с удивлением обнаружил в альбоме «Турчанку» и «Автопортрет в тюбетейке», висевший у «старушки» на противоположной стене. Сказала, что на днях увидит Т. и покажет ему мои стихи, вновь повторила, что они достойны публикации, поучала, что очень важно публиковаться, мол, дорога ложка к обеду, а я, изобразив революционера, прочитал ей лекцию на тему «служить бы рад, прислуживаться тошно», она возражала: мол, искусство служит народу, а не власти, поэтому, чтоб до народа «дойти», надо уметь власть «обходить», а я ей: устанешь обходить, ну и т. д. Завершив чаепитие и воспользовавшись паузой в дискуссии, я вновь двинулся на штурм рыхлых высот, почти безнадежный, из принципа, на этот раз схватка была долгой и мучительной для обеих сторон, уже и кофточка у нее была расстегнута и одна грудь выпростана из своей лунки в обширном твердом бюстгальтере (вторая так и застряла), и юбка задрана выше пояса, и ноги намяты до синяков, и даже трусы покосились, но она не сдавалась, глухо и упорно боролась, пыхтела: «Ты сумасшедший, перестань, перестань, ко мне должны прийти, не сейчас, не здесь…» Последние «аргументы» меня особенно возмутили: если «не здесь» и «не сейчас», то когда? В конце концов, органон не выдержал, тем более, что я все время терся об нее, пытаясь таким образом расшевелить залежалую чувственность, и выплеснул драгоценный жизненный эликсир в холодные просторы Вселенной. И перед всеми пролил семя, так кажется, писал классик. В пролитии эликсира, конечно, не было ничего экстраординарного, сколько уж было пролито понапрасну, буквально походя, но меня удивила ее, после всего, невозмутимость, деловитость и даже какая-то материнская заботливость: принесла полотенце, спросила, не хочу ли принять ванну. Я же был охвачен таким раздражением и омерзением к самому себе, что, кое-как приведя себя в порядок, удрал.
Вы думаете, на этом все кончилось? Отнюдь. Хотя, как я впоследствии убедился, если уж пошло у тебя с человеком, особенно с женщиной, вкривь и вкось, так и будет всегда, лучше судьбу не насиловать. Но именно этого рода отношения с судьбой я как раз и практиковал всю жизнь с маниакальным упорством. Судьба тебе: «нет», а ты все прешь и прешь на нее, все тянешь трусы вниз, все пытаешься втереться в доверие, зажечь, переломить… Вот и с Таней тоже все сложилось премерзко. К великому советскому скульптору я, конечно, зашел, Таня меня представила, мастер, он как раз собирался уходить, предложил мне попозировать ему для какой-то скульптурной группы, за деньги, чин-чинарем, расценки у него были соблазнительные, но я чего-то засмущался сдуру, сослался на занятость. «Подумайте, подумайте», – сказал он и убежал. Таня гостеприимно пригласила меня на обзорную экскурсию. Размеры студии, заставленной скульптурными работами, эскизами, материалами, меня поразили: огромный зал, залитый светом – полкрыши было из стекла – куча подсобных помещений со всякого рода поделками, копиями, учебными формами. Я приглядывался: где бы тут, и как бы этак с максимальной непосредственностью… и когда мы остановились в одной боковой комнате, где было что-то вроде кухни, а на полу валялась пара старых матрасов, я, разыгрывая решительность, хотя эта хладная дева больше злила меня, чем привлекала, обнял ее и полез целоваться, втайне надеясь, что меня презрительно отвергнут. Но Таня неожиданно проявила странную, при абсолютном равнодушии, податливость (вместе с какой-то «академической» заинтересованностью моей наготой, так что у меня даже возникло подозрение, что она таким макаром отбирает шефу натурщиков), и я, желая сбить с нее эту маску непричастности, которую принимал за спесивость, завалил анемичную мадонну на эти матрасы и воленс-ноленс завладел чужеродным телом. Кажется и для нее самой оно было не вполне родным. На все мои напыщенные старания она только что-то невнятное промычала один раз, и, может быть! или мне показалось, лицо ее едва порозовело, будто холодный ветерок обжег щеки спящей красавицы. Я ушел просто взбешенный.
Зато цыганочка Мила позвонила мне сама. (У Зюса что ль телефон взяла? Зюс мне об этом не доложился.) Пригласила в кино, в кинотеатр «Варшавский», на «Зеркало». Я уже видел этот фильм, но пошел, все равно ничего в первый раз не понял. Тогда все говорили о «Зеркале», спорили и мы после фильма: она считала, что «поэтично», а я говорил: «выпендривается». В метро, в плотно набитом вагоне нас прижало друг к другу, я обнял ее, и мы всю дорогу целовались. «Хочешь зайти?» – спросила она у своего парадного. «Только очень тихо, я не хочу чтобы…» Я на цыпочках пробрался в ее комнату.
– Кто-то пришел?! – громко спросила «старушка».
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: