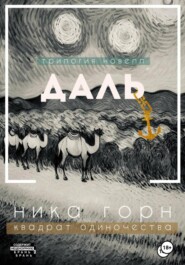По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Если путь осязаем
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Если путь осязаем
Ника Горн
А где-то там живет девочка с цветочной кожей и хрупкими изгибами. Где-то там ее звонкая улыбка отражается не в моих глазах. Она печалится в сонный октябрь, светиться в изнуряющую жару. Эта прозрачная девочка так далека от меня, такого вросшего ступнями в мерзлую явь. И я уже еле различаю ее искристые очертания. Я слишком не хотел превращать ее в повседневность. Она слишком стремилась заполнить всю мою реальность. Я боялся. Она ждала и таяла. Однажды. Весной.
Содержит нецензурную брань.
Ника Горн
Если путь осязаем
Кто не любит одиночества, не любит и свободы.
Артур
Шопенгауэр
ГЛАВА 1. Порывы
Если можешь, беги, рассекая круги,
Только чувствуй себя обреченной.
Стоит солнцу зайти, вот и я
Стану вмиг фиолетово-черным.
Hет, не хватит еще и еще.
Hет, не хватит, ведь было такое.
Он лица беспокойный овал
Гладил бархатной темной…
Фиолетово-черный, Пикник
«Переполненный трогательными и шутливыми нотами счастливый Дебюсси, посвящая своей трехлетней баловнице журчащую сюиту, и не мог вообразить, что столетие спустя его порыв станет настоящим убежищем для одиночества тревожного возраста, не знавшей отеческой отрады…»
Вибрация смартфона, призывающая немедленно озвучить входящее сообщение, вторглась в чудотворный процесс материализации текста и рванула внимание диктующего голоса на экран:
– Как же я вас обожаю! Нет слов! – прочитал достигший в свободном падении плотных слоев фантазии голос сущую банальность, которую он, впрочем, ждал уже третьи сутки. Затем, бегло примерив на себя остроту возможных реакций, выдержав паузу в десять вдохов, голос выбрал наиболее едкую по составу реплику и, не без усилия сдерживая подкатившую волну ярости, выдал ее в чат:
– Гой еси, не ждали, – язвительно продиктовал голос, а его подопечная послушно набрала текст подрагивающими пальцами и направила его в сторону «запретной зоны».
– Извините, забыл, что порывы нужно согласовывать, простите, пожалуйста, – паясничала в ответ «запретка».
– Порывы?! У вас давление скачет? – голос был готов к провокации и импровизировал, не выходя из потока видений. Он продолжал блуждать по мелодичному лабиринту сюиты Дебюсси, припоминая высказывание какого-то окологениального композитора о том, что более всего он ценит в своем математически выверенном ремесле не гармонию ритма и тона, а не что иное, как паузы. Ведь музыка, лишенная пауз, утомительна и навязчива.
– Откуда я это знаю? – спросил голос сам себя. Он любил не просто знать, но помнить, на какой полке хранится знание, когда и откуда оно там появилось.
В комнате царило закатное вдохновение и ароматное звучание дуэта органической розы с марокканским нероли. Парижское солнце клонилось к горизонту за неплотно закрытыми чуть потертыми бархатными гардинами цвета пыльной травы. Оно изящно расположилось на балкончике с изогнутым будто в танце ограждением, заботливо согревая нарядную копну клематиса, обрамляющую эллипсовидные перила. С улицы доносился шум открытого кафе и редкое эхо проезжающих по узкой полосе авто.
– Ах, да. Летти Кауман. Сорок третий ярус, восьмой ряд справа, зима 2013, – не отводя взгляд от полоски света на стене, вспомнил наконец занудливый диктор и тут же повелел отыскать в сети тот самый отрывок из «не написанной, но рожденной книги "Потоки в степи"». Пальцы метнулись по клавишам и спустя несколько секунд предъявили нужный пассаж:
«Паузы – это не музыка, но без пауз не бывает музыки. Бывает, что песнь нашей жизни прерывается "паузой", и мы, не понимая, что произошло, считаем, что песнь нашей жизни окончена…
…Что делает музыкант во время паузы? Он продолжает отбивать ритм, считая время, чтобы взять следующую ноту правильно: вовремя, не нарушая мелодию».
Не успел диктор насладиться содержанием прочитанного, как философский ажур был вновь нарушен бесцеремонными позывными с вражеской стороны:
– Нет, вроде. ПОРЫ?В – Мужской род. Сильное мгновенное проявление какого-н. чувства; душевный подъем, сопровождающийся стремлением сделать что-то, – последовало сухо скопированное из электронного словаря поучение.
Вечер, будь он неладен, переставал быть. Словарный сopypaste выдернул автора из контекста и вернул на шестой этаж здания образца начала 18-го века, в одинокий, пусть и роскошный гостиничный номер. Амазонка вышла на балкон, потянулась, понежилась в теплоте косых лучей, опустилась в плетеное кресло и приготовилась к атаке. Для начала она извлекла из памяти стопку аргументов из ранее сохраненного на подобный случай файла и одобрительно подмигнула своему же отражению в режиме портретной съемки вместо команды «Огонь на поражение!»:
– Порывы?! И что у вас там стремление даже нашептывается? Чур меня, показалось, – прицеливалась атакующая, настраиваясь на лобовую.
– Что именно показалось? – повинуясь принять все, что уготовлено ему на этот раз, уточнил обреченный.
– Нет у вас ни порывов, ни стремлений, – метко щелкнул голос и с ходу попал в чуть дрогнувшую цель.
– Пфф, я почувствовал обожание и необходимость сообщить об этом, что немедленно сделал.
– Одни фантомы в вашей голове.
Закрепив цель на мушке, диктующий голос с отточенной годами тактикой наносил один за другим удары ловко раскрученным над собой свистящим кнутом обиды.
– Как скажете, – предвкушая не менее хлесткое продолжение, противник мысленно поправил выбившийся локон ее молочно-шоколадных волос за правое ушко, умиляясь ее нынешней горячности.
Они проходили эту стадию неприличное количество раз, и каждый из участников поединка безупречно знал свою роль. Поэтому всё шло как по маслу.
– А ваш порыв связан исключительно с чувством вины. За то, что вы не выполняете обещаний. За то, что вы забываете про обещания. За то, что вы знаете, что я вам этого не прощу.
– Нет. Даже не рядом. А чувство вины, даже если бы оно пыталось пробиться наружу, вы уничтожаете с завидным постоянством своими выходками.
– Какими такими выходками?! Что за голословность?! Обожаете?! Так будьте любезны мне хоть издали дать почувствовать это ваше обожание. А то его как ветром сдуло на второй же реплике.
– Да, та же Серафима.
– Серафима – это не выходка, это моя ответственность и мое право. Никакой цели, кроме как поднять ей настроение и узнать про ваше детство, я не преследую. В вашу семейную трагедию я не лезу и никак не стараюсь на нее влиять, более того, прошу меня не посвящать в подробности вашего нынешнего бытования. Я всего-то имею наглость делать заметки о ваших былых семейных трагедиях. Если бы вы мне хоть раз пояснили причины вашего гнева, я бы имела основания для корректировки цели. Почему вы называете мою добрую волю выходкой, мне не ясно и крайне оскорбительно. Ваша маман не знает ничего о том, что ее безупречный сыночка плотно подсел на мой контент, и от меня никогда не узнает, если вас это беспокоит. Обмануть и запутать меня у нее не получится, слишком коротка ее память, и временные дыры в ней слишком очевидны. И потом обмануть можно только в случае, если бы я намеревалась ее использовать в некоем хитроумном плане. Но у меня его нет. Даже если предположить, что она постоянно притворяется и пользуется моим доброволием, мне ни капли от этого не обидно. Мне от этого никак. Мне приятно быть в вашем пространстве. Приятно трогать ваши книги, смотреть в зеркало, которое видело вас двадцати лет от роду.
Голос закрыл глаза и легко перенесся из уютного кресла двадцатых годов 21-го века на жестковатый диван в панельном доме восьмидесятых годов 20-го века, в свою двадцать первую весну, и продолжил:
– Я считываю вас там с каждой вещи, вижу вашу тень при каждом медленном повороте головы.
Голос органично пребывал в двух измерениях одновременно. Он виртуозно пробирался сквозь плотные слои памяти, извлекая запахи, образы и звуки из их единственной встречи в квартире той самой Серафимы.
Вот молодой озадаченный Герман в темной гостиной на полу подпирает спиной шкаф в позе с картины «Демон сидящий». Кудрявая челка спадает на лоб. Прижимаясь губами в задумчивости к правому плечу, он смотрит в окно. Крупные желтые капли стекают по стеклу, отмеряя самые первые минуты того, что не должно было случиться. Мысли о невозможности происходящего и отсутствии плана действий на случай, если она все-таки решится прийти, одолевают влюбленного Германа, мешают определиться с тем, как ему быть с внезапно очутившейся в его квартире Кирой, притаившейся на диване по левую руку. Тусклый экран телевизора подсвечивает растерянный профиль сидящего. Демонстрируемый на экране экшн давно отчаялся увлечь присутствующих остросюжетным содержанием. Оба несущихся галопом сердца предельно сконцентрированы исключительно друг на друге. Молодой человек старается выглядеть спокойным, даже что-то напевает, всей своей позой подавляя терзающие его опасения. Он уверен, что Кира либо не поймет, обидится и больше не придет, если близости в этот первый раз по его инициативе не случится, либо, наоборот, откажет ему, если он отпугнет ее излишней настойчивостью или робостью. При любом раскладе это будет крупнокалиберный фейл, после которого наступит крах. Герман отчетливо понимает, что он в ловушке, и всё же второй вариант кажется молодому человеку менее провальным. Еще пару минут, и он сократит расстояние до вытянутой руки.
В свою очередь гостья, интуитивно считывающая одолевающую хозяина дилемму, делает ставку на первый вариант, недооценивая голод курсанта. В то же время Киру переполняет любопытство и нетерпение, она незаметно забирается с ногами на незнакомый диван, избавляется от сдавливающего живот капрона, садится в привычную позу лотоса. Черно-белая твидовая мини-юбка с запахом стыдливо прикрывает узкие бедра ее с каждой минутой смелеющей обладательницы. Герман боковым зрением скользит по дивану, замирает, дойдя до колен, медлит, но уже принял оба варианта развязки…
Ника Горн
А где-то там живет девочка с цветочной кожей и хрупкими изгибами. Где-то там ее звонкая улыбка отражается не в моих глазах. Она печалится в сонный октябрь, светиться в изнуряющую жару. Эта прозрачная девочка так далека от меня, такого вросшего ступнями в мерзлую явь. И я уже еле различаю ее искристые очертания. Я слишком не хотел превращать ее в повседневность. Она слишком стремилась заполнить всю мою реальность. Я боялся. Она ждала и таяла. Однажды. Весной.
Содержит нецензурную брань.
Ника Горн
Если путь осязаем
Кто не любит одиночества, не любит и свободы.
Артур
Шопенгауэр
ГЛАВА 1. Порывы
Если можешь, беги, рассекая круги,
Только чувствуй себя обреченной.
Стоит солнцу зайти, вот и я
Стану вмиг фиолетово-черным.
Hет, не хватит еще и еще.
Hет, не хватит, ведь было такое.
Он лица беспокойный овал
Гладил бархатной темной…
Фиолетово-черный, Пикник
«Переполненный трогательными и шутливыми нотами счастливый Дебюсси, посвящая своей трехлетней баловнице журчащую сюиту, и не мог вообразить, что столетие спустя его порыв станет настоящим убежищем для одиночества тревожного возраста, не знавшей отеческой отрады…»
Вибрация смартфона, призывающая немедленно озвучить входящее сообщение, вторглась в чудотворный процесс материализации текста и рванула внимание диктующего голоса на экран:
– Как же я вас обожаю! Нет слов! – прочитал достигший в свободном падении плотных слоев фантазии голос сущую банальность, которую он, впрочем, ждал уже третьи сутки. Затем, бегло примерив на себя остроту возможных реакций, выдержав паузу в десять вдохов, голос выбрал наиболее едкую по составу реплику и, не без усилия сдерживая подкатившую волну ярости, выдал ее в чат:
– Гой еси, не ждали, – язвительно продиктовал голос, а его подопечная послушно набрала текст подрагивающими пальцами и направила его в сторону «запретной зоны».
– Извините, забыл, что порывы нужно согласовывать, простите, пожалуйста, – паясничала в ответ «запретка».
– Порывы?! У вас давление скачет? – голос был готов к провокации и импровизировал, не выходя из потока видений. Он продолжал блуждать по мелодичному лабиринту сюиты Дебюсси, припоминая высказывание какого-то окологениального композитора о том, что более всего он ценит в своем математически выверенном ремесле не гармонию ритма и тона, а не что иное, как паузы. Ведь музыка, лишенная пауз, утомительна и навязчива.
– Откуда я это знаю? – спросил голос сам себя. Он любил не просто знать, но помнить, на какой полке хранится знание, когда и откуда оно там появилось.
В комнате царило закатное вдохновение и ароматное звучание дуэта органической розы с марокканским нероли. Парижское солнце клонилось к горизонту за неплотно закрытыми чуть потертыми бархатными гардинами цвета пыльной травы. Оно изящно расположилось на балкончике с изогнутым будто в танце ограждением, заботливо согревая нарядную копну клематиса, обрамляющую эллипсовидные перила. С улицы доносился шум открытого кафе и редкое эхо проезжающих по узкой полосе авто.
– Ах, да. Летти Кауман. Сорок третий ярус, восьмой ряд справа, зима 2013, – не отводя взгляд от полоски света на стене, вспомнил наконец занудливый диктор и тут же повелел отыскать в сети тот самый отрывок из «не написанной, но рожденной книги "Потоки в степи"». Пальцы метнулись по клавишам и спустя несколько секунд предъявили нужный пассаж:
«Паузы – это не музыка, но без пауз не бывает музыки. Бывает, что песнь нашей жизни прерывается "паузой", и мы, не понимая, что произошло, считаем, что песнь нашей жизни окончена…
…Что делает музыкант во время паузы? Он продолжает отбивать ритм, считая время, чтобы взять следующую ноту правильно: вовремя, не нарушая мелодию».
Не успел диктор насладиться содержанием прочитанного, как философский ажур был вновь нарушен бесцеремонными позывными с вражеской стороны:
– Нет, вроде. ПОРЫ?В – Мужской род. Сильное мгновенное проявление какого-н. чувства; душевный подъем, сопровождающийся стремлением сделать что-то, – последовало сухо скопированное из электронного словаря поучение.
Вечер, будь он неладен, переставал быть. Словарный сopypaste выдернул автора из контекста и вернул на шестой этаж здания образца начала 18-го века, в одинокий, пусть и роскошный гостиничный номер. Амазонка вышла на балкон, потянулась, понежилась в теплоте косых лучей, опустилась в плетеное кресло и приготовилась к атаке. Для начала она извлекла из памяти стопку аргументов из ранее сохраненного на подобный случай файла и одобрительно подмигнула своему же отражению в режиме портретной съемки вместо команды «Огонь на поражение!»:
– Порывы?! И что у вас там стремление даже нашептывается? Чур меня, показалось, – прицеливалась атакующая, настраиваясь на лобовую.
– Что именно показалось? – повинуясь принять все, что уготовлено ему на этот раз, уточнил обреченный.
– Нет у вас ни порывов, ни стремлений, – метко щелкнул голос и с ходу попал в чуть дрогнувшую цель.
– Пфф, я почувствовал обожание и необходимость сообщить об этом, что немедленно сделал.
– Одни фантомы в вашей голове.
Закрепив цель на мушке, диктующий голос с отточенной годами тактикой наносил один за другим удары ловко раскрученным над собой свистящим кнутом обиды.
– Как скажете, – предвкушая не менее хлесткое продолжение, противник мысленно поправил выбившийся локон ее молочно-шоколадных волос за правое ушко, умиляясь ее нынешней горячности.
Они проходили эту стадию неприличное количество раз, и каждый из участников поединка безупречно знал свою роль. Поэтому всё шло как по маслу.
– А ваш порыв связан исключительно с чувством вины. За то, что вы не выполняете обещаний. За то, что вы забываете про обещания. За то, что вы знаете, что я вам этого не прощу.
– Нет. Даже не рядом. А чувство вины, даже если бы оно пыталось пробиться наружу, вы уничтожаете с завидным постоянством своими выходками.
– Какими такими выходками?! Что за голословность?! Обожаете?! Так будьте любезны мне хоть издали дать почувствовать это ваше обожание. А то его как ветром сдуло на второй же реплике.
– Да, та же Серафима.
– Серафима – это не выходка, это моя ответственность и мое право. Никакой цели, кроме как поднять ей настроение и узнать про ваше детство, я не преследую. В вашу семейную трагедию я не лезу и никак не стараюсь на нее влиять, более того, прошу меня не посвящать в подробности вашего нынешнего бытования. Я всего-то имею наглость делать заметки о ваших былых семейных трагедиях. Если бы вы мне хоть раз пояснили причины вашего гнева, я бы имела основания для корректировки цели. Почему вы называете мою добрую волю выходкой, мне не ясно и крайне оскорбительно. Ваша маман не знает ничего о том, что ее безупречный сыночка плотно подсел на мой контент, и от меня никогда не узнает, если вас это беспокоит. Обмануть и запутать меня у нее не получится, слишком коротка ее память, и временные дыры в ней слишком очевидны. И потом обмануть можно только в случае, если бы я намеревалась ее использовать в некоем хитроумном плане. Но у меня его нет. Даже если предположить, что она постоянно притворяется и пользуется моим доброволием, мне ни капли от этого не обидно. Мне от этого никак. Мне приятно быть в вашем пространстве. Приятно трогать ваши книги, смотреть в зеркало, которое видело вас двадцати лет от роду.
Голос закрыл глаза и легко перенесся из уютного кресла двадцатых годов 21-го века на жестковатый диван в панельном доме восьмидесятых годов 20-го века, в свою двадцать первую весну, и продолжил:
– Я считываю вас там с каждой вещи, вижу вашу тень при каждом медленном повороте головы.
Голос органично пребывал в двух измерениях одновременно. Он виртуозно пробирался сквозь плотные слои памяти, извлекая запахи, образы и звуки из их единственной встречи в квартире той самой Серафимы.
Вот молодой озадаченный Герман в темной гостиной на полу подпирает спиной шкаф в позе с картины «Демон сидящий». Кудрявая челка спадает на лоб. Прижимаясь губами в задумчивости к правому плечу, он смотрит в окно. Крупные желтые капли стекают по стеклу, отмеряя самые первые минуты того, что не должно было случиться. Мысли о невозможности происходящего и отсутствии плана действий на случай, если она все-таки решится прийти, одолевают влюбленного Германа, мешают определиться с тем, как ему быть с внезапно очутившейся в его квартире Кирой, притаившейся на диване по левую руку. Тусклый экран телевизора подсвечивает растерянный профиль сидящего. Демонстрируемый на экране экшн давно отчаялся увлечь присутствующих остросюжетным содержанием. Оба несущихся галопом сердца предельно сконцентрированы исключительно друг на друге. Молодой человек старается выглядеть спокойным, даже что-то напевает, всей своей позой подавляя терзающие его опасения. Он уверен, что Кира либо не поймет, обидится и больше не придет, если близости в этот первый раз по его инициативе не случится, либо, наоборот, откажет ему, если он отпугнет ее излишней настойчивостью или робостью. При любом раскладе это будет крупнокалиберный фейл, после которого наступит крах. Герман отчетливо понимает, что он в ловушке, и всё же второй вариант кажется молодому человеку менее провальным. Еще пару минут, и он сократит расстояние до вытянутой руки.
В свою очередь гостья, интуитивно считывающая одолевающую хозяина дилемму, делает ставку на первый вариант, недооценивая голод курсанта. В то же время Киру переполняет любопытство и нетерпение, она незаметно забирается с ногами на незнакомый диван, избавляется от сдавливающего живот капрона, садится в привычную позу лотоса. Черно-белая твидовая мини-юбка с запахом стыдливо прикрывает узкие бедра ее с каждой минутой смелеющей обладательницы. Герман боковым зрением скользит по дивану, замирает, дойдя до колен, медлит, но уже принял оба варианта развязки…